| |
— Ето всо говно, — говорил Эл.
Эл Планж был литовец, в Америке прожил год и по-английски говорил неважно. Вообще-то его звали Альминас Плунге, о чём он и сообщал всякий раз, когда его фамилию читал с листка супервайзер, выдающий наряды:
— Планж! Бери крайние ряды!
— Ploon-GEH, — про себя, почти шёпотом поправлял его Эл, а потом обращался к стоявшему рядом Северину: — Што такое «белые рады»?
— Не белые, а крайние, те, что по краям, — терпеливо объяснял ему Северин.
— Окей, — соглашался Эл.
Жил Эл в том же рабочем хостеле, куда устроился и Северин. Хостел назывался «Carillon Motor Inn», но мотель не напоминал ничем, а напоминал нечто среднее между лагерем бойскаутов и гулагом. Располагался он в обветшалом особняке — раньше, в эпоху джаза, томми-ганов и благословенного модерна, не отравленного ещё приставкой «пост-», это был богатый дом в богатом районе; но времена сменились, район обеднел, комнаты в особняке заставили двухэтажными койками и превратили в общежитие. «Свободных номеров для проживания нет», — возвещала табличка на ресепшене, постоянно пустом: видимо, это объявление предназначалось для случайного путешественника, который решил бы остановиться тут на ночь, не подозревая о реальном назначении гостиницы.
Следы блистательного прошлого особняка ещё проглядывали: на первом этаже посетителей приветствовала надпись «Bar & Lounge» над стеклянной дверью в полутёмный и пыльный зал, в котором вокруг старого телевизора стояли продавленные диваны и пуфики. Вдоль стен располагались обшарпанные деревянные шкафы, в которых можно было найти самые странные вещи: солнцезащитные очки из пятидесятых годов, пластмассовую копию статуэтки «Оскар», модель джамбо-джета с оторванным стабилизатором, старые ракетки для настольного тенниса и моток проволоки. На стойке бара стоял утюг, за стойкой — гладильная доска, а позади доски, в стеклянных шкафах — пустые и пыльные бутылки, бокалы и пивные кружки — напоминание о временах, когда здесь жили люди, которые сами утюг в руки не брали.
От тех же времён осталась и кухня: большая, с огромной десятикомфорочной плитой, зажигание которой требовало проведения ритуала, лишь немногим уступающего по сложности сатанинским, а также целой комнатой-холодильником. В номерах холодильников не было, так что холодильной комнатой пользовались все жильцы, и поэтому на стене висело объявление, грозно оповещавшее постояльцев о том, что воровство еды будет караться немедленным изгнанием из гостиницы Carillon. Еду при этом воровали все, в том числе и Эл; подозревали же в основном поляков, составлявших меньшую, но самую молодую и активную часть постояльцев. Поляков ненавидели за пьянки в гостиной, из которой всю ночь глухо громыхало диско-поло, доносились голоса и выкрики, а иногда и звуки потасовки. Набесившись, поляки разбредались под утро по комнатам, пьяно пшекая и натыкаясь в темноте на табуретки и тазики.
Спальные комнаты были заставлены двухэтажными койками, с верхнего яруса которых свисали футболки, полотенца, джинсы; по полу между тазиков и табуреток тянулись провода, в беспорядке стояли резиновые шлёпки. Пахло застойным потом, тяжёлым постельным духом. Северину и Элу относительно повезло жить в одной из меньших по размеру комнат — в вытянутом пенале с единственным окном, зато с отдельным санузлом. Видимо, в блистательном прошлом особняка это была комната для прислуги: сейчас почти всё пространство помещения заполняли четыре двухэтажные койки, между которыми едва можно было протиснуться. «Вот ведь как получается, — мысленно констатировал Северин, — раньше в эту комнату селили одного представителя рабочего класса, теперь — семерых, в перспективе восьмерых (одна койка пустовала). Что там писал Маркс? Тенденция к уменьшению нормы прибыли». Эл выражал ту же мысль иначе:
— Ето всо говно, — говорил Эл, когда они с Северином поздним вечером сидели в раскладных креслах в заросшем и неухоженном саду на заднем дворе особняка. Из открытых окон гостиной глухо бубнил телевизор, серые в ночи заросли таинственно колыхались, а перед сидящими в темноте смутно белела фигура обнажённой безголовой женщины — мраморной статуи, когда-то украшавшей давно неработающий фонтан, ещё один реликт блистательного прошлого мотеля «Carillon Motor Inn».
— Что говно? — переспросил Северин.
— Всо, — решительно заявил Эл.
Элу было тридцать семь лет, он был лысоват, худощав, носил футболку «Ramones», очки в тонкой оправе и имел полоумный взгляд. Он был нелегальный иммигрант, атеист, антисоветчик, немного художник, немного стропальщик, бывший пациент психиатрической больницы в Каунасе (так он косил от призыва в СССР) и, несмотря на предыдущее, вполне сумасшедший человек.
— Вот то, как мы живом, — пояснил, наконец, Эл, подобрав слова, и широким жестом указал на фигуру безголовой женщины. — Вот это всо. Это не шизнь. Это cough-cask!
— Что? — не понял Северин.
— Каф-кеск, — с нажимом повторил Эл.
— А, kafkaesque, — догадался Северин.
— Каф-кеск, — повторил Эл жутким голосом и указал на статую. — Вот што ето? Ето статуя бесголофой бапы. Потумай, Северин. Мы вес ден рапотали в порту, штобы фернуться сута, фернулись, сели в стулья, и кто нас фстречает? Бесголофая бапа. Это Кафка, Северин, — добавил Эл с театральным трагизмом.
— Взгляни на это иначе, Эл, — лениво сказал Северин, которого этот разговор немало забавлял. — Иные бы отдали неплохие деньги, чтобы смотреть именно на эту статую. Обрати внимание, что изначально эта была статуя Венеры Милосской, только с руками. Видишь, у неё в руках яблоко? Это Венера Милосская, как она была изначально. А теперь у той, изначальной, нет рук, а у этой руки есть, зато нет головы. Это, знаешь, своего рода поп-арт.
— Это poop-art, — решительно заявил Эл. — Всо говно. Снаешь, какая статуя пыла бы лучше?
— Ну? — заинтересованно обернулся Северин.
— Пез голофы и пез рук. Фсо отломать. Фот было п саепис.
— Так отломай ей руки, — предложил Северин. — Будет без рук и без головы.
Некоторое время Эл раздумывал над предложением, и Северин сам задумался — а вдруг сейчас бросится отламывать? С Эла бы сталось.
— Нет, я устал, — пожаловался, наконец, Эл. — У самого руки отфаливаютса.
— Я тоже устал, — сказал Северин.
Помолчали.
— Ты гофоришь, деньги, — снова начал Эл. — Я хочу иметь деньги, Северин. Я хочу красиво одеваться. Я хочу фкусно есть. Я хочу шить в нормальном доме. Я хочу не видеть каждый вечер бесголовую бапу, я хочу видеть каждый вечер головую бапу!
— В общем, у тебя американская мечта, — подытожил Северин.
— И я готоф са деньги упить, — сказал Эл.
— Ну и за сколько? — поинтересовался Северин.
— За тысячу долларов, — не раздумывая, ответил Эл. — Или за две.
— Так за тысячу или за две? Кто ж тебе станет предлагать две тысячи, если ты готов убить за тысячу?
— Всо зафисит, Северин. Зафисит, как упить, кого упить.
— А ты убивал, Эл? — лениво спросил Северин.
— Упивал, — неожиданно подтвердил Эл. — Я упил челофека. Это было ещё в Литфе. Я упил его стиральной машиной.
— Стиральной машиной?
— Я рапотал грусчиком. Снаешь, у нас в софетское время пыло сложно не рапотать, тепя могли посадить в тюрму. И я рапотал грузчиком. Мы несли по лестнице стиральную машину, я был сферху и фыронил её, она упала на моего тофарища.
— И раздавила его насмерть?
— Что? Нет, не насмерт. Сломала ему шею. Он остался калекой.
— И этому человеку позволяют здесь работать стропальщиком, — философски заметил Северин.
— Кому угодно сдесь позволяют рапотать стропальщиком, — откликнулся Эл.
— Так ты его, выходит, не убил?
— Как не упил? Упил.
— Потом, что ли? — не понял Северин. — Ещё раз уронил на него стиральную машину?
— Нет. Не фажно. Он всо равно что мёртв.
— А, в этом смысле, — поскучнел Северин.
— Та. Меня потом запекли в психушку.
— Я думал, ты косил от армии?
— Ето тоше. Там слошно. Слошно.
Ещё помолчали.
— Снаешь, — дрогнув голосом, сказал вдруг Эл. — Он федь читал Джойса.
— Кто читал? — не понял Северин.
— Мой тофарищ. Которого я убил стиральной машиной. Он читал Джойса. Нет, я всо-таки сломаю их! — и, вскочив, Эл бросился к статуе, вцепился в мраморные руки женщины, принялся по ним колотить — но руки были из цельного куска мрамора с остальным телом и просто так отломать их не получалось — статуя только тряслась.
— Да стой ты, дебил! — Северин вскочил из кресла, бросился вслед, принялся оттаскивать Эла от статуи. — Не ломай ты их, блядь! Нас взъебут обоих!
В общем, всё закончилось потасовкой.
Вечером, когда Северин уже засыпал на своей койке, Эл подошёл, отодвинул занавеску и скорбно прошептал в щель:
— Снаешь, Северин, исвини. Я нафрал.
— Ты не ронял на человека стиральную машину? — проворчал Северин.
— Што? Нет. Я ронял на челофека стиральную машину. Я нафрал в другом. Он не читал Джойса. Он украл у меня шенщину. А Джойса он не читал. Джойса даже я не читал.
— Я тоже не читал, — признался Северин. — Никто не читал Джойса. Все только врут, что читали. Иди спать, Эл.
— Савтра снова на рапоту, — печально сказал Эл, скипя ступеньками, забираясь на верхний ярус.
— Завтра снова на работу, — повторил Северин, поворачиваясь набок.
-
Ето всо говноНеписи опять правду жизни завозят.
-
|
А вопрос-то на самом деле был важный. Может быть, самый важный из всех, потому что, если разобраться, звучал он так — «ты циник или нет»?
Есть правило, которое Майки для себя вывел уже давно: никогда не доверяй цинику. Если человек хоть во что-то верит, он может предать, но циник предаст обязательно, как только это ему будет выгодно. Если для человека весь мир — рынок, на котором всё продаётся и покупается, то верность, идеи, убеждения не самоценны, а если и имеют цену, то рыночную.
И если бы сейчас этот быдлан ответил в том ключе, что люди — говно и ничего сами по себе не стоят, Майки бы понял: это циник, которому наплевать на всех кроме себя и, может, близких — да и тех лишь потому, что они являют собой его продолжение. Собственно, быдлан и ответил, что люди говно, но — вместе с ними и он сам. Это было не презрением к окружающим, а самобичеванием. «Разгребаем как можем» — вот что он добавил затем, и это дополнение Майки понравилось. Если быдлан говорил искренне, это были правильные слова.
Но, может, он говорил неискренне? Вполне вероятно. Но в подпольной работе есть ещё одно правило: людям нужно иногда доверяться. Это рискованно даже если уверен, что имеешь дело с единомышленником; это вдвойне рискованно, если не уверен, — но без этого никак. Если никому не доверять, скрывать истинные намерения от каждого, то никакой организации создать не получится никогда. Именно поэтому любые власти любого государства так любят внедрять в подполье провокаторов, а ещё больше любят, когда провокатор с треском проваливается, — каждый в подполье мгновенно начинает подозревать каждого, и организация рассыпается сама собой.
Играть в открытую, не понимая ещё толком, что это за человек, основываясь на одном размытом ответе, было само по себе безумием, но вдвойне безумием было говорить то, что Майки собирался сказать, в присутствии людей, о характере которых оставалось гадать. Ладно, этот, предположим, не сдаст: а тот злоебучего вида пацан-ирландец? А парнишка со стаканом, который сидит, как пришибленный? А эта байкерша? Что-то там про жетон они говорили: из бывших акабов она, что ли? Втройне хуёвые расклады — но какие альтернативы? Снова шкериться ото всех? Даже и были бы деньги на новые документы — заебало. Попытаться подмазаться втихаря, не открываясь? Не выйдет: ребята не такие, с этими надо играть в открытую. Играть и надеяться, что не ошибался.
А ещё очень, очень вдруг захотелось сказать открыто — «я враг государства», после семнадцати лет пряток сказать о себе так, как говорил в семидесятые. Это чертовски приятно было говорить тогда, и сейчас сказать это захотелось нестерпимо, будто затянуться сигаретой после многих лет завязки.
— Северин, — представился он, прямо глядя на быдлана. — Человек без фамилии, документов и денег. Я враг этого государства, Берт может подтвердить. Приятно познакомиться, — и протянул быдлану руку.
-
Отчаявшийся параноик - это что-то новенькое
|
4:30 утра,
За семь часов до разговора с Бертом,
Претсберри, окраина— Пока, Джим! — попрощался с Алексом водитель. — Удачи, — махнул ему рукой Алекс, подхватил пакет и побрёл по обочине. Здоровенный грузовик, на котором Алекс приехал из Миннесоты, прокатился мимо, просигналив на прощанье. Затекшие, окостенелые за ночь в машине ноги благодарно отзывались на каждый шаг. Во влажной, густой утренней тишине обочинный гравий оглушительно хрустел под ногами. За сиреневатым, мокрым после ночного дождя асфальтом тонули в утреннем тумане поля, но по эту сторону трассы уже начинался город — склады, автомастерские, вымерший, глядящий тёмными витринами автосалон. Рыжая в утреннем свете стена какого-то складского здания была наискось перерезана тенью, что придавало пейзажу некий анархо-капиталистический колорит. Алекс измождённо провёл ладонью по липкому от сонного пота, небритому три дня лицу, глубоко вдохнул отдающий гарью и острой утренней свежестью воздух. После шаткого, тряского дорожного сна мир казался скособоченным, будто Алекса выдернули из него и вставили снова, но наперекосяк. Утренний холодок чувствительно забирался под безразмерную футболку с плюшевым мишкой. Хоть бы один, хоть бы одна сволочь по пути спросила, почему мужик ходит в такой футболке: никто не спрашивает, все просто странно смотрят. Чёрт с ними. В пути, тем более автостопном, большие вопросы жизни отступают на второй план — весь день становится поделён на маленькие задачи, которые нужно решить сейчас: найти удобную точку для стопа, дождаться машины, доехать, попытаться хотя бы чуть-чуть поспать в пути, а вот сейчас — умыться и найти, где поесть. Не ел Алекс со вчерашнего вечера. 5:15
Претсберри, Северный СпаргрэкГород был ещё по-утреннему мёртв: гулко прокатывался треск одинокого мотора вдалеке, свежий ветерок носил обрывки бумаги, полиэтиленовые пакеты по разбитому асфальту. Ярко и по-летнему резко лежали тени на исписанных тегами кирпичных стенах, на рольставнях, закрывающих двери магазинов и ресторанов. Одно место, впрочем, было открыто: круглосуточный «Сабвэй», задрипанный и жалкий, с продавленными диванчиками, из которых лез поролон, с сонным работником за стойкой и спящим в углу за столиком бродягой. Алекс с купленным 12-дюймовым сэндвичем и стаканом колы устроился в другом углу. Тихо играла музыка: Мадонна пела о каком-то тропическом острове Сан-Педро, где весь день играет сальса, а солнце весело сияет над головой, где нет забот и все друг друга любят. Алекс жевал сэндвич, поставив локти на стол и без выражения глядя перед собой. Песня закончилась, заиграла реклама, мерно забубнил голос диджея. Время утренних развлекательных шоу ещё не настало: передача, кажется, шла ещё с ночи, и диджей, судя по тону, пытался слушателей не столько будить, сколько убаюкать, и говорил почти устало. «А вот я тоже устал», — безразлично подумал Алекс. Прозвучала короткая заставка, и заиграла новая песня. Её Алекс сразу же узнал, хотя и не слышал уже лет двадцать. Это была «Venus in Furs» группы «Velvet Underground» ( ссылка). Алекс прислушался. Что-то шевельнулось в душе, будто сдвинулась с места какая-то, казалось, навсегда застывшая сдвижная плита. «Как сверкают сапоги из кожи, — узнавал Алекс слова, угадывал их заранее, — как во тьме дитя взметает хлыст…» Эта песня да и сама группа не имела ничего общего с политикой, с левой идеей, с терроризмом — даже имя группы скорей намекало на обтянутый бархатом подвал пресыщенного удовольствиями гедониста, а не на подполье. Но было что-то иное: в этом вязком, тягучем ритме, в котором гитара звучала подобно индийскому ситару, в шаманском позвякивании бубна, в глухом, потустороннем и медленном бите, в том, как месмерически Лу Рид даже не поёт, а выговаривает слова — «Северин, Северин там ждёт тебя». Северин — это имя героя повести Захер-Мазоха, — вспомнил Алекс. — «Венера в мехах», автор Захер-Мазох. Откуда это вспомнилось? Откуда-то из дальних закутков памяти — первый курс Колумбийского университета, общежитие, пластинка в проигрывателе, одна из тех студенческих тусовок, на которых кто-то разговаривает с кем-то, кто-то с кем-то целуется в углу, кто-то в прокуренном полумраке танцует в середине комнаты. Кто-то с умным видом объяснял мне смысл песни — не вспоминалось уже, кто. Нет и не может быть более нашей, более нью-йоркской группы, чем «Velvet Underground». В эпоху, когда все курили траву, они кололись героином. Когда длинноволосые ребята и девчонки носили невообразимых цветов рубашки и куртки с лохматой бахромой, Лу Рид носил костюм с галстуком и тёмные очки. Когда хиппи в Калифорнии воспевали наготу и естественность, в Нью-Йорке воспевали пластик и связь Эроса с Танатосом. Те пели про цветы в волосах, Лу Рид пел про плётку и кожаные сапоги. Если подумать, это эстетствование было нарочитым, наивным, китчевым — и всё-таки талантливым. Вся американская культура такая: наивная и нарочитая, без европейского чувства меры. У европейцев есть Нойшванштайн, у нас — Диснейленд. Культура одарённых самоучек, с восторгом глотающих любую книжку без разбора. Даже интеллектуальность у нас такая — прямолинейная и незамысловатая, как бейсбольная бита. Вспомнить хотя бы знаменитые дебаты Хомского и Фуко… Мысль вдруг остановилась, и Алекс ощутил ужас. Ужас был разлит в воздухе — в мягком утреннем свете, льющемся из окон забегаловки, в солнечной пыли, сквозившей в лучах, в том, как хрипло прокашливается проснувшийся бомж в другом конце зала, в том, как облокотился на прилавок работник забегаловки, в том, как монотонно и дремотно продолжает звучать песня. Главное же, ужас заключался в вопросе: «кто это думает?» Кто это думает? Кто вдруг вспомнил всё это, то, что так давно ты пытался выбросить из памяти, Алекс? Это ты, Алекс? Но Алекс не бегал от властей, не учился в Колумбийском университете, не занимался терроризмом, у Алекса жена и двое детей, он живёт в Северной Дакоте, в городе Гранд-Форкс, работает на заправке «Шелл»… Это Майки? Майки «Корсер» Бруно, это ты? Нет, это не Майки — тот был молодой, тот делал революцию, мастерил бомбы, взрывал здания, убивал людей, путешествовал по миру. Майки был длинноволосый бородатый радикал в мотоциклетном шлеме и кожаной куртке с «маленький красной книжечкой» Мао в одном кармане и ЛСД-шной маркой в бумажнике. Ты — небритый и давно непьющий даже старпёр с дешёвыми электронными часами на волосатом запястье, в безразмерной футболке, купленной Алексом для маленькой Джоан, чтобы та подарила маме… но, если подумать, в честь кого ты настоял, чтобы назвали Джоан? Ужас сковал дыхание, подкатил к горлу, стены будто сходились тисками. Алекс схватил со стола стакан с колой и шумно всосал газировку через трубочку. Сердце бешено колотилось в груди, руки задрожали. Северин, Северин там ждёт тебя. Кого ты ждёшь, Северин? 11:30
Бар «До краёв»Наверное, Берт был первым за время пути из Дакоты человеком, который не удивился футболке с плюшевым мишкой. Да он и тогда, в 1981-м, был такой, — вспомнил Майки, — никогда ничему не удивлялся, не задавал вопросов. Нужен был сэйфхаус, только и сказал: «без базара» да осведомился о цене. Конечно, постарел, сильно — но кто помолодел-то? Семнадцать лет прошло. Семнадцать, чёрт возьми, лет. Нет, Берт, бежать — не выход. Чтобы устроиться в Канаде или где-то дальше на постоянной основе, нужен загранпаспорт, а это другой уровень. Чтобы жить в Стране, блядь, свободных, нужен в первую очередь SSN, а по нему уже можно сделать и права, и банковский счёт. Вот, Берт, что мне в первую очередь нужно, SSN. Как раньше делали, помнишь? Маленький мёртвый ребёнок года рождения эдак от сорок пятого до шестидесятого. Достать свидетельство в архиве: один экземпляр идёт на руки родителям, а второй туда. Нашим ты так делал, Берт. — У тебя, кстати, остались выходы на наших? — Алекс понизил голос, наклонился к бармену. — На кого-нибудь? Да откуда у него выходы, — горько подумал Алекс. Если и знает имена, не скажет — все оставшиеся на свободе сейчас сидят на жопе ровно и не рыпаются, как я ещё неделю назад. Где сейчас подполье, где Чёрные пантеры, где Синоптики, где марксисты-ленинисты, маоисты, анархисты? Нихера, никого не осталось: левая идея мертва. Вместо призрака коммунизма — другая иллюзия: что каждый американец — лишь временно обездоленный миллионер. Алекс оглянулся по сторонам: вот, сидят, временно обездоленные. Какой-то быкан с каторжной рожей, тётка-байкерша, пацанёнок какой-то, по говору картошечник, ещё один торчок какой-то. Пиво хлещут, и каждый, небось, мечтает разбогатеть. Но вдруг… Алекс замялся, не решаясь продолжить. Опасно, опасно искать других идейных — кричал про себя Алекс. — Семнадцать лет ты сторонился идейных, бегал ото всех: известно же, что на одного честного человека в любой левацкой тусе два идиота, три подлеца и один провокатор — хорошо если один. Но, чёрт возьми, какие варианты? Устраивать новую жизнь? Какую новую жизнь, в сорок три года… нет, сорок три-то года Алексу, а на самом деле тебе-то — сорок шесть, Майки! Опасно, Алекс? А что не опасно? Жить без документов, пытаться скопить нужное, работая всерую, залезать в долги, — не опасно? Это не то что опасно, это и невозможно. Ты не Алекс, — сказал себе Майки, — Алекс мёртв. — Или не на наших, — наконец, сказал Майки. — Не знаю… на идейных, что ли? Есть тут идейные? Сказал — как в воду бросился. И добавил: — Да, Берт, ещё одно. Что я уже давно не Майки, ты в курсе. Теперь я уже и не Алекс, сам понимаешь. Пока документов нет, буду… — он призадумался, — скажем, Северин.
-
-
-
ОХК с ноги влетел, как всегда.
|
Перед тем, как направиться в зал заседаний, Дэн, как обычно, зашёл в курилку. Курил он очень много — в день улетало по две, а то и две с половиной пачки «Панды»: начинал утром с лёгкой, бирюзовой, к вечеру переходил на жёлтую, крепкую. Давно он так жил, с юности ещё, с грязной китайской студенческой общаги в Париже. Ничего не поделаешь, такое было время, такое было поколение — Мао дымил как паровоз, Лю Шаоци с ним, даже Чжоу Эньлай, не куривший с юности, и тот, уже пожилой, начал, да и как в те годы было не начать. Работали по двадцать часов в день, заматывались… жили в постоянном страхе. Новое поколение этого не знает, не испытало этого всего — и не должно испытать.
Дэн смял окурок в алюминиевой пепельнице. Достаточно. Пора идти заниматься делом. Всё-таки хорошо вернуться в Чжуннаньхай*, — поймал он себя на мысли, направляясь в зал заседаний по коридору.
— Добрый день, товарищи, — начал Дэн, заняв место за столом. — Как вы можете знать, из отпуска я вернулся только вчера и не с пустыми руками. Сегодня я предлагаю включить в повестку дня два важных вопроса и один второстепенный — о нём я упомяну в конце. Два важных же вопроса будут касаться двух важнейших сфер нашей политическо-экономической жизни, а именно политики и экономики.
— Во-первых, речь о реформе государственного и партийного аппарата. Думаю, что в этой области давно назрели значительные перемены. Говоря об организационно-кадровой системе Партии и государства, основными её проблемами являются следующие: 一) бюрократизм; 二)избыточная концентрация полномочий; 三) патриархальный подход к руководству; 四) несменяемость; 五) разного рода привилегии.
Бюрократизм был и остаётся одной из главных проблем Партии и государства, приводя к отрыву руководства от масс и реальности, злоупотреблениям, показухе, пустословию, закостенелости мышления — продолжать этот ряд можно долго. Во многом бюрократизм обусловлен историческими и культурными особенностями нашей страны, но есть и ещё одна причина, значительно его усугубившая в последние десятилетия. Я говорю о принципе «железной миски риса»: неважно, работает ли чиновник хорошо или плохо, он получает свою «железную миску». Человека можно принять на работу, но нельзя с неё выгнать; его можно повысить по службе, но нельзя понизить. Всё это неизбежно приводит к разрастанию штатов, появлению новых уровней подчинения, обрастанию начальника заместителями, появлению должностей, существующих лишь на бумаге.
Избыточная концентрация полномочий означает, что во имя усиления партийного руководства мы отдаём чрезмерно много власти партийным комитетам, тем самым превращая централизованное партийное руководство в руководство отдельных личностей. Эта проблема в той или иной степени существует на всех уровнях нашей партийной иерархии. Она приводит к тому, что большинство партработников не имеет вовсе никаких полномочий, зато меньшинство оказывается чрезмерно перегружено ими, что ведёт и к злоупотреблениям, и к неэффективности работы. Наша неспособность осознать эту проблему стала одной из главных причин Культурной революции, и мы все заплатили за это высокую цену. Эту проблему следует решить безотлагательно.
Патриархальность означает в первую очередь отход от принципов, практиковавшихся нами в период антияпонской борьбы и социалистических преобразований, отход от принципов демократического централизма и коллективного руководства. Сплошь и рядом мы видим, как решения принимаются одним или несколькими партработниками, без дискуссии и голосования: начальник не хочет слышать мнения подчинённых, подчинённые боятся мнение высказывать. Своё предельное выражение патриархальный подход получил в «принципе двух абсолютов» Линь Бяо. Этот подход мы должны искоренять в нашем руководстве.
Несменяемость власти происходит как и из упомянутых мной выше проблем, так и из нашей недавней истории: в годы нашей молодости, в годы борьбы, войны и преобразований мы могли позволить себе не задумываться над тем, сколько руководитель будет занимать свою должность — неизвестно было, будет ли существовать сама должность завтра или нет. Сейчас пришло время над этим задуматься. Необходимо усовершенствовать систему выборов, привлечения, назначения, увольнения, оценки и ротации кадров, а также установить ясные правила по сроку пребывания на разных руководящих должностях, как выборных, так и назначаемых.
И, наконец, речь о привилегиях. В годы Культурной революции Линь Бяо и Банда Четырёх не стеснялись вести роскошную жизнь, не глядя на то, с какими трудностями сталкивается народ. До сих пор есть руководящие работники, видящие себя не слугами народа, а его господами и использующие положение для личного обогащения. Это вызывает справедливый гнев трудящихся и чернит образ Партии. Необходимо внедрить систему, которая позволила бы как рядовым патработникам, так и трудящимся массам контролировать руководителей. У людей должно быть право выявлять коррупционеров и добиваться дисциплинарных или уголовных мер в их отношении. Для этого в первую очередь потребуются независимые контролирующие организации.
Теперь, высказав свои предложения, я перехожу к методам их осуществления. Я предлагаю представить эти тезисы на обсуждение грядущего Пятого съезда Всекитайского собрания народных представителей с тем, чтобы соответствующие комиссии разработали поправки в Конституцию КНР. Эти поправки должны отражать право масс на управление различными государственными органами и контроль над ними, ограничение концентрации власти, реформу системы управления, включающую отказ от принципа «железной миски риса», привлечение трудящихся к обсуждению касающихся их вопросов, а также разграничение вопросов, решаемых руководителями единолично или коллективно. Во всяком случае, важные вопросы должны решаться коллективно.
Почти бессознательно Дэн потянулся к лакированной сигаретнице на столе, достал «Панду» с золотым ободком и закурил.
— Второй же вопрос, который я хотел поднять сегодня, касается экономики. Во время Банды Четырёх бытовало выражение, что лучше быть бедным при социализме, чем богатым при капитализме. Это абсурд. Разумеется, нам не нужен капитализм, так как социализм даёт лучшую почву для развития производственных сил и отношений, но именно поэтому мы и не должны оставаться бедными. А разрыв между нами и развитыми капиталистическими странами, и без того огромный, за последние 10—15 лет вырос ещё больше. Этот разрыв невозможно преодолеть, оставаясь в изоляции. Поэтому я предлагаю учредить особые экономические зоны, в которых иностранный капитал мог бы создавать предприятия, пользоваться дешевизной и обилием наших природных ресурсов, сравнительно развитой инфраструктурой, а также дешевизной и образованностью нашей рабочей силы. Всё это позволит зарубежным капиталистам получать прибыль. Взамен же мы будем получать технологии, обучаться передовым методам управления и организации труда, укреплять экономические связи с развитыми капиталистическими государствами. Подчёркиваю, товарищи, речь не идёт о бесконтрольном допуске иностранного капитала в КНР — этот эксперимент я предлагаю проводить лишь в нескольких зонах на южном и восточном побережье нашей страны. Полагаю, что удачными местами для таких зон станут провинция Гуандун, город Сямэнь в провинции Фуцзянь, а также Шанхай. Также добавлю, что первыми заинтересовавшимися инвесторами наверняка станут хуацяо, представители многочисленных китайских диаспор как в Азии, так и по всему миру. Наши зарубежные соплеменники — люди состоятельные и хваткие, и глупо было бы не привлечь их опыт и средства к строительству современного Китая. За хуацяо, я уверен, потянутся и белые. Если решение будет нами утверждено, я планирую заняться этим вопросом лично, но буду рад, если кто-то из коллег-экономистов пожелает тоже принять участие в этом начинании.
— Ну и, наконец, третий вопрос, сравнительно маловажный по отношению к первым двум. Его я выношу на обсуждение лишь потому, что моё предложение является примером древней поговорки «Извлечь нечто из ничего» — его решение не будет стоить нам почти ничего, а результаты даст мгновенно. Я говорю об отмене второй схемы упрощения иероглифов. Вы все, товарищи, знаете, с какой неприязнью люди встретили новую реформу правописания, введённую в 1977 году. Речь не только и не столько об интеллигенции; трудящиеся, многие из которых лишь учатся писать, вынуждены переучиваться, усваивая, скажем, что иероглиф «алкоголь», 酒, теперь пишется как 氿, — Дэн начертил этот иероглиф в воздухе кончиком сигареты. — Едва-едва мы успели переучиться на первую схему упрощения, едва успели выучить в школах новое поколение, — теперь снова половина иероглифов пишется иначе. Более того, новые правила попросту усложняют чтение — многие иероглифы теперь сведены воедино: так, «помощь» теперь пишется так же, как «держава», а «цвет» — как «яркий». Недовольство этой реформой значительно, товарищи. Нет ничего проще признать вторую схему упрощения неудачным экспериментом, подготовленным во времена господства Банды Четырёх, и вернуться к первой схеме — нам потребуется лишь опубликовать соответствующее заявление в «Жэньминь жибао» и разослать указания по типографиям, а люди несомненно почувствуют, что их недовольство услышано. Этот вопрос я предлагаю передать на рассмотрение Госсовета.
— Буду рад услышать ваши замечания или возражения на этот счёт, товарищи, — завершил Дэн и с удовольствием затянулся.
-
Интересно, кстати, про упрощенное правописание.
-
-
-
-
|
Фрайденфельдс
Фрайденфельдс бросился через лес, и с криком поднялись вслед за ним латыши и, — не виделось, но чувствовалось, — и слева застреляли, закричали, поднялись в атаку калужане. Выстрелов в ответ не было, и Фрайденфельдс, миновав примеченное дерево, побежал дальше. Хлестнула по щеке влажная еловая ветка, замелькало перед глазами, а вокруг вопили, стреляли, с хрустом бежали через ельник, и вот мелькнуло что-то в просвете между деревьями — чёрный пулемёт на треноге, а рядом с ним две фигуры в шинелях, молотящие что-то на земле будто цепами.
— Стой! Стой! Свои! — закричали откуда-то из леса, от пулемёта бойцам Фрайденфельдса, беспорядочно стрелявшим вперёд. Карповцы, — понял Фрайденфельдс, — они уже здесь.
Тяжело дыша, Фрайденфельдс остановился, оглядываясь. Всё тот же лес вокруг, еле просматривается река справа. Но вокруг, и спереди, и слева — везде серые русские шинели, куда-то бегущие, что-то кричащие, показывающие куда-то. Вдруг на Фрайденфельдса выскочил Карпов — всё с тем же наганом в руке.
— Вышибли, товарищ Фрайден! — захлёбывающимся от восторга дискантом зачастил он, ошалело глядя на Фрайденфельдса. — Мы взяли пулемёт, вот он! — показал он в сторону. — Я сам не понял, сколько их было, но, кажется, немного! С десяток, не больше! Они даже в ответ выстрелить не успели!
— Взяли! Взяли одного! — донеслось рядом. Фрайденфельдс оглянулся: двое бородатых красноармейцев волокли растрёпанного безоружного, простоволосого молодого солдата в странной форме — американской, понял Фрайденфельдс. На оливковой штанине повыше колена у солдата расплывалось тёмное пятно, он затравленно кидал взгляды по сторонам.
— От они чем палили, гады! — показывал другой боец на аккуратно разложенные в рядок под ёлочкой ружейные гранаты на длинной ручке. — Экую штуку выдумали-то!
Мухин
— Ох ты ж, матерь Божья… — остановился на пороге сеней Расчёскин, когда Мухин повернулся к нему раненым ухом. Похоже, он только сейчас заметил, что Мухин ранен. На мгновение на лице Расчёскина отразилось сомнение, но затем он, досадливо поморщившись, бухнулся на колени рядом с Мухиным.
— Ты ж весь в кровище, Кронштадт, — сказал он, принимая из рук Мухина полотенце. Мухин провёл рукой по колючей и липкой щеке под раненым ухом — и действительно, на вымазанных в грязи пальцах остался красный след. — Чёрт, пакет в шинели остался… Ну давай хоть так замотаю…
Неразборчиво ругаясь под нос, Расчёскин принялся прилаживать полотенце к голове Мухина — но коротко оно было, едва хватало в охват головы, узлом затянуть не получалось. Прошипев что-то под нос, Расчёскин закусил полотенце зубами за узкую сторону, надорвал, разодрал руками на две узкие полосы, принялся связывать их между собой.
— Обходят нас с той стороны, — показал он на выходящие на юг окна горницы. — Сейчас прижмут и хана! А вы чего зырите? — зыркнул Расчёскин на примолкших хозяев, жмущихся друг к другу у печки. — Сейчас дружки ваши английские вас и расхреначат из пушек!
Связанными между собой полосами из полотенца голову кое-как перетянуть получилось. Пошатнувшись, Мухин поднялся с пола, прошёл в сени, пригнув голову под низкой притолокой. Выглянул в дверь: виденный раньше двор с пристреленной собакой, сараи впереди, раскисшая в грязи улица и, не успел он рассмотреть ничего подробнее, как вжикнуло, и в чёрные брёвна рядом с дверью ударила пуля — Мухин не заметил, откуда стреляли, отпрянув за косяк.
— На скотную половину, — повторил Расчёскин, вместе с ним вышедший в сени. — Здесь глухо всё, а скотные ворота к реке выходят — кустами к плёсу выйдем. Не геройствуй, Кронштадт, ляжешь тут ни за медный грош.
-
Да уж, ситуация непростая - красноармейцам надо очень осторожно решать, что делать. Война, как она есть - и не поспоришь!
-
|
Мухин
Перетащив пулемёт за стену дома и опустив треногу наземь, Мухин оглянулся и сам удивился, сколько людей, как оказалось, уже вокруг него — стоя за пулемётом, он не видел, как набегали они с речного берега, перебегали мостик, разбегались по огородам, домам, а вот теперь увидел — какие-то люди в шинелях тащили через мостик «максим» на станке и патронные ящики, другой, в папахе, высоко подняв винтовку, высаживал прикладом раму окна избы напротив, ещё трое, крестьянского вида, но с красными лентами на шапках и с винтовками, пригибаясь, шлёпали по грязи куда-то мимо телеги. Взгляд зацепился за двоих, в облепивших тело мокрых нерусских мундирах, простоволосых, с чернявыми лицами, — эти двое как раз выбрались с поросшего осокой плёса и прошлёпали (из сапог с каждым шагом толчками выплёскивалась вода, на голенище налип пучок водорослей) к стене той же избы, у которой стоял Мухин. Брякнувшись под стену, они что-то закричали друг другу, но Мухин не мог разобрать, что — в горящем левом ухе тонко и оглушительно звенело, будто рядом кто-то приложился молотом по чугунной рынде. «Элленьшигек», «гепушька» — разобрал Мухин странные слова, когда повернулся к ним правой стороной. Точно так же, одной лишь правой стороной, Мухин слышал частый треск стрельбы вокруг. Однако сейчас, за углом дома, было безопасно.
Отчаянно мутило и больше всего на свете хотелось устало опуститься, как вот эти басурмане, на траву, прислониться к тёмным, старым брёвнам избы и сидеть так день, два, неделю, до наступления мировой Революции — но Мухин заставил себя подняться и заглянуть в разбитое, щерящееся гребёнкой осколков окно. Стол с керосинкой и чугунком, покрытые циновками лавки, кубоватая печка, ухваты, горшки, утварь. Дощатые полати под низким потолком, городской комод с тёмным зеркалом, какая-то олеография на стене. И как будто не сразу обнаружилось, не сразу выхватил глаз несколько бледных, как очищенные картошины, лиц — две бабы в платочках, девка, белобрысый мальчик в длинной домотканой рубахе, бородатый старик, прижимающий полотенце к окровавленной голове, — все, сгрудившись на полу у печки, цепляясь друг за друга, оцепенело и молча таращились на заглядывающего в окно Мухина. Расчёскина видно не было.
Мухин отпрянул от окна, оглянулся ещё раз. Валко тащат пулемёт по ухабам. Иностранцы у стенки лопочут что-то на своём — «менькёрбе», «лёвесет». Бегут люди. Кто-то плюхается в грязь у телеги, дёргает затвор мосинки, припадает к прикладу щекой. Где-то между избами промелькнуло и скрылось красное знамя. И вдруг глаз выцепил знакомую фигуру — верзила в каракулевой папахе с разукрашенным кинжалом на поясе. Фукс, ищуще вертя головой, вышагивал от моста к телеге с маузером в руке. Кривоватый мужичок-переводчик Трошка всё так же был рядом — семенил за Фуксом, тоже вертя головой, но скорей от страха, вжимая голову в плечи. Фукс что-то орал всем вокруг — Мухин не слышал, что, — тыкал стволом маузера в разные стороны и вообще имел вид человека, который твёрдо намерен здесь всеми командовать. Мухина он то ли не замечал, а то ли не узнавал.
И тут сквозь звон в ухе прорвался протяжный посвист, нарастающий и уплотняющийся в пронзительный визг, и, когда уплотнился до высшей точки, вдруг смолк на мгновение, а после этой моментальной паузы — разорвался грохотом, взметнулся чёрным фонтаном огня, земли и брёвен на том месте, где в сотне шагов стояла изба, за которой ранее промелькнуло и скрылось знамя. Собственно, изба и продолжала стоять, но с вывороченным, будто откушенным углом, с повисшей на обломке бревна рамой и занавеской, с проглядывающей внутренностью, — печкой, лавками, опрокинутым столом, — так же жутко и неестественно выглядящей, как требуха распоротого человека. Вокруг избы копошились и беззвучно разевали рты несколько человек, уползал куда-то в огород полный бабий зад, обтянутый ситцем, прижимал руки к животу распластавшийся на земле простоволосый боец.
Фрайденфельдс
— Отделкомов у них нет, кажется, — неуверенно сказал Карпов. — Я только что командование принял!
Дальнейшие распоряжения Карпов слушал с оторопелым выражением, будто говорящим: «Неужели это я должен всё это сделать, всеми командовать? Неужели сейчас — натиск, напор, штыковая? И успех всего этого — только от меня зависит? И если я ничего в этом не понимаю, как мне сделать правильно, чтобы всех не подвести? Не знаю, как, но расскажите мне, товарищ латыш, я обязательно сделаю, как надо!»
— Ага, ага, — мелко кивал Карпов на каждое слово Фрайденфельдса. — Обхватываем, — повторил он за латышом, облизнув растрескавшиеся губы. — В штыковую, и жмём к речке. Ясно. Так точно. Сделаю, чего не сделать!
Юноша, конечно, храбрился, но Фрайденфельдс отметил — слушая указания, Карпов не побледнел, как побледнел бы трус, а густо раскраснелся. Волнуется? Конечно, ещё как. Первый раз, к гадалке не ходи. Запомнил сказанное? В голове у него сейчас кавардак: дай бог, чтобы десятую часть запомнил. Может натворить глупостей? Запросто. Струсит? Нет.
— Псковичи! — не закричал, а взвизгнул Карпов, рывком вставая с земли и высоко поднимая руку с наганом. — За Республику, за свободу, за мной! — и в пандан к его словам над головой грохнули, в этот раз одновременно, две гранаты, просыпав на землю ворох хвои и куски коры. Взрывов Карпов, кажется, даже не заметил, быстро зашагав вглубь леса, хлопая своими планшетками по бёдрам.
— Давай, давай, двигай, — заторопились толпившиеся рядом псковичи, оглядываясь по сторонам в ожидании следующей гранаты. Пригибаясь, отряд потянулся за уже скрывшимся в лесу юным командиром. «Гусёныш экий резвый-то, не поспеешь», — донеслись до Фрайденфельдса насмешливые слова протопавшего мимо псковича.
Псковичи скрылись вслед за Карповым, гранаты бахнули ещё раз — теперь сильно левее: видимо, гранатомётчики переводили прицел туда-сюда наугад. Карпов в бой пока не вступал, и Фрайденфельдс выжидал, как вдруг за спиной, совсем близко, грохнул винтовочный выстрел.
Фрайденфельдс и остальные бойцы у пулемёта оглянулись и увидели, как сквозь ельник продираются несколько человек. Первым разлаписто шёл взмыленный, будто только из бани, ражий лысый мужик с «противогазными» короткими усиками, в расстёгнутой на вороте гимнастёрке (проглядывала густая шерсть на груди), без ремня, с обрезом мосинки в руках. Бешено рыскнув глазами по сторонам, лысый уверенно, но не вполне твёрдо двинулся к Фрайденфельдсу, передёргивая затвор обреза и раздражённо отмахиваясь от дамочки в мужской одежде, цепляющейся ему за рукав.
— Где этот щенок?! — дико заорал лысый, переводя взгляд то на Фрайденфельдса, то на остальных пулемётчиков.
— Васенька, не надо! — умоляюще причитала дамочка, едва поспевая за лысым.
Дамочка была молодая и субтильная, стриженная под мальчика, и в мужской одежде — кожанка, сапоги, шаровары, — выглядела почти пареньком-подростком. Но Фрайденфельдс такого типа модерновых партбарышень уже видал и знал — это никакая не профреволюционерка вроде товарища Пластининой, эта ещё год-другой назад была какая-нибудь гимназисточка с томиком Надсона под подушкой. Когда б не революция, так и щебетала бы по гостиным, как канарейка, но повернулось так, что бывшие висельники из подполья стали хозяевами жизни, и вот, некоторые провинциальные полуинтеллигентные барышни решили — натянем-ка мужские шмотки, покрасуемся на митингах и партсобраниях уездного города, как в прежние времена в ресторанах и городском саду, пособираем на себя взгляды новых хозяев жизни, захомутаем какого-нибудь из них — а потом кое-кому из нас не повезёт обнаружить себя в архангельских болотах, цепляющейся своему Васеньке за рукав.
Вслед за лысым Васенькой и дамочкой поспевали ещё пятеро бойцов крестьянского вида, таких же как псковичи.
— Где он?! — рычал лысый, не обращая на дамочку внимания и подступая к Фрайденфельдсу.
— Vodovozovs, — удивлённо сообщил Фрайденфельдсу Верпаковскис.
-
— Ага, ага, — мелко кивал Карпов на каждое слово Фрайденфельдса. — Обхватываем, — повторил он за латышом, облизнув растрескавшиеся губы. — В штыковую, и жмём к речке. Ясно. Так точно. Сделаю, чего не сделать!
Юноша, конечно, храбрился, но Фрайденфельдс отметил — слушая указания, Карпов не побледнел, как побледнел бы трус, а густо раскраснелся. Волнуется? Конечно, ещё как. Первый раз, к гадалке не ходи. Запомнил сказанное? В голове у него сейчас кавардак: дай бог, чтобы десятую часть запомнил. Может натворить глупостей? Запросто. Струсит? Нет.
Проза о гражданской войне
-
Колоритны описанные господа, ой как колоритны!
-
На самом деле плюс больше за следующую сцену-постановку. Прям от души эпизод вышел, согласен.
|
Валентин Капустин не ожидал, что бросок бомбы даст такой поразительный эффект — земля заходила ходуном под ногами, царь-медведь испуганно взревел и заметался, сам Валентин Капустин отчаянно пытался удержаться на плясавшей под ногами, разламывающейся мостовой — и был счастлив.
Вот оно! Пришло! — кричало всё в Валентине Капустине, пока неведомая сила вздымала его в эмпиреи. — Я не знаю, что это, но оно пришло!!! Кому-то, может, и нужна великая Россия, а мне нужны великие потрясения — и разве это не то, что мне нужно?! Земля встаёт на дыбы, небо валится на землю, стены рушатся, пол становится потолком, эфирные потоки несут нас, словно песчинки, бывший царь, кувыркаясь рядом со мной, истошно ревёт в ужасе, и поделом — такова участь тиранов! Захлёбывайся, захлёбывайся, царь-медведь, в животном страхе от того, что весь привычный тебе миропорядок пошёл прахом — я хохочу тебе в морду! Мне не страшно! Я не знаю, что происходит, но я знаю, что делать! — внутренне кричал Валентин Капустин. — Когда не знаешь, что происходит — устраивай бунт! Когда не знаешь, что делать, — устраивай бунт! Бунт, шельма!
На мгновение Валентин Капустин обнаружил себя цепляющимся за какую-то балку, висящим над какой-то непостижимой бездной. «Опять андреевщина», — поморщился он и решительно отпустил балку, счастливо позволив подхватить себя эфирной круговерти, — а в следующий момент обнаружил себя сидящим на разломанном паркете посреди фарфоровых черепков и осколков фужеров, в каком-то зале с опрокинутыми столами и содранными занавесками. Валентин Капустин повертел головой. Какие-то сидящие посреди топорщащихся кусков паркета, приходящие в себя люди. Жалобное медвежье поскуливание с улицы. Клочья белесого тумана, наползающие в залу. Если бы здесь оставалась хотя бы одна целая тарелка, Валентин Капустин взял бы её и разбил, — не столько даже из идейных соображений, сколько чтобы придать картине завершённость.
— Маркс был прав, — хрипло произнёс Валентин Капустин. — Это было неизбежно.
-
Я не знаю, что происходит, но я знаю, что делать! *аплодисменты*
|
Бархатно-густая и непроглядная ночь висела над Кисловодском. Валентин Капустин лежал навзничь на мостовой, цепляясь пальцами за округлые орудия пролетариата, к сожалению, намертво сцеплённые сейчас между собой. Красное домино, распластавшееся на мостовой, как растоптанное казачьём знамя демонстрантов, зияло неровными разрывами, сквозь которые проглядывала то волосатая нога, то костистое плечо, то нательная рубаха — впрочем, такая же красная, как и домино. Валентин Капустин был идеологически последователен в выборе гардероба.
Валентин Капустин лежал навзничь, уткнувшись скулой в гладкий округлый бок булыжника, отдающего накопленное за жаркий день тепло, и видел сон. Во сне не было ни жандармов, ни тюрем, ни каторги, ни даже царя (обычно Валентин Капустин видел царя во сне каждую ночь). Но в этот раз сон был иной.
Во сне был южный приморский городок, васильковая голубизна огромного, будто поднимающегося выше земли моря, золотое перемигивающее облако солнечных искр, и в середине его — качающаяся на волнах рыбацкая лодочка со спущенным парусом, с тёмным силуэтом человека, деловито выбирающего сеть. Он глядел на эту лодочку с высокого известнякового утёса, из серебряных зарослей дикой маслины, приложив одну руку козырьком ко лбу, а другой перебирая горячую от солнца шерсть на холке старого пса, шумно дышащего рядом. Поодаль хлопало и трепыхалось под жарким, будто печным ветерком бельё на верёвках, тянуло со степи головокружительно густым полынным запахом, к которому примешивались терпкие запахи кухни и жареной рыбы в масле.
— Мойша! Мойша! — донёсся до него басовитый женский голос. — Иди же кушать, фиш уже готов!
Он обернулся — в глазах сразу померкло — и белёные стены рыбацкой халупы, развешанные на шестах сети, пробковые поплавки, мраморная белая пыль, всё потонуло в сизой солнечной мгле, и последнее, что он успел запомнить из сна, были собственные слова:
— Иду, мамеле!
— и Валентин Капустин проснулся.
«Кто я? — подумал он. — Кто я только что был и кто я сейчас?» С замирающим ужасом он потянулся рукой за пазуху и с облегчением нашёл, что искал: стальной щербатый цилиндрик, выточенный когда-то декабристом Луниным. Болванка на месте. Если болванка на месте, значит, я — Валентин Капустин. Я Валентин Капустин. Нет никакого Мойши, нет и не было никогда. Есть я, Валентин Капустин. Я революционер, анархист, эсер, большевик и террорист. Чёрт, как же болят рёбра. Царь-медведь, эстетический террор, — быстро и уже привычно перебирал привычные штампы Валентин Капустин, — анархизм, пролетариат, красное домино, листовки, жандармы, болванки, бомба.
Бомба, выкинутая вместе с Валентином Капустином на улицу, лежала рядом, имея жалкий вид: торцовая крышка её отвалилась, вокруг натекла лужица воды.
Опять воду налил вместо керосина. Я же ненавижу воду. Зачем я наливаю всякий раз в бомбу воду? Откуда этот дикий сон про море, про эту чудовищную массу воды? Отставить, товарищ Капустин, — осёк он сам себя. — Заниматься психоанализом по методу венских шарлатанов мы будем после свержения самодержавия. Сейчас надо думать о борьбе.
Застонав от боли во всём теле, Валентин Капустин кое-как поднялся на ноги и печально посмотрел на бомбу. Затем подобрал её, взвесил на руке и…
— Мы пойдём другим путём, — решительно произнёс Валентин Капустин и, широко размахнувшись, метнул бомбу в медведя как раз в тот момент, когда…
-
Болванка на месте.
* зрители шумно выдохнули с облегчением *
-
Мы пойдём другим путём
И этим все сказано! Не поспоришь же!
|
Не для нас они стараются, ой не для нас…
— И верно, не для вас! — тут же встрял Лопата. — Для них! — указал он на толпу, но более не перебивал.
— Вы, товарищи, понимаете, что она несёт? — задушевно обратился Лопата к слушающим, когда Гера закончила говорить. — Я вот что-то не очень! Какие-то англичане должны прийти к нам помогать, французы какие-то… Вы много здесь англичан-то видели, в Нижнем? Совсем барышня завралась, уж и придумать ничего складней не может. А я скажу вам, почему она такую чушь мелет: потому что о главном-то говорить ей перед вами стыдно! Да, барышня, стыдно и неудобно! — сверкнул Лопата глазами из-под очков в сторону Геры.
Гера тем временем видела, как Лазарев отделился от кучки эсеров (те пытались закрикивать Лопату, но выходило это у них менее стройно и слаженно, чем у большевиков) и начал протискиваться сквозь толпу к бугру. Лопата, увлечённый своей речью, этого, однако, не замечал, продолжая разглагольствовать:
— А я скажу, товарищи, что главное, о чём барышня эсерка говорить не хочет! Не хочет говорить она о том, что партия эс-эр — это партия против царя, верно, но это не партия против капиталиста! Эсеры хотят царя свергнуть — и это правильно, в этом мы с ними заодно! — а как свергнут, кого они всем нам на шею посадят? Капиталиста посадят! Хорошо оно для пролетарьята? Вот почему эсеры не хотят поместья жечь, вот почему и против фабрикантов ничего не говорят!
— Брехня! — не выдержал кто-то из эсеров, стоящих в толпе. — Говорим!
— Не говорите! — гремел Лопата, потрясая кулаком. — За мелких буржуйчиков, за хозяйчиков говорите только!
— Где ты был, когда мы на баррикадах стояли?! — надрывались в толпе.
А на это-то Лопате крыть было нечем, вспомнила Гера, — незадолго до дебатов Колосов рассказывал, что Лопаты во время сормовского восстания в Нижнем не было: он ездил на какую-то эсдековскую конференцию и всё пропустил (потому-то и остался на свободе). Но Лопата, вместо того чтобы оправдываться, сам пошёл в наступление.
— Кто вас учил такие вопросы задавать?! — загремел он. — Чтобы шпик всё запомнил и в дело занёс? Такие вопросы под цугундер наших товарищей подводят! И вот барышня эсерка такие же вопросы задавала — а почему? Потому что она в революции недавно и правил конспирации ещё не знает? Может быть! А может быть и иначе! Не провокацией ли это пахнет, товарищи?!
Лазарев тем временем уже протолкался через толпу к бугру, где путь ему перегораживало ограждение из двух эсеров — Колосова и Шаховского — и двух эсдеков: шкета-еврейчика Генки, ранее спрашивавшего у Геры с Варей пароль, и ещё одного, незнакомого. Незнакомый эсдек сразу подался к Лазареву, останавливая, но тут Шаховской, только и ждавший этого движения, навалился на него сзади, пригибая к земле — против крупного, по-бычьи сложенного Шаховского у эсдека не было шансов. Завидев это, Генка тут же сунул руку в карман своей потёртой кожанки, и тут же в его руку вцепился двумя своими Колосов. Генка сдавленно и как-то по-собачьи взвизгнул, а Колосов продолжал, стоя спиной к бургу, оттеснять его, давая Лазареву пройти. Второй эсдек уже лежал на земле, а прижимающий его к земле Шаховской что-то неразборчиво шипел ему в ухо, тыча окладистой бородой в щёку. Толпа растерянно глядела на эту стычку, не понимая, стоит ли вступаться за эсдеков или, может быть, помогать эсерам. Лопата осёкся на полуслове, машинально поправив очки на носу. А Лазарев с несвойственной для его пожилого возраста прытью уже взбирался на бугор.
— Товарищи! — сходу начал Лазарев, вставая между Лопатой и Герой. — Споры — это хорошо! Споры — это то, в чём рождается истина! А вот когда споры переходят в ссору, в потасовку, — говорил Лазарев это, будто и не замечая, что потасовку устроили его собственные сопартийцы, — это уже отнюдь нехорошо! Кому мы на руку играем? Царским опричникам, больше никому! Давайте все вспомним, какой день мы сегодня отмечаем! День солидарности, единства трудящихся! Разве годится в такой-то день собачиться? Давайте вспомним, какого принципа придерживаются обе наших партии в своих отношениях друг с другом! Принцип этот, товарищи, такой — «Врозь идти, вместе бить!»
Кто-то из числа расположившейся в углу двора «больницы», наконец, разглядевшие, что случилось у бугра, возмущённо подались было вперёд, чтобы вмешаться, но их останавливали свои же товарищи — переводить мимолётную стычку в полномасштабную драку стенка на стенку значило бы уронить себя в глазах собравшихся рабочих. «Отдай пушку!» — тем временем шипел Генка на Колосова, прячущего отобранный пистолет себе за пазуху. «После митинга отдам», — успокаивал его Колосов, удерживая за плечо. Шаховского и его поверженного противника тем временем разняли и, удерживая под руки, принялись выводить с митинга — эсдек протестовал, а Шаховской, кажется, был весьма доволен исходом. Оставшиеся у бугра рабочие выжидающе глядели на Лазарева, как бы говоря своим видом — «мы понимаем, забава кончилась, давайте теперь о серьёзном».
— И вы двое! — Лазарев взглядом строгого учителя обвёл Геру и Лопату. — Нашли о чём спорить, о немцах! Да разве немцы сейчас важны? Важно, что вот, товарищей наших в декабре расстреливали на баррикадах! Что «копейку» рабочие-стекольщики отменить не могут — вот что важно! Что поборами и штрафами их администрация гнобит — это важно! Уж ни вы, товарищ Лопата, ни вы, товарищ Кассандра, — не за поборы и не за штрафы, надеюсь? А раз так, товарищи, ну-ка сейчас оба пожмите руки друг другу, чтобы показать — пускай мы и не согласны друг с другом в чём-то, но в том, что для рабочего здесь и сейчас важно — согласны, и друг с другом вместе готовы работать для освобождения трудового класса!
Лопата исподлобья смотрел на Лазарева из-под очков, очевидно, понимая, что, продолжи он сейчас гнуть свою линию, собравшиеся воспримут это только как мелочную склочность. Поэтому Лопата, всё ещё хмурясь, протянул Гертруде руку.
-
Хороший финал для столь чудесной полемики!
|
-
Крайне любопытная цепочка ассоциаций. Да и в целом очень качественно показана карикатурность персонажа. Плюс за юмор.
|
Кисловодские граждане не читают газетный «Дневник происшествий»; кисловодские граждане одолеваемы иными заботами; кисловодские граждане страдают почками, печенью, прободением желудка и половым бессилием. Об этих мы распространяться не станем. Оставим этих несчастных наедине с их горем. Эти несчастные пьют один нарзан и не интересуются «Дневником происшествий». Если принять, что всё в мире имеет смысл, непонятно, как судьба дозволяет существовать в таком месте, как Кисловодск, людям, пьющим один нарзан. По мнению Валентина Капустина существование трезвенников в Кисловодске есть наибесспорнейшее доказательство отсутствия Бога, а, следовательно, допустимости в том числе и террора — в особенности к вышеупомянутым людям. Но оставим пока и Валентина Капустина. С его теорией мы познакомимся чуть позже. Те же граждане, что интересуются «Дневником происшествий», могли прочесть в нём такие заметки:
«Месяца такого-то, дня такого-то. Со слов фельдшерицы N. N. мы печатаем о загадочном происшествии: вечером месяца такого-то, дня предыдущего за таким-то, проходила N. N. у нарзанной галереи. Там, у галереи, заметила N. N. странное зрелище: у галереи металось и пело камаринскую красное домино; на лице домино была чёрная маска».
«Месяца такого-то, дня следующего за таким-то. Со слов школьной учительницы М. М. извещаем почтенную публику о загадочном происшествии; учительница М. М. давала утренний урок; школа окнами выходила на улицу; вдруг в окне закружился столб пыли; учительница вместе с резвой детворой подбежала к окну; каково же было смущение класса и классной наставницы, когда красное домино, находясь в центре им поднимаемой пыли, плясало камаринскую и делало странный жест, будто выхватывая из невидимых ножен несуществующую шашку, высоко подымая её над головой и вкладывая обратно в ножны. В школе занятия тотчас прекратились…»
Читатель уже догадался, что красным домино был не кто иной, как Валентин Капустин. Валентин Капустин проводил эстетический террор. Эстетический террор был собственной теоретической новацией Валентина Капустина. Валентин Капустин был видный теоретик террора, особенно когда бывал пьян. В эти часы он много и глубоко размышлял о трёх материях: а) что его существование в Кисловодске оправдано; б) о терроре; и в) о третьей материи, о коей я стыжусь говорить, но упомяну лишь, что в размышлениях о ней часто возникал голубой мундир. Но — молчок о том. Вернёмся к размышлениям Валентина Капустина о терроре. «Мало уничтожить буржуазию физически, — размышлял Валентин Капустин в своей конспиративной каморке на чердаке, которую снял за бесплатно, угрожая хозяйке бомбой, — буржуазию надо уничтожить морально». По этой причине Валентин Капустин, закончив размышлять, облачался в красное домино и выходил на улицы Кисловодска, где громко распевал революционную камаринскую. Несчастливые свидетели сего действа не донесли до репортёров слов камаринской, так как а) находились в потрясении ума, иногда необратимом; б) слова из-под маски было плохо слышны; в) Валентин Капустин бывал изрядно пьян и пел неразборчиво. Впрочем, ни одна из этих трёх причин не мешала Валентину Капустину исполнять под революционную камаринскую его фирменный танец, главной фигурой которого было выхватывание символической шашки из иллюзорных ножен на поясе, вздымание ея высоко вверх и вкладывание обратно в ножны. Сие, по мнению Валентина Капустина, изображало готовность революции поочерёдно проявлять насилие и милосердие. Что же это была за камаринская, которую распевал Валентин Капустин на пыльных улицах Кисловодска, не исключая и нарзанной галереи? Эта камаринская была посвящена Кисловодскому городскому жандармскому управлению, в сокращении К.Г.Ж.У. Валентин Капустин выбрал эту песню для проведения эстетического террора не случайно: у него были особые отношения с жандармами. Отнюдь не провокация, о нет: в идейном смысле Валентин Капустин был чист. Валентин Капустин был грязен в ином смысле. Но — молчок, молчок! Не будем фраппировать публику. Лучше приведём текст сей камаринской. Внемли, Эвтерпа! «КГЖУ», революционная камаринская
Сочинение членов Крестьянского союза(на мотив Village People — YMCA ссылка)
Товарищ! Коль ты к стенке припёрт,
Знай, товарищ! Оставайся ты твёрд!
Знай, товарищ! От жандармских ты морд
Не кривись и не пе-чаль-ся!
Товарищ! Пусть ты аресту не рад,
Знай, товарищ: есть один каземат,
Там товарищ тебе каждый и брат
И с тузом буб-но-вым ха-лат!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Там баланды нальют,
В кандалы закуют,
Будешь протестовать — изобьют!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Перестук на заре,
От параши амбре,
И стоит эшафот на дворе!
Товарищ! «Варшавянку» запой!
Знай, товарищ! Этой славной тропой,
Мы, товарищ, все пойдём за тобой,
Но не спеши кри-чать ты «До-лой!»
Ведь не товарищ, а тамбовский ты волк,
Коль забываешь ты свой истинный долг
И считаешь, что, коль долог твой срок,
Скучен бу-дет те-бе сей о-строг!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Голодовки и плеть,
Темна карцера клеть,
Где совсем легко околеть!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
Так весело сидеть в К.Г.Ж.У!
На часах казаки,
И чугунны замки,
И висит петля из пеньки!
Сегодня Валентин Капустин, облачившись в красное домино, направился для проведения эстетического теракта в самое логово буржуазного водяного общества — общества, которое Валентин Капустин имел основания ненавидеть сразу за каждое из его определений. Напомним, что Валентин Капустин до омерзения души ненавидел воду. Пребывание в Кисловодске для него было каждодневной пыткой; эту пытку Валентин Капустин выносил стоически. В этой пытке Валентин Капустин видел страдание за народ. Душевную боль за народ Валентин Капустин глушил водкой, которую отчего-то не ненавидел. Водка выражала русскую самость, а истинный революционер — отнюдь не русофоб, что там ни болтай черносотенная печать. Валентин Капустин давно промотал на водку всю партийную кассу, которую дали ему товарищи на сбережение, и теперь добывал водку методом экспроприации: подходил в красном домино к трактирщику, грозил ему бомбой или начинал распевать революционную камаринскую. Эффект имели оба способа. Поэтому не стоит удивляться, что Валентин Капустин, появившись в ресторане «У Шуставского» уже в изрядном подпитии, тут же погрозил встречающему его медведю бомбой и предложил ему вместе сплясать камаринскую. Видимо, Валентин Капустин ожидал, что у медведя где-то есть водка. Должна была быть. В медведе Валентин Капустин также чувствовал неизбывную русскую самость.
-
Валентин Капустин проводил эстетический террор.
Дело В.Капустина живее всех живых! Даже вот буквально на этом самом сайте...
-
«Мало уничтожить буржуазию физически, — размышлял Валентин Капустин в своей конспиративной каморке на чердаке, которую снял за бесплатно, угрожая хозяйке бомбой, — буржуазию надо уничтожить морально».
+1 Капустин укусен невероятно
-
-
Как тут не поставить плюс?! Незабываемый какой-то персонаж, не развидеть-не забыть)
-
Больно читать историю Капустина, смеёшься до судорог, будто тебя болванкой в афедрон оприходуют.
-
"Истинный террорист должен быть слегка пьян и до синевы выбрит... или наоборот?"
-
Но — молчок, молчок! Не будем фраппировать публику.
Ох уж эти фраппирующие публику эсеры с бомбами!
|
— Я тоже думаю, что брешет, — презрительно бросил Никанор в ответ на замечание Геры.
— Да я… — быстро дыша, проскулил николаевец и, не сумев закончить, сбился на совсем уж жалобное: — ну пожалуйста… не надо…
На это никто ничего не сказал: желания ругаться после недавней свары больше ни у кого уже не было.
— Спички есть. Погоди, сейчас подумаем, — хмуро ответил Анчару рыжий Борька, доставая из кармана мятый коробок. — Данька! — окликнул он своего товарища, понуро бредшего прочь по заснеженной улочке. — Данька, чёрт тебя дери! Подь сюда! Да иди, тебе говорят!
Данька остановился, вскинул на товарищей потухший взгляд и медленно побрёл обратно. Какое-то время казанцы тихо совещались между собой. Балакин и Чибисов стояли рядом, всё ещё настороженно глядя на железнодорожников. Зефиров снова, постукивая зубами, принялся приплясывать на одном месте и дуть на руки. Пленный николаевец, боясь подниматься со снега, бегал глазами с одного на другого.
— В общем, так, — посовещавшись, сказал Борька. — Этого, — указал он на пленного, — надо судить рабочим судом, мы так решили. Стрелять его здесь — дело подлое, мы так не поступаем. Отпускать его, однако, тоже никак невозможно: он рабочее дело предал. Если он тебе нужен, чтоб мину заложить, так бери, но дай честное революционное слово, что приведёшь на Казанский вокзал.
Николаевец, кажется, и дышать позабыл, по-собачьи глядя то на Анчара, то на Борьку.
— Сдашь там его товарищу Ухтомскому или товарищу Мазурину, уж кого найдёшь, — продолжал Борька.
— Мазурину? — вдруг подал голос Зефиров. — Володьке, что ль? Он у вас там?
— Угу, — мрачно кивнул Борька.
— Ууу, тогда молись, дружок, чтоб Ухтомский на месте был, — с ухмылкой наклонился к пленному Зефиров. — У Володьки-то с тобой разговор короткий будет…
— Никаких коротких разговоров, — перебил его Борька. — Рабочий суд значит рабочий суд. По справедливости всё должно быть.
Анчар и Гертруда вспомнили, где уже слышали фамилию Мазурина — утром Медведь рекомендовал его как одного из вожаков революционеров на Казанской железной дороге, и мандат, выписанный Анчару, был адресован как раз Ухтомскому и этому Мазурину.
— Если боишься, что до Казанского вокзала не доберёшься, я с тобой пойду и дорогу покажу, — продолжал тем временем Борька. — Остальные вон пускай пока наших ищут, а то и мы по пути кого встретим: тоже лучше будет, если я с вами пойду. Ну как, честное слово дашь? И вы тож, — окинул он взглядом Геру и Балакина с Чибисовым.
— Нам-то что, — пожал плечами Чибисов, видимо, и за Балакина говоря. — Рабочий суд дело хорошее, а так — как сами знаете. Он ваш, с железки, что хотите, то и делайте. Я стрелять не стану, это пожалуйста, а на вокзал вести не обещаю. Мы с Сёмой, — кивнул он на Балакина, — как дело выполним, к Сущёвке пойдём, наша дружина там.
-
Решение судьбы пленника вышло долговато, конечно)
Но зато как я рада, что история продолжается!
|
-
-
Замечательная и поелзная идея!
-
|
Мухин
Тело пулемёта колотилось в руках, в нос била едкая машинная гарь, было одновременно и жарко, и холодно, и, вероятно, оглушительно всё грохотало вокруг. Мухин водил носом пулемёта влево и вправо, хлеща пулями то по одному концу улочки, то по другому — то по разлетающимся от выстрелов зарослям бурьяна, то по изгороди (одна из жердей переломилась и ткнулась в землю), то по ухабистой грязи и лужам, выбивая цепочки фонтанчиков. С той стороны, куда летели пули, копошились маленькие фигурки — разбегались в стороны, спотыкались, падали на колени, а потом навзничь. Кто-то оставался лежать, кто-то отползал дальше — голову застилало огненным жаром, в глазах плыло, понять точнее, что происходит с этими фигурками, не удавалось. Вероятно, в кого-то он попадал, в кого-то нет. Торопливо и беззвучно вспыхивали с той стороны огоньки: сначала один (Мухин повёл стволом в его сторону, но выпустившая огонёк фигурка тут же скрылась за углом дома), потом другой, третий.
«Снова стреляют» — через вихрь обрывков мыслей, не складывающихся один с другим и крутящихся в голове безумной мельницей, вдруг пробилась одна оформленная, законченная. Да, в него снова стреляют, и, видимо, вот-вот убьют.
Фрайденфельдс
— Коль не убьют, не потеряю, — хрипло заверил Фрайденфельдса Живчик, с благодарностью принимая оружие. Только он успел сунуть магазин в карман и взять пистолет, как снова где-то рядом грохнула граната, а за ней сразу же ещё одна.
Действительно, гранатомётчиков должно было быть двое. Кроме того, — понимал Фрайденфельдс, — гранаты в таком лесу можно было запускать только по высокой параболе, а следовательно, гранатомётчики должны быть совсем недалеко, метрах в пятидесяти. Однако, высмотреть их не удавалось — лес был густой: разлапистые нижние ветви елей совершенно скрывали обзор в десятке-другом шагов.
Юнга Петров, поднявшись с земли, пригибаясь, побрёл передавать приказ дальше по цепи (оставалось только надеяться, что он сможет высмотреть в лесу товарищей и сам там не заблудится). На короткое время повисла тишина, нарушаемая только стрекотом пулемёта и частыми выстрелами с другой стороны речки, и снова, один за другим, дважды бахнуло далеко за спиной. Стало понятно: запускают вслепую: как Фрайденфельдс врага перед собой не видит, так и эти — лупят наудачу.
— Фот, фот он, тут! — донёсся из-за спины одышливый голос с латышским акцентом. Фрайденфельдс оглянулся и увидел Верпаковкиса, показывающего пальцем на командира. Вместе с Верпаковкисом были ещё какие-то люди.
— Фот, суда, суда! — оборачивался Верпаковкис к юноше, который, пригибаясь и оглядываясь по сторонам, торопливо пробирался между елями. Юноша этот выглядел так, будто гимназист решил играть в войну, только ещё не решил, кем: то ли шофёром, то ли офицером: чёрная кожанка, кожаный же картуз с шофёрскими очками, заляпанные грязью на коленях армейские шаровары, портупея с шашкой и кобурой, чехол с огромным, видимо, морским биноклем на боку, а на другом — не одна, а аж две офицерские планшетки: ремешки от всего этого в беспорядке пересекали кожанку вдоль и вкось, и надо думать, что если бы юноша захотел всё это с себя снять, он бы десять раз запутался в своей сбруе. Выглядел он лет на девятнадцать-двадцать, а лицо имел, иначе не сказать, — ангелическое. В руке он держал наган.
За юношей и Верпаковкисом следовали какие-то люди в крестьянской и солдатской одежде, с винтовками, по виду напоминающие калужан.
— Es nevarēju atrast Baranovu, es atradu tikai kādu Vodovozovu, bet viņš bija piedzēries, — сходу доложил Верпаковкис, бухаясь на локти рядом с Фрайденфельдсом.
— Вы тот самый Фрайден с пулемётом? — брякнув сбруей, юноша бухнулся с другой стороны от Фрайденфельдса. — Карпов! — гаркнул он, видимо, представляясь. — Я привёл псковичей, это наш резерв! Нас пятьдесят бойцов! А Водовозова не ждите, я приказал его расстрелять! — петушино воскликнул он. — Где враги? Там? — рубанул он ладонью вперёд. — Может, бросимся на них, а?
Говорил юноша всё это так браво и бодро, как обычно говорят, когда не знают, что делать, и не хотят подать виду.
-
Нас пятьдесят бойцов! А Водовозова не ждите, я приказал его расстрелять!
Не, ну это топ, конечно))))
|
Мухин
Жирная, бугристая грязь с длинными мутными лужами в тележных колеях, серо-зелёная трава, заросли бурьяна у чёрной бревенчатой стены — всё крутанулось волчком и рухнуло Мухину в лицо, когда он повалился наземь.
Раз, — считал Мухин, — тяжёлый топот ног, пыхтение, пистолетный выстрел. Два: винтовочные выстрелы за спиной, уханье пушки совсем издалека, стрекот пулемёта, неразборчивые вопли, приглушённый огненный жар в ухе, будто льют кипятком через три слоя ваты. Три: ещё пистолетные выстрелы, глухое падение, слабый плеск, стон совсем рядом, пулемёт замолк. Четыре: грохот, дребезг откуда-то совсем близко сверху, и на Мухина посыпались стеклянные осколки. Против воли Мухин открыл глаза и сперва не понял, что видит перед собой.
Совсем рядом с ним, в паре шагов, в грязи лежало что-то вроде свиной туши из мясной лавки — бледная, рыхлая куча плоти, в которой сперва было не разобрать округлого плеча, подвёрнутой толстой руки, бритого мясистого затылка, складок на боках, россыпи родинок по верху спины, и только через мгновение мозг сложил в уме картинку и стало понятно — это Шестипал недвижно лежит ничком в грязи, выронив винтовку. Мёртвый? Вдруг стало понятно — мёртвый.
Вспомнилось, вспышкой промелькнуло к чему-то — яркий, будто стеклянный осенний день, Красное Село, разгромленный сарай, колода с топором и отрубленной петушиной головой, вкусный запах варёной пшёнки и дыма, Шестипал пудовыми кулачищами мутозит кого-то из товарищей, а на Мухина с матершиной налетает другой красногвардеец. Это в прошлом октябре было.
Собственно, там, в Красном Селе, Мухин с Шестипалом и познакомился. Слышал о нём и раньше, — об этом шестипалом все в Красной Гвардии слышали, а познакомился только в конце октября, на Пулковских высотах. Когда атака казаков Краснова — представлявшаяся такой жуткой, а оказавшаяся чистым шапито, — захлебнулась и стало понятно, что продолжения не будет, Мухин с братишками пошли пожрать к полевой кухне на окраине Красного Села. Седой и Живчик там тоже были, а вот юнги Петрова не было: чёрт его знает, где он шлялся в те дни. Там у разбитого артиллерией сарая сидели, как бездомные собаки у стены, красногвардейцы в рабочих куртках, свитерах и картузах. «Ты чего, и есть тот шестипалый?» — спросил кто-то из матросов, хотя Шестипал как раз держал ладони над костром и второй большой палец его был виден всем. «Ну», — по-коровьи промычал Шестипал, которому этот вопрос задавали уже в тысячный раз. «А чё, дрочить удобно такой рукой?» — нагло лыбясь, спросил кто-то. «По морде бить удобно», —прогудел Шестипал, не задумавшись: подобные вопросы ему тоже задавали в тысячный раз, и ответ на них у Шестипала был давно готов. В общем, закончилось всё потасовкой, но без оружия и особой злобы — так, поваляли друг друга в грязи, а потом, как повар крикнул, что каша с курой готова, пошли шамать все вместе, утирая расквашенные носы. Все тогда были рады, что Краснова отогнали, вот и не злились друг на друга сильно. А настоящая фамилия у Шестипала, — вдруг подумалось к чему-то, — была то ли Мочалин, то ли Маркелов… нет, не вспоминалось.
Бахнуло над ухом совсем близко, и только тогда Мухин перевёл взгляд на телегу и увидел, как валится наземь тот самый блондинчик с квадратиками на шапочке. Это Расчёскин, высадив стекло прикладом и длинно выставив ствол мосинки из окна деревенского дома, выстрелил почти над Мухиным. Блондинчик уже бежал прочь, но не успел далеко убежать. Двое его товарищей по-заячьи, пригибаясь, улепётывали к ближним огородам, оставив пулемёт, а из садов с другой стороны улицы тоже палили им вслед какие-то люди с винтовками — с трудом понималось, какие, так всё звенело и крутилось в голове, а в ухе начинало разгораться, будто кто-то дул на сидевший там уголёк. Мухин поднял маузер, два раза пальнул вслед убегавшим — один упал, но непонятно, от его ли пули, от чужой ли.
Мухин снова оглянулся на замершего в грязи Шестипала и разобрал, что за ним, чуть подальше, в длинной оставленной тележным колесом луже лежит ещё один человек: седой, в перемазанной грязью серой от воды рубашке, городских брюках с помочами, с карабином в руках — Тюльпанов. Пожилой слесарь был жив: он, по-ящеричьи извиваясь, полз прямо в луже, загребая локтями мутную жижу. Ранен он, что ли, или просто залёг и отползает? Ранен, ранен: на правом боку на серой мокрой рубашке проступает кровь.
— Ваня! — просипел Тюльпанов, по-собачьи глядя на матроса. Рядом с Тюльпановым вжикнула пуля, подняв фонтанчик мутной грязи: По Мухину, кажется, не стреляли, а вот Тюльпанов оставался на середине широкой улицы, с дальнего конца которой всё палили.
Вдруг что-то сдвинулось в голове, будто один рычажок гладко зашёл за другой, повернув шестерёнку, и наконец вспомнилось — Мотыгин. Максим Мотыгин.
Фрайденфельдс
— Ja, komandieri, — ломким голосом откликнулся Верпаковскис. По-русски он вообще говорил плохо и не любил, но всё-таки знал достаточно, чтобы понять приказ, и с Барановым, наверное, смог бы объясниться. Не мешкая, он тут же скрылся в лесу.
— Сказано вам, в цепь, тля питерская! — зло шикнул Дорофей Агеев на Рахимку, Бугрова и Зотова, которые побаивались удаляться от пулемёта — он в их представлении давал какую-никакую, а защиту. — Туды, туды! — ткнул он пальцем в разные стороны леса.
Когда бойцы скрылись за елями, в поле зрения Фрайденфельдса остались только Кульда, Землинскис, Калиньш, Пярн у пулемёта, с ними растерянный юнга Петров да двое бойцов в непосредственной близости — один калужанин из той троицы, что били на хуторе питерца Зотова, рыжий, рябой: его имени Фрайденфельдс сходу не припоминал; другой — Живчик: этот не залёг, а сидел спиной к ёлке, как был. Живчик злобно зыркал по сторонам и матерился под нос: пистолета у него не было, винтовкой он пользоваться не мог и, видимо, полагал, что, если враг появится перед ним, придётся испепелять его взглядом.
На какое-то время всё вблизи стихло: из-за реки стрекотал, потом притих пулемёт, наперебой палили винтовки и доносились крики, ещё более издалека так же ухала артиллерия. Кульда, присев за еловым стволом, принялся суетливо поправлять на шее своё нелепое кашне из наволочки. Землинскис лежал за пулемётом и зачем-то тихо цокал языком, изображая из себя то ли хронометр, то ли метроном. Калиньш придерживал ленту. «Мне что делать-то тут?» — шёпотом спросил присевший рядом на корточки Петров, опасливо поглядывая на латышей. Калиньш скосился на него и криво ухмыльнулся, но ничего не сказал. Сидевший рядом Пярн звучно хлопнул севшего на щеку комара, а затем снял фуражку и яростно поскрёб себя по макушке. Потом он, будто перед зеркалом, аккуратно пригладил засаленные светлые волосы и только собирался надеть фуражку обратно (ещё бы, небось, и выровнял, взявшись за тыльную часть и козырёк, будто гвардейский офицер какой), как где-то впереди, за деревьями, глухо хлопнуло, сверху просвистело и тут же бахнуло.
Граната бахнула где-то высоко в верхушках елей и сильно позади, но все равно бойцы вжали головы в плечи, заоглядывались было — но тут бахнула ещё одна, тоже на безопасном расстоянии. Ружейные гранаты, — понял Фрайденфельдс, — артиллерию им и не требуется наводить, у них своя ручная есть. Сейчас ещё полетят.
А Пярн тем временем-таки надел фуражку и — да, хладнокровно выровнял, взявшись за тыльную часть и козырёк, будто гвардейский офицер какой.
-
Очень жизненный, очень яркий пост. Да и выборы весьма натуральные.
-
|
Мухин:
Мир зашатался, сжимаясь до узкого туннеля, на дальнем конце которого тряско плясала из стороны в сторону телега с наваленными на ней рогожными мешками, английский пулемёт за ней да трое врагов. Пулемёт не переставал долго строчить, казалось, что беззвучно — настолько всё в голове слилось в один грохот, как у проезжающего над ухом товарняка. Однако, чёрное рыло пулемёта смотрело не в сторону Мухина, а прочь и вкось от него, по направлению к дворам с другой стороны моста. Видимо, оттуда тоже набегали наши, но сейчас в этом было не разобраться: ходило всё в глазах, мешалось как в мясорубке, непонятно было даже, бежит кто-то из своих сейчас ли за Мухиным, кричит ли вместе с ним, палит ли из винтовки вслед: всё это было за пределом узкого туннеля, а в конце его — только телега с обитыми ржавым железом колёсами и дощатыми бортами, пара уткнувшихся в жирную грязь оглоблей, на телеге рогожные мешки с выпукло торчащими кромками и за ними — пулемёт. Двое склонились над пулемётом, а третий — тот самый, который Мухина и заметил у угла, — долговязый безусый молодой блондин с узким, нерусским лицом под странной синей пилотской шапочкой с двумя рядами пижонистых белых квадратиков по краю, с неотрывным ужасом глядел на него, дёргая из кобуры револьвер.
Почти у самого уха мерзко вжикнуло, и как-то отстранённо подумалось о том, что появившиеся сзади солдаты, оказывается, в него стреляют — и десять раз могут подстрелить, пока он добежит до телеги.
Фрайденфельдс:
Ерошка Агеев, поднявшись на локте с серой земли, мрачно зыркнул из-под кустистых бровей на Фрайденфельдса — в самое пекло, мол, посылаешь, морда латышская? — но ничего не сказал.
— Обходят! Обходят! — пронесся шепоток между бойцами, но Ерошка спокойно обернулся к своим:
— Не ссы, не ссы… Дорошка, Терёшка, Влас, айда за мной!…
Кульда с Землинскинсом и Калиньшом принялись деловито разворачивать пулемёт, все питерцы попадали на землю, поводя стволами винтовок, всматриваясь в пересечения сизых еловых лап, в перерезанные тенями глубокие просветы между ними. Ерофей Агеев с названными быстро, по-ящеричьи пополз в указанном направлении — но проползли они только с десяток шагов, едва скрывшись за ближайшими ёлками: неизвестные, похоже, сами шли по лесу, выходя ровно на отряд, и первые заметили то ли пластунов, то ли пулемёт, то ли питерцев. Оглушительно треснул винтовочный выстрел, за ним ещё один, полетели иглы с еловых ветвей где-то сбоку. «Болос, болос!» — послышался нерусский голос, в ответ, протяжно прокатывая два слога, закричал другой, что-то приказывая на английском, — по интонации было не понять, что. Но более выстрелов не последовало.
— Отходят! — закричал Ерошка Агеев, прильнув щекой к винтовке, но вслед интервентам не стреляя. А Землинскис бешено оглянулся на командира — мол, причесать их вслед? Кого причёсывать, было, впрочем, не разглядеть — разве что пустить длинную очередь наугад: авось зацепит или хоть напугает.
|
Мухин:
Какое-то время казалось, что вот-вот, и течение подхватит Мухина, каждый шаг в охватывающей тело, перехватывающей дыхание толще воды давался тяжело, ноги тонули в вязком дне, — но вот, наконец, дно пошло вверх, и уже скоро Мухин, хлюпая сапогами с навязшими на них соплями водорослей, выкарабкался на глинистый бережок за старой баней, мажа ладони и колени в полужидкой грязи.
На воздухе сразу стало даже холодней, чем в воде, — мокрая одежда липла к телу как ледяная плёнка, малейший ветерок пробирал до костей, против воли дробно колотили зубы. Вылезающие вслед за Мухиным из реки красноармейцы выглядели не лучше — мокрые, продрогшие, отплёвывающиеся, с сосульками слипшимися волосами.
— К-куда? — отхаркиваясь, прохрипел голый до пояса и бледный от холода Шестипал, озираясь по сторонам с винтовкой в руках. Мухин извазюканной ладонью указал на ближайшую избу, и побежали туда.
Перебрались через низкую изгородь из кривых серых палок, пробежали по пустому, неряшливому двору: капустные грядки, рядок смородинных кустов, серый бурьян по углам, завалинка, покрытая выцветшим мокрым ковриком, рыжий от ржавчины обруч от бочки под ногами, тележное колесо со сломанной спицей, свежие следы от пуль в чёрных брёвнах дома. Окна темны, никого не видно. Уже подбегали к крыльцу, и тут из будки рядом с ним выскочила, гремя цепью, рыже-бурая псина — скаля жёлтые, как у курильщика, зубы, принялась бешено лаять на красноармейцев, порываясь соскочить с цепи. Не останавливаясь, Артюхов пальнул в неё от бедра: собака, скуля и повизгивая, упала на землю, дёргаясь в агонии.
Стуча зубами, остановились у угла дома, выглянули за угол направо — да, вот пулемёт, тут! Мухин увидел — поперёк деревенской улицы поставлена распряженная телега, а сбоку от неё на земле примостился пулемёт на треноге. У пулемёта — несколько человек в иностранной форме. Один, вероятно, заслышав лай пса и близкий выстрел, смотрел как раз в сторону Мухина и, встретившись с ним взглядом, бешено захлопал по плечу своего товарища у пулемёта, показывая рукой и лопоча что-то на своём. Мухин отпрянул обратно за угол, и тут его толкнули в бок.
Это был Расчёскин. Ни говоря ни слова, он указал налево по деревенской улице, откуда скорым шагом приближались люди с оружием в руках — один, другой, третий, а вскоре уже и десяток появлялись из-за поворота широкой, тонущей в жирной грязи деревенской улице, настороженно оглядывались. Не дожидаясь, пока солдаты их заметят, Расчёскин отпрянул назад, хлюпая сапогами, взбежал на крыльцо дома и дёрнул ручку двери, жестом показывая — «За мной!».
Фрайденфельдс:
Фрайденфельдс со своей позиции видел, как Мухин с добровольцами вошли в реку, пересекли её и выбрались на противоположный берег. Тем же занимались и барановцы справа от моста — там тоже, видел он, красноармейцы один за другим лезли в воду, кто-то уже и выбирался на травянистый берег с другой стороны — но тут же по ним начали стрелять откуда-то из домов и огородов. Один из пересекших реку барановских бойцов, лёжа, широко размахнулся и метнул гранату — взрыва не последовало. Другие барановцы, не желавшие лезть в воду, стреляли по огородам с опушки леса; знаменоска с красным флагом и командир в чёрной коже тоже куда-то подевались. Издалека, со стороны станции, раз за разом бухала артиллерия. Калужане и латыши лежали под ёлками, настороженно поводя стволами вслед за фигурами Мухина и добровольцев, пока те не скрылись за углом избы. Оставшиеся в охранении питерцы вертели головами, не зная, то ли всматриваться в лес, где ничего не происходило, то ли следить за другим берегом.
— Люди! — вдруг громко зашептал Рахимка над самым ухом Фрайденфельдса, показывая в лес. Фрайденфельдс оглянулся и действительно увидел, как между серо-зелеными еловыми ветками промелькнула и тут же скрылась за деревьями чья-то фигура, а сбоку от нее — еще одна. Кажется, неизвестные шли сюда и отряд Фрайденфельдса пока не замечали: их, сидящих и лежащих в лесу без движения, заметить было, конечно, сложней, чем Фрайденфельдсу — неизвестных.
-
Вот теперь веселье набирает новые обороты!
|
Как Мухин и ожидал, калужане энтузиазма не проявили: Дорофей Агеев потупил взгляд, встретившись со взглядом матроса, а Ерошка сам зыркнул в сторону товарищей — сидите, мол, не высовывайтесь. И, столь же ожидаемо, первыми вызвались питерцы.
— Я пойду, — первый сказал Максим Шестипал.
— Я тоже, — тут же присоединился к нему Нефёд Артюхов.
— Ладно, я с вами, — хмуро сказал Тюльпанов, тяжело поднимаясь с земли, хотя по пожилому слесарю было видно, что лезть в ледяную воду ему отчаянно не хочется.
— Я тоже пойду, — хлопая глазами и сам, видимо, не до конца понимая, куда идти, встрял юнга Петров.
— Сиди уж, марафетчик, — устало хлопнул его по плечу Седой, останавливая юношу.
Седой тоже вызвался было идти, но Мухин сказал ему, чтобы тот оставался здесь за старшего, и матрос спорить не стал. Мухин оглядел остальных питерцев, но несостоявшийся мародёр Зотов, вечно простуженный Бугров и глупо пялящийся на товарищей Рахимка вызываться добровольцами не собирались, понуро отводя взгляд. Латыши от пулемёта наблюдали, не вмешиваясь, молчали и калужане.
— Вызываюсь, — неожиданно донеслось из-за спины. Это рябой и лопоухий калужанин Саша Расчёскин, уже скинувший шинель, сейчас торопливо стягивал через голову линялую, в пятнах пота косоворотку, обнажая тощую спину. Про него говорили, что он на фронте был разведчиком, — припомнил Мухин. Всё помалкивал-помалкивал, а сейчас гляди-ка — вызвался добровольцем. Оголившись до пояса, Расчёскин, дрожа от холода, принялся цеплять себе на пояс шинельный ремень с подсумками.
— Санька… — с неясным выражением окликнул его Ерошка Агеев с земли.
— Цыц, Ерошка, — отозвался Расчёскин. — Слышь, шестипалый, сапоги не сымай, — деловито обернулся он к Шестипалу, который по примеру Расчёскина уже скинул свою замызганную куртку и сейчас собирался разуваться. — Небось не утонешь, а босиком много не навоюешь.
Мухин и четверо добровольцев спустились к речке, настороженно следя за домами на той стороне. Никого не было видно — только серые сараи, косые изгороди, заросшие огороды, тёмные избы. Вражеский пулемёт притих, но захлебнулась и атака отряда Баранова — через мост переть уже опасались, хотя кто-то и пытался пересечь реку за мостом — но Мухину с берега это было не разглядеть. Да и думать об этом было нечего — пора было лезть в воду.
Уже подступая к тихо струящейся чёрной воде в зарослях осоки, Мухин почувствовал, как тянет от воды погребной, колодезной стужей. Не так с морем: бывает, что море холодное, и на широкой полосе берега всё тоже тонет в промозглом, сыром тумане; бывает и наоборот, что море холодное, а на пляже пригревает солнце, и море с берега обманчиво кажется ласковым и тёплым. С рекой иначе — если она холодная, она честно об этом предупреждает всякого, но предупреждает уже у самой воды, обдавая волглым холодком у глинистого бережка. Стуча зубами от холода, добровольцы остановились у воды. Переглянулись. Все по примеру Расчёскина уже скинули верхнюю одежду — Шестипал разделся до пояса, обнажив крупное, рыхлое и бледное тело, другие — до нательных рубах. «Ну, буде ждать-то», — обернулся Расчёскин на остальных и первый решительно зашёл в воду.
Студёная вода тяжело хлынула за голенища сапог, когда вслед за Расчёскиным и Мухин вступил в реку, нетвёрдо переступая по полужидкому, студенистому дну, затянутому зелёными колыхающимися водорослями, протянутыми по течению как русалочьи волосы. По мере того как Мухин заходил в реку глубже, ноги, бока, потом грудь обжигало холодом: дыхание перехватывало, нутро сжималось, скулы деревянели, крупно стучали зубы. Чем дальше, тем сильнее било в правый бок ледяной струёй течения: идти становилось всё сложнее.
Товарищи шли рядом — Мухин видел, как слева и спереди, высоко подняв винтовку над головой, бурунцами взбивает воду Расчёскин — голый до пояса, но в пехотной фуражке без кокарды, со сбившимися за спину латунным крестиком и чёрной иконкой на цепочке. На покрытом гусиной кожей боку Расчёскина виднелась бледная звёздочка шрама — вот лизнула её мыльная сизая волна, ещё раз лизнула, и скрылся шрам под водой: вода доходила до пояса, затем до груди, а они не прошли ещё и середины реки.
Сзади послышался шумный плеск — Мухин оглянулся и увидел, как над водой появилась кашляющая и отплёвывающаяся голова Тюльпанова. Матерясь, Тюльпанов с брызгами поднялся из-под воды, вытащил из воды карабин, попытался поймать слетевший картуз, но не смог — он, качаясь, как мячик на волнах, быстро уплывал прочь.
Пронзительная стужа от воды лизала бока, толща свинцово, тяжело плещущейся воды поднялась совсем близко к лицу, захлёстывая уже плечи, подбираясь к подбородку, отчаянно давило течение, грозя свалить с ног, — а было всё ещё неясно, уйдёт ли дно ещё ниже или вот-вот пойдёт вверх.
-
нетвёрдо переступая по полужидкому, студенистому дну, затянутому зелёными колыхающимися водорослями, протянутыми по течению как русалочьи волосы. – мастер художественного слова))).
А если серьезно, как всегда крутой язык!)
-
Колоритнейшие описания! Настолько, что прямо чувствуется все, что написано, буквально кожей.
|
Чисто — понял Фрайденфельдс, вместе с бойцами выйдя на старую позицию. Оставшихся на берегу убитых и раненых интервенты уже убрали, — только тот, что свалился в реку, там и оставался, камнем застыв в пенистой чёрной воде. Никого не было видно ни в огородах, ни в шевелящихся под холодным утренним ветром кустах. Мёртвая, тихая деревня.
Как и было приказано, латыши принялись устанавливать пулемёт под ёлку: со стуком поместили тело на станок, Землинскис улёгся за пулемёт, клацнул шатуном. Слева и справа, кто на колене, кто на пузе, располагались калужане: поводили стволами мосинок, выискивали цели: никого. Питерцы с растерянным видом принялись располагаться полукругом, прикрывая тыл, сами, похоже, не понимая, от кого — все уже как-то само собой принимали, что на этой стороне речки безопасно. Рахимка и Зотов улеглись было вместе с калужанами, чтобы стрелять по той стороне реки — бестолково расставляющий своих бойцов Тюльпанов закричал на них, принялся показывать, куда идти, в какую сторону смотреть. Живчика усадили спиной к ёлке шагах в пяти позади пулемёта — тот, баюкая раненую руку в грязной перевязи, ругался сквозь зубы, что даже нагана у него нет, чтобы стрелять, ежели вдруг чего.
Фрайденфельдс отвлёкся на минуту, чтобы направить на нужное место осоловело мнущегося на месте Лёшку Петрова, и пропустил тот момент, когда пулемёт без команды застрочил.
— Между домами! — по-русски, чтобы поняли калужане, закричал Землинскис, останавливая очередь. Бросившись к пулемёту, Фрайденфельдс вгляделся по направлению, указанному Кульдой, и действительно увидел на той стороне реки движение — несколько фигур перебегали в узком промежутке, открывающемся между сараем почти на самом откосе речки и чёрным, большим крестьянским домом. Перебежали, кажется, все: слишком узок был промежуток и слишком далеко противник, чтобы, не пристрелявшись, попасть.
— Окна держите, братцы! — прогудел с земли Ерошка Агеев, прильнув щекой к прикладу мосинки.
Окна изб хмуро глядели из-под грязно-белых резных наличников, кое-где занавешенные белым домотканым полотном, кое-где просто тёмные как омут: ни огонька внутри, ни человека. Никто не спешил вылезать под выстрел и из-за углов, шагах в трёхстах справа пустовал деревянный мост, мерно потрескивала стрельба издалека, с юга. На короткое время всё замерло: молчал пулемёт, тупорыло уставившись из-под ёлки, молчали калужане, распластавшиеся с винтовками на сером усыпанном еловыми иглами и шишками песке, нервно оглядывались в их сторону питерцы, вглядывающиеся в чересполосицу сумеречного леса, — и тут справа бахнуло.
Сначала одиноко бахнул пистолет, где-то не очень близко, и уже через мгновение до отряда донесся гул множества голосов, кричащих что-то мощно, нечленораздельно и слитно, как кричат, когда поднимаются в атаку. И действительно, справа, в том месте, где реку пересекал мост, показались люди — в шинелях, в куртках, в бекешах, с папахами, фуражками и картузами на головах, — выбегающие из лесу с винтовками в руках. Кто-то палил, задрав ствол вверх, кто-то просто с криком летел к мосту и берегу. Было похоже, что бойцы построились на опушке и выбежали из лесу цепью, но цепь почти сразу поломалась — никому не хотелось лезть в холодную воду, и чуть не половина цепи, сгрудившись, побежала к мосту. Когда первая цепь со стрельбой и криками уже почти достигла реки, из лесу показалась вторая, отличная от первой тем, что вдалеке, почти у того места, где кромка леса закрывала обзор Фрайденфельдсу и Мухину, появился знаменосец с красным флагом — а приглядевшись, можно было увидеть, что это женщина: в длинной серой юбке, чёрной кожанке и алой косынке на голове, она остановилась посреди луга, активно махая над головой красным флагом и крича что-то товарищам — слов издалека, в общем гуле было не разобрать, но и без того было ясно: зовёт бойцов в атаку.
Первые бойцы уже со стрельбой и криком выскочили на мост, рванули по нему на тот берег — и тут с той стороны загрохотал пулемёт. Красноармейцы бежали по мосту плотно, сбившись в кучу, являя собой идеальную цель для пулемётчика — и Фрайденфельдс видел, как были скошены первые атакующие, добравшиеся уже до середины моста, как упали на заезженное деревянное полотно моста следующие за ними, как переваливался кто-то через перила, бросаясь в воду.
Бодро начавшаяся атака враз захлебнулась: подбегавшие к мосту из леса попадали на землю, принимаясь без разбору палить куда-то за мост. Женщина-знаменоска тоже упала было на траву, но быстро поднялась сначала на колени, а потом и на ноги и снова принялась, крича что-то, махать красным флагом — уже не над головой, а параллельно земле, напоминая этим какую-то тореадорку. Из лесу всё ещё продолжали, уже без всякого порядка, выбегать люди — один из них, весь в чёрной коже, бежал с высоко поднятым над головой пистолетом и стрелял из него в воздух, поднимая бойцов в атаку. Пулемёт всё ещё молотил длинной очередью по мосту, по лужку за ним, но левей, кажется, не доставал, и бойцы — кто пригнувшись, кто на четвереньках, — подползали к невысокому глинистому бережку. Сзади набегали другие, и первые, подступившие к реке, заходили в воду. Высоко подняв винтовки над головами, они быстро погружались до пояса, затем до груди, до шеи — кого-то сносило течением, кто-то, бултыхаясь в белых бурунцах, выпускал винтовку и принимался по-собачьи грести к берегу, кто-то, оставаясь на ближнем берегу, продолжал палить в сторону другого берега. Знаменоска махала флагом, командир палил из пистолета, бойцы пёрли через чёрную воду, невидимый вражеский пулемёт молотил по мосту и лугу, Кульда и остальные вопросительно оглядывались на Фрайденфельдса. Надо было что-то решать, и быстро.
-
Прекрасно яркий и реалистичный пост!
|
— Kamerad Lett! — сходу обратился к Фрайденфельдсу Фукс, видимо, ожидая, что помощи Трошки в разговоре с латышом не потребуется. — Ich bin Fuchs, Sie müssen von mir gehört haben.
Фрайденфельдсу же было вовсе не до biedam vācietim. За время драп-марша он успешно накрутил себя, что вроде и надо побыстрее, но что и надоело отступать, и все такое прочее, в общем, был глубоко погружен в себя. Больше спотыкался, чем отступал, так что подвыдохся немножко за день, да и вообще за последнее время. Даже устал удивляться, только посмотрел непонимающим взглядом на злостного нарушителя формы одежды (по форме больше-то и понял, что немец) и для начала его отшил (все равно половины слов не понял по давности годов), обратившись к Мухину:
- Комиссар, это что еще за явление? Или белая пропаганда про немецких наемников, оказывается, не того,.. как это... не-без-основательна?
– Никак нет! – откликнулся Мухин. – Это наш немцок, большевик, я партибилет видел. Фукс. Говорит, из отряда Баранова, – он пожал плечами. – Мы на них в лесу натолкнулись.
Что дальше будет? Может, договорятся сейчас командиры, да и ударят по интервентам вместе?
Знакомый предбоевой азарт, унявшийся было, снова заговорил в душе моряка.
"Вот бы и ахнули!" - подумал он, но решил, как говорится, "разумением не смущать начальство."
Кто его знает, сколько там у этого Фукса людей, может, ты да я да мы с тобой.
– Немец-большевик? Забавно. – под нос пробубнил Вацлавс и, шумно выдохнув, снова проигнорировал немца:
– Стрелки – развернуться, контролировать сторону, откуда мы вышли. Пулеметчики, проверить расход, доложить.
И только сейчас все-таки решил поговорить с "явлением", потому что уже отмазок было не придумать.
– Ich habe nichts... über Sie und Baranow... эээ... хёрен, да... хёрте, гехёрт... gehört. Entschuldigung, mein Deutsch ist schlecht.
И тут до взводного дошло:
– Слушай, Мухин, как же вы с ним разговаривали, если он по-русски ни бельмеса?
— Дык я переводил-то, — выступил из-за спины Фукса Трошка. Фукс оглянулся на своего помощника с облегчением: было видно, что без этого кривоватого и неказистого мужичка немцу-большевику в этих местах никуда.
— Troschka, übersetz! — распорядился Фукс и начал бойко частить по-немецки, бегая глазами с Фрайденфельдса на пулемёт.
— Мы тут это, — оживлённо жестикулируя, почти без запинки пересказывал Трошка, хоть и скорей объяснял своими словами, чем передавал речь Фукса, — мост перейти собирались, а вы из пулемёта жарить начали, мы и остановились. А раз у вас тут пулемёт (Фукс действительно указал на максим), вы их сейчас должны прижать к земле, прикрыть нас, так сказать. А мы через мост вдарим, деревню возьмём и в самый тыл англичанам выйдем! — на этих словах Фукс азартно пристукнул кулаком о свою изгвазданную в грязи ладонь.
Глаза Мухина загорелись.
"Ну же, командир!" – говорил его взгляд.
– Умные все стали, я смотрю, — Фрайденфельдс хмыкнул и, почесав щетину, спросил: – Спроси, сколько у вас людей. Или вы вдвоем деревню брать собрались?
Здесь помощь Трошки даже не потребовалась: переводчик только раскрыл рот и обернулся на своего командира, как Фукс гаркнул:
— Skolko? Batallion!
Похоже, Фрайденфельдс умел художественно хмыкать по любому поводу. В этот раз он хмыкнул уже недоверчиво и, не стесняясь, высказался:
– Ну у меня вон все бойцы, что есть, а вроде как пулеметный взвод считаемся. Сколько у вас конкретно людей, стрелков?
И потом уже он задумался. Если действительно есть какой-то отряд Баранова, и этот отряд размером действительно с батальон, что, конечно, сомнительно, но возможно, то, видимо, придется просто взять под козырек. А кто там еще такой этот Баранов есть?..
— Towaritsch Lett, — проникновенно сказал Фукс, беря Фрайденфельдса за плечо, — Zeit ist goldwert, wir sollten nicht mehr trödeln! Usnere Kameraden, — он показал куда-то в сторону, откуда всё так же глухо доносились звуки боя, треск пулемётов, винтовочные хлопки, — jetzt sterben dort!
— Никак невозможно нам мешкать, — перевёл Трошка, — отряд Филипповского там погибает, помогать им сейчас надо. И так-то, — добавил он уже от себя, — мы до рассвета вдарить были должны, а вона уж солнце-то…
Солнце действительно уже поднималось выше, косо светило через ёли, окрашивая лес в блаженный, очень мирный утренний цвет.
— Эр фрагт вифиль фон унс хабен вир, — спросил Трошка у Фукса.
— Keine Sorge, wir haben einige hundert Männer, — быстро сказал Фукс.
— Нас несколько сот, — перевёл Трошка. — Питерцы, псковичи, интернационалисты вот, — кивнул он на Фукса.
Следившие за разговором Тюльпанов и остальные васильеостровцы переглянулись. «Наши здесь!» — читалось на их лицах.
Вацлавс наконец-то перестал хмыкать, но выразил недовольство по-другому, вскинув сильно прищуренный взгляд на толмача. Уж каких слов немецких латыш и не знал, но вот слова "Филипповский" колбасник точно не произносил. Кажется, кое-кто позволяет себе художественный перевод сказанного. И, кажется, знает порядочно. Слишком много сосредоточено в одной личности.
Вместе со всем осознанным, испытание переводчика тяжелым взглядом давало время обдумать все выше сказанное. "Несколько сот", конечно, сказал, как... Ну вот как требовать веры от неконкретных людей. Впрочем, иного выхода все равно нет. Если их хотя половина от одной сотни.
– В любом случае, если действительно имеется старший командир, то я обязан ему подчиниться. И я выполню это. Однако мне необходимо доложить, что произошли некоторые изменения в обстановке на фронте, нам удалось кое-что разведать за время движения. И, раз речь идет о переподчинении, то я должен это доложить старшему командиру.
Лицо Фрайденфельдса было очень невозмутимым, и речь он держал с достоинством.
— Ихь мусс дас цум командирен мельден, — быстро перевёл Трошка.
— Ich bin ein Komandir! — возмутился Фукс. — Wenn du etwas hast, — вперился он глазами в Фрайденфельдса, — melde dich bei mir, und dann müssen wir anfangen. Sofort! Zeit, Zeit, Zeit! — Фукс энергично застучал себя пальцем по запястью, на котором, однако, вместо часов был наручный компас. — Wir sind bereits zu spät!
— Товарищ Фукс сам командир Рождественского интернационального отряда, — перевёл Трошка, — докладывайте ему, и нам нужно срочно выдвигаться, мы и так запоздадли!
— Wir können alles verlieren, wenn wir unentschlossen sind! — нетерпеливо добавил Фукс.
— Нельзя медлить, впросак попасть можем, — перевёл Трошка.
– Извините, но я не вижу ни отряда, ни ваших полномочий.
Вацлавс довольно нервно сглотнул, расстегнул шинель, засунул под нее левую руку и стал ковыряться в нагрудных карманах гимнастерки. Все это время он говорил:
– К интервентам ночью прибыло подкрепление. Мы видели товарный поезд, не меньше десяти вагонов, с тремя орудиями на платформах. В Малые Озерки вошло около роты солдат, причем не англичан и не французов. Их мы и обстреляли, и, наверное, гарнизон сейчас наготове.
Наконец Фрайденфельдс достал то, что хотел – сложенный вдвое листок бумаги, а там штамп СВУОЗ, печать, "Удостоверение". Пред''явитель сего есть действительно командир пулеметного взвода Латышской пулеметной команды ФРАЙДЕНФЕЛЬДС Вацлавс Дзинтарсович, что подписью и печатью удостоверяется.
Очевидно, неуемный латыш ожидал того же от соратника по Интернационалу.
— Mein Trupp ist da, wir sind nur Aufklärung, — ответил Фукс, махнул рукой куда-то себе за спину и внимательно выслушал сбивчивый перевод Трошки, поспевающего за словами Фрайденфельдса.
Фукс, не глядя, передал удостоверение Фрайденфельса Трошке. Тот, по-полуграмотному шевеля губами, принялся читать, а затем, возвращая бумагу Фрайденфельдсу, обернулся к Фуксу:
— Машиненгевертрупляйтер, дер аусвайс ист ин орднунг.
— Gut, — нетерпеливо откликнулся Фукс. — Wir haben keine Zeit für Papierkram. Später werde ich dir alle Papiere zeigen, die du brauchst, aber jetzt brauche ich eines von dir: bedecke uns mit Feuer, wenn wir die Brücke überqueren.
— Потом вам товарищ Фукс любые документы покажет, — перевёл Трошка, — а пока нам надо будет, чтобы вы их к земле прижали, когда мы в атаку пойдём. Через мост-то.
— Wir gehen jetzt, — добавил Фукс, уже собираясь уходить. — Wir zählen auf dich, Kamerad, lass uns nicht im Stich.
— Мы пошли, — перевёл Трошка. — Рассчитываем на вас, товарищ, не подведите нас, этсамое.
"Так и так они в атаку пойдут!" – подумал Мухин, недобро глядя на Фрайденфельдса. – "Так что ж мы, сидеть и смотреть будем? Или в лес уйдем, по грибы по ягоды?! Давай уж, решайся, морда латышская. Думай, как ловчее будет их прикрыть."
– А у вас у самих-то пулемётов нету что ль ни одного? – спросил он вдруг "гостей". – Из одного много не навоюешь. Да и патронов бы!
— Четыре пулемёта! Патронами сочтёмся! — крикнул Трошка, оборачиваясь на ходу: Фукс уже широко шагал прочь, махая рукой остальным своим разведчикам, о чём-то в сторонке разговаривавшими с питерцами. Разведчики, быстро подхватив винтовки, поспешили за Фуксом и скрылись в лесу.
Повисло короткое молчание. Бойцы выжидательно посматривали то на Фрайденфельдса, то на Мухина, то друг на друга.
— Надо поддержать германцев, братва, — болезненно морщась, сказал наконец Живчик, с усилием поднимаясь с земли. — Всё лучше, чем тут по лесу шататься.
Кто-то закивал, кто-то в задумчивости промолчал, не возражая, однако.
— Братцы, братцы, — вдруг подал голос Нефёд Артюхов. — Я насчёт атаки-то ничего, я только сказать хочу одно, чтоб вы знали все. Я тут с этими, — кивнул он в сторону, куда ушёл Фукс с бойцами, — побалакал. Они сказали, гнилое дело у них там.
— Что значит гнилое дело? Ты ясно говори! — обернулся к нему Тюльпанов.
— Да как сказать-то… — замялся Артюхов, — там эти ребята, они наши, питерские, кстати, так вот они говорят, что у этого их Баранова там бардак в батальоне. Бабы какие-то, пьянство, немцы эти ещё… Я сам толком не понял, только понял, что… ну, в общем, толком ничего не понял.
— Не понял, так и помалкивай! — грозно вскинулся на него Тюльпанов.
— Я предупредить только… — пожал плечами Артюхов.
В этот момент из-за леса, откуда-то издалёка, через всё ещё доносящуюся пулемётную стрельбу, донёсся протяжный, жалобный паровозный гудок.
-
у этого их Баранова там бардак в батальоне. Бабы какие-то, пьянство, немцы эти ещё…
Не бардак, а революционный порядок!
|
Услышав обращение «ворриерс», бойцы заулыбались: как и полагается, с покровительственно-снисходительным выражением — дескать, нам лестно, что вы учите наш язык, а что знаете ещё неважно — это не беда, мы вашего вообще не знаем (но, невысказанным продолжением, — нам ведь и не надо).
— Ликатч? — удивился Джимми и вопросительно взглянул на рыжего товарища.
— Никакого министра Ликатч мы не знаем, — пожал плечами тот и добавил: — Прохода нет. Извините, baryshna, — и уже по тому, каким заискивающим тоном он это сказал, было ясно, что прогонять от входа Вику прямо сейчас, как это они бы сделали с иным просителем, эти двое изголодавшихся по женскому вниманию солдат не станут, а попытаются завязать разговор.
Ждать долго не пришлось: Джимми тут же поинтересовался, откуда Вика знает английский, потом великодушно похвалил её знание языка, потом поинтересовался, не посещает ли она вечера в YMCA или YWCA — эти две организации недавно открыли отделения в Архангельске и проводили там танцы и концерты, потом представил своего рыжего товарища: познакомьтесь, baryshna, это Сэм, мы оба из Йоркшира (а не из Шотландии, оказывается!), Сэм из деревеньки в северном Йоркшире, а он, Джимми, из самого Йорка. Это как Нью-Йорк, — пояснял Джимми давно заготовленной остротой, — только более первоклассный (classy).
— Первоклассный, только посмотрите на этого баронета, — толкал его в бок локтем Сэм. — Не слушайте его, baryshna, он сын шорника и сам шорник, — а Вика тем временем давно уже приметила за спинами солдат движение.
Пока Сэм с Джимми увлечённо трепались, открылась створка парадной двери правительственного общежития, и на двор вышли двое. Первый — немолодой, лысоватый мужчина с седой бородкой, в когда-то приличном, но видавшем виды уже, лоснящемся костюме с нечистым, мятым воротничком, — прихрамывая, спустился по ступеням крыльца, за ним вышел другой — помоложе, с простым русским лицом и бриллиантиновым пятном поверх замазанной ссадины на скуле. Этот, с оскорблённо-гамлетовским видом держащий руки в карманах серого пальто-тренчкота, хмуро окинул взглядом двор, часовых у входа и Вику, но не проявил интереса. Оба мужчины сошли с крыльца и принялись закуривать — пожилой достал портсигар, угостил молодого, тот долго, с раздражённым видом чиркал спичками, закрываясь от ветра. Они завели негромкий, судя по всему, начавшийся ещё внутри дома разговор — Вика за трескотнёй йоркширцев не могла расслышать каждого слова, но в паузе разобрала:
— Вы-то остаётесь, а мне теперь как быть? — спрашивал молодой.
— Не извольте беспокоиться, — отвечал пожилой, и в интонации его Вика уловила знакомые нотки — так говорили многие её старшие товарищи по «Новому миру», интеллигентные евреи, долго прожившие в черте оседлости. Остаток фразы она разобрать не смогла — как раз в этот момент Джимми принялся рассказывать про то, откуда он родом.
— Да я не о том же! — раздражённо воскликнул молодой. — А приживальщиком я не буду, кое-какие крохи достоинства остались и у меня!
— Да подождите же вы, к чему эти сцены? — продолжал увещевать пожилой. — Вот Пётр Юльевич вернётся…
— И что сделает Пётр Юльевич? Что вы все сделали, пока… — и снова остаток фразу потонул в потоке трёпа йоркширцев:
— Шорник — это человек, который делает упряжь, — Джимми принялся пояснять Вике смысл английских слов. — Упряжь — это для коней. Для лошадок. Лошадка, — он изобразил ржание, — понимаете?
— Я сегодня же съезжаю и при первой возможности покидаю Архангельск! — выкрикнул молодой, импульсивно пройдя несколько шагов по двору с папиросой в руке. — И еду в Сибирь! В Сибирь! Здесь наше дело проиграно, и если вы ещё этого не поняли, вам это скоро объяснят!
— Ну Михаил Александрович, — совсем уж жалобно протянул пожилой.
— И объяснение вам это не понравится, так-то! — с триумфальной оскорблённостью завершил тираду молодой.
-
из самого Йорка. Это как Нью-Йорк, — пояснял Джимми давно заготовленной остротой, — только более первоклассный (classy).
Сейчас оскорбленная в национальных чувствах Вика достанет ствол и начнет шмалять. ) Как всегда - здорово и колоритно.
|
Только успели оттащить пулемёт за ёлку, снять со станка, только успели отойти вглубь леса, как первая пуля чиркнула по еловому стволу совсем рядом — сообразили, откуда стреляют, начали стрелять в ответ. Но Фрайденфельдс с пулемётчиками и калужанами были уже в безопасности. Здесь, в еловой чаще, откуда ни деревни, ни речки даже уже видно не было, а только просвечивало со стороны опушки, их встретили питерцы, напряжённо заглядывавшие в лица возвращающихся — ну что там, мол? — Причесали как полагается, — довольно сообщил всем Ерошка Агеев, не дожидаясь расспросов. — Рота их там целая. Причесали… Сверились по компасу, двинулись вбок, на норд-вест. Из деревни всё ещё стреляли по лесу наугад, поэтому, чтобы безопасно занять новую позицию, пришлось отойти порядочно. Наконец, сочли, что уже достаточно. Оставив, как и в прошлый раз, Мухина с питерцами в лесу, Фрайденфельс с латышами и калужанами направились к опушке. Выглянули: да, отошли порядочно — те ранее торчавшие прямо напротив дома и огороды, где попрятались интервенты, теперь остались в стороне, стрелять нужно было влево-вкось. Зато справа показался деревянный мост через речку, ранее скрытый лесом. Мост был пуст, никого не было видно и у передней линии домов за речкой — кроме двух солдат. Сейчас они оттаскивали раненого, оставшегося лежать на дороге после пулемётной очереди. Оттаскивали бестолково: пытались сначала поднять на ноги, не смогли, принялись, пригибаясь и оглядываясь, волочить его по грязи за руки. Из огородов, из-за углов бревенчатых изб тем временем вразнобой палили по лесу в ту сторону, откуда ранее стрелял пулемёт, — видимо, прикрывали. Землинскис с Калиньшом с лязгом установили пулемёт на станок, лёжа вытолкнули его тупой нос вперёд. Можно было дать ещё очередь по этим двоим, всё ещё волокшим раненого, по огородам, где за кустами кто-то наверняка сидел. Калужане тоже подползали, с винтовками в руках, к крайним ёлкам, устраивались за стволами. А Мухин тем временем опять остался с питерцами в лесу. Те не горели желанием вступать в бой, особенно ввиду того, что стрельба с другого берега речки отсюда была отчётливо слышна, но и беспокойства особого не проявляли, а просто, как обычно, расположились — кто присел на корточки, кто устроился на поваленном, заросшем бахромой сизой плесени, трухлявом стволе. Стоял вместе со всеми и Мухин. И вдруг из-за спины, совсем рядом, раздалось: — Стой! Руки вверх! — это кричал Федя Зотов, заприметивший какое-то движение в лесу, вскинувший винтовку. Мухин обернулся, вгляделся туда, куда целил Зотов, но глаз сходу ничего не выхватил в мешанине стволов, еловых лап, серой туманной хмари между ними. Товарищи тоже обернулись вслед, поднимая стволы, но из леса никто не спешил показываться. — Немцы, братцы! — ошарашенно заявил Зотов, не переставая держать лес на прицеле. — Чтоб мне провалиться, немцы! Эй, хенде хох! На секунду показалось, что Зотов просто от брожений по лесу спятил, но тут же из глубины леса глухо донеслось, вполне по-русски: — Вы красные аль белые? — Ты скажи! — тут же гаркнул в ответ Тюльпанов, прижимающий карабин к щеке. — Ты первый скажи! — Да наши это! — послышался второй голос с характерным оканьем. — Вона, матросы у их! Красные мы, братцы! Отряд Баранова! Питерцы переглянулись — ни про какого Баранова никто не слышал, — но оружие опустили. А из-за ёлок один за другим появились пятеро — трое вроде калужан, в шинелях, мятых солдатских фуражках, с винтовками в руках, ещё один крестьянского вида — бородатый, в драном и измазанном грязью овчинном бекеше и барашковой шапке, а пятый — самый странный из всех. Его-то, видимо, Зотов и приметил: это был высоченный — головы на полторы выше Мухина — крепкий детина с заросшим светлым волосом щекастым лицом, с неряшливыми пшеничными усами, в серо-зелёной германской форме, перепоясанной русским солдатским ремнём, за которым с одной стороны висела деревянная кобура, а с другой — кинжал в кавказских изукрашенных ножнах. На голове у странного типа была сдвинутая на затылок каракулевая папаха с красной звёздочкой посередине — такие ещё не у всех были, не наделали достаточно. В руке этот бармалей держал маузер. — Kto takie? Kto kommandier? — надменно оглядывая питерцев, спросил он — действительно, с отчётливым немецким выговором.
-
Колоритно вышло! И, главное, вполне исторично.
|
— А что, здесь правда есть всё? — недоверчиво спросил Никита у ближайшего гнома (гномы здесь были везде, это Никита уже знал). От неожиданности он даже забыл назвать гнома карланом, как решил было делать, чтобы довести всю эту породу до белого каления. —В столовой есть все! Можно брать даже мороженое! — ответил гном, показывая на транспарант над потолком. И здесь действительно было всё, понял Никита, ошеломлённо оглядываясь: в бесконечность уходили ряды стоек с цветастыми вывесками, как на фудкорте, длинные заставленные блюдами витрины, приглашающе кланялись перед Никитой гномы-официанты, колдовали за прилавками гномы-работники фастфуда в белых передниках, в поварских колпаках и даже — показалось Никите, — в халате поварихи столовой его средней школы. Никита присмотрелся: и верно — на блестящей металлической столешнице перед гномом-поварихой стояли миски с овощным салатом, тарелки с рисовыми ёжиками под неаппетитной подливкой, большая кастрюля из нержавейки с загадочной надписью краской «I 6 Л» на боку, а рядом — блюдо с толсто нарезанными кусками серого хлеба и рядок маленьких пакетиков дешёвого сока. Гном в халате с кокетливо завитыми на уродливой морщинистой голове кудряшками вскинул на Никиту раздражённый взгляд и гнусаво произнёс: «Утюгов! Чего толпимся! Проходим, порцию берём!» «Ну нафиг», — мысленно сказал себе Никита, поёжился и ускорил шаг, боясь лишний раз оглянуться. Удивительно, но перемещение даже к самым дальним стойкам не требовало усилий — стоило сделать шаг, и всё изобилие заведений, цветастых вывесок, блюд на витринах, официантов, сдвигалось и головокружительно неслось мимо, как в ускоренной съёмке. Более того, не столько Никита шёл куда-то, сколько Столовая перемещалась вокруг него, и Никита видел, что, к какому бы заведению он ни направлялся, стол, за которым расположились одноклассники, находится более-менее рядом. «Каждому Кажеция представляется по-своему», — вспомнил Никита слова Кастора и подумал, что парень таки прав. Он сделал ещё движение, Столовая опять крутанулась вихрем, и Никита обнаружил, что стоит у стального прилавка, в углублении которого установлена кастрюля с бурлящим, пряно пахнущим красным варевом, в котором плавают кусочки какой-то белой массы. Узкоглазый гном в зелёном китайском ватнике помешивал варево здоровыми, в локоть длиной, палочками для еды, соединёнными на концах на манер циркуля. — Это что? — настороженно спросил Никита. — Мапо дофу, — ответил гном. — Бери, мальсик, бесипилатно, — и, зачерпнув половником варева в щербатую мисочку, передал еду Никите вместе с чашечкой парного риса и палочками в бумажном пакетике. Никита почуял подвох. Коммунисты, — понял он. Когда коммунист врёт? Когда у него губы шевелятся. В уме Никиты появился Бенджамин Франклин в лучах сияющего солнца и трубно возгласил с облака: «There is no such thing as free lunch». Никита погрозил карлану пальцем и уверенно сказал: — Из летучих мышей сделали! — но всё же решился попробовать. Он был не очень последовательным юношей. Лучше бы он этого не делал. Сычуаньское мапо дофу немедленно обожгло рот так, будто бы нёбо, язык, гортань Никиты сейчас поливал полыхающими струями огнемётный взвод Народно-Освободительной Армии Китая. Разинув рот и с ненавистью глядя на карлана, Никита бросился прочь. Долго он искал что-то подходящее: глаза разбегались, попробовать хотелось и вот это, и это, и ещё вон то. У стойки с мороженым Никита не удержался: взял рожок зеленоватого, мятного с шоколадом лакомства. «Точно бесплатно?» — поинтересовался он у гнома-мороженщика. Мороженщик подтвердил: точно бесплатно. Мир Никиты рушился на его глазах. «Я в коммунизм, наверное, попал», — испуганно думал Никита, перемещаясь между бесчисленными стойками. — «Но неужели здесь есть действительно всё? Всё, что только можно себе вообразить в качестве еды?» — и, не успел он подумать об этом, как его глазам открылось поистине ужасающее зрелище. Над огромным перламутрово перемигивающим углями железным мангалом на вертеле, зарумянившийся до хрустящей корочки, со сморщенным яблоком во рту, в дрожащем, волнами шедшем от мангала воздухе жарился… сам Никита. Увидев это, Никита остолбенел, мороженое выпало у него из рук. Меланхолично поворачивающий вертел гном-шашлычник, чернявый, бровастый, в нечистом переднике, обернулся к Никите и сказал: — А чего ты хотель, мальчик? Тут всё есть. Вообще всё есть, жи есть. Никита в ужасе бросился к другому прилавку и увидел, как за ним рабочего вида гном в каске варит кирпичи — крошит красный силикатный кирпич молотком, бросает осколки в заполненный прогорклым техническим маслом чан, с каменным стуком помешивает варево ребристым арматурным стержнем. — Ну и чего смотришь? — хмуро спросил он Никиту. — Варёный кирпич. Нишевое блюдо. Никита беспомощно оглянулся в поисках спасения, понимая, что забрёл куда-то не туда, в какой-то дальний угол этого вавилонского фудкорта, где было буквально всё: во всей огромной Столовой не было двух одинаковых блюд. Исходя из этой неоспоримой предпосылки, Никита сделал вывод, что Столовая всеобъемлюща и что на ее витринах можно обнаружить все возможные комбинации потребляемых и даже не потребляемых человеком продуктов (число их, хотя и огромно, не бесконечно) или все, что поддается готовке. Всё: паштет из мужских носков, куски голубого сала, суп из покрошенного и разваренного полного меню Столовой, мириады вариантов окрошки на квасе и кефире из фальшивых меню Столовой, жаркое из трилобита девонского периода, мапо дофу из летучих мышей, стейк из существа с неведомой планеты на другом конце галактики, точная копия сегодняшнего ужина мастера этой игры, миниатюрная копия Кажеции из сахара, запечённый мозг страдающего прионной болезнью дикаря, свадебный торт с фигурками Кастора и Герды наверху и Недусей-стриптизёршей внутри, цементный свадебный торт с фигурками Кастора и Герды наверху и противопехотной миной внутри, коктейль «Слеза комсомолки» (безалкогольный), полный текст этого модуля в шоколадных буквах, советский пломбир, по вкусу точно соответствующий не реальному, а запомнившемуся когда-то в далёком детстве, фруктовый лёд с замороженной кошкой Недуси, сорбе из противогаза Герды с ложечкой в виде пехотной лопатки, мороженое из кровавых слёз читающих этот пост, и, кульминацией этого божественного пира, — деликатес деликатесов: крем-брюле из слёз ОХК, понимающего, что этот пост у него теперь будет висеть в профиле! Это слёзы счастья, дорогие читатели: они прозрачны, чисты и сладки. Кушайте на здоровье. В проносящемся мимо него калейдоскопе еды мечущийся взгляд Никиты внезапно выхватил знакомое: родной, милый жёлтый символ на высоком шесте, сияющий Никите путеводным маяком. Никита сломя голову кинулся к вожделенной красной вывеске, бухнулся локтями на прилавок у окна выдачи, вскинул голову и, тяжело дыша, выпалил свой символ веры, свой якорь, свою вечную триаду, на которой зиждилось его душевное спокойствие: — Бигмак! Картошку! Колу!
-
Рыдал, читая описания. Рыдал горючими слезами ожирения
Мне, пожалуйста, полкило вареного кирпича и жареного Никиту
-
Где-то в параллельном мире (или в архиве модулей Кажеции) этот пост является частью игры "Анкап без МакБомбы™ - не анкап".
-
-
Обед не мальчика, но мужа
-
-
«Я в коммунизм, наверное, попал»
Кажеция - бастион Революции, мы знали это!
-
-
-
-
Ыы. Ассортимент просто убийственный
-
Годное описание столовой - особенно от игрока с ником "Очень Хочется Кушать"))) Особенно упоминание прожарки собственного персонажа и ужина мастера) "+"
-
Ну это уже вообще что-то невероятное)
-
-
-
Вот это вот:
выпалил свой символ веры, свой душевный якорь, свою вечную триаду, на которой покоилось его душевное спокойствие:
— Бигмак! Картошку! Колу!
-
-
-
-
рыдал и хлопал. Гениально
-
СИБИРСКАЯ ВОЛЯ
СИБИРСКАЯ ВОЛЯ
|
— Я был в Петрограде, но там не присутствовал, — мрачно прокомментировал Дедусенко рассказ Виктории о Чернове. — Меня там в тот день не было. Посыл речи генерал-губернатор, однако, уловил: сидел теперь как пришибленный, и было заметно — оставаться одному в компании Янека, Индриксона и Юрченкова ему очень не хочется. Уже уходя, Вика заглянула в чайную и увидела, что Дедусенко с печальным видом молча сидит на своём месте в чайной, а через пару столов от него так же молча уселся Янек, по-совиному уставившись на генерал-губернатора. *** 5:40На улице было всё так же пусто, как ночью, но ржавое, хмурое утро уже висело над городом. После затхлой чайной оглушительно пахло сыростью и водой. На мусорной куче в углу двора гортанно кричали, угрожающе взмахивая крыльями друг на друга и открывая нежно-розовые клювы, две чайки. Дождь перестал: под порывами ветра на свинцовых лужах вздрагивали лоскуты тонкой ряби, мостки на тротуаре были покрыты мокрым рыжим ковром из палых листьев. Улицы были ещё пусты: город был в том утреннем полуобморочном состоянии, когда рабочие на квартирах ещё досыпают последние минуты под угрожающее тиканье будильников, а дворники в своих полуподвальных каморках уже нацепляют фартуки. Прислуга в богатых домах растапливает печи, и сонно ругается, зло брякая утварью, кухарка на горничную. Дождавшись, когда последнего пьяного иностранца отволокут домой, устало ужинает (завтракает?) на кухне ночная смена кафе «Париж», и только латыш Марк, имя которого на родном языке звучит очень революционно, в пустом зале елозит шваброй по паркетному полу, собирает заляпанные скатерти в корзину: зато он в дополнение к еде получит пол-плитки американского шоколада. Типография завершает печать номера «Северного утра», рабочий относит перевязанные бечёвкой, остро пахнущие типографской краской, влажные пачки газет в рассыльную, а снаружи топчется, обхватив себя руками за плечи, первый разносчик — двенадцатилетний паренёк-беспризорник. Пекарь в сером переднике и колпаке достаёт из печи рядок горячих, упоительно пахнущих буханок, цокает языком, заметив сгоревшую, и откладывает её для себя. В трамвайном депо гражданин вешает серое пальто и кепку в шкафчик раздевалки, надевает форменную куртку с фуражкой и превращается тем самым из непримечательного гражданина в кондуктора. В обществе «Капля молока» лаборант заливает молоко в бутирометр, а привезший бидоны холмогорский крестьянин с овчинной шапкой в руках неотрывно глядит на непонятный прибор, подозревая тут подвох. Переводчик за обложенным словарями столом вскидывает красные глаза от исписанных листов на стенные часы и с удивлением обнаруживает, что пора ложиться спать. Извозчик на постоялом дворе шумно дует на блюдце с жидким чаем, а вернувшийся с ночной смены распрягает лошадку, предвкушая, как сейчас почистит её, даст ей овса и наконец брякнется в ещё тёплую от товарища койку. Стоит на часах у ворот правительственного общежития, рядом с полустёртой надписью «УБЛЮ», осоловелый от недосыпа британский часовой, в сонном отупении мечтающий о том, чтобы его наконец сняли с поста. Широкие ворота во двор были закрыты, а у будочки рядом с резной калиткой стоял британский солдат с винтовкой и в брезентовой накидке — очень молодой и нескладный, рыжий, пучеглазый, с лошадиным вытянутым лицом, такой типичный томми, как с картинки в нью-йоркском Mid-Week Pictorial: в журналах любили публиковать фото именно таких, простоватых парней, как бы утверждающие — если уж такие, как этот, воюют и не жалуются, то и любой сможет. — Oi! Stoy!… — протяжно и устало окликнул он приближающуюся Вику, а затем обернулся себе за спину, в будочку. — Get your arse up, Jimmy, someone’s coming. — Shut your trap, dingbat, — донёсся сонный голос из будочки. Говорили оба с каким-то диковинным выговором, последняя фраза звучала скорее как «shoot your troop»: Вика, хоть и в Лондоне жила когда-то, но совсем в бессознательном возрасте, и в британских диалектах не разбиралась. — No go, lass! Nyet entry! — преувеличенно артикулируя каждый слог, обернулся к ней рыжий, запретительно махая рукой. — Get up, you goldbrick, — снова сдавленно шикнул он себе за спину. Из будочки вылез его товарищ, названный Джимми — тоже в накидке, без головного убора и винтовки, щекастый, рыхловатый, с коротким ёжиком на голове и почти славянским круглым лицом, которое встречается у англичан низших классов. По тому, как Джимми щурится, разлепляя глаза, и с трудом подавляет зевок, было ясно — ещё полминуты назад он там дрых. — The bl… — невнятно буркнул он, промаргиваясь. — Oh, it’s a lassie! — с внезапным прозрением заметил он, таращась на Вику. — Hey, baryshna, — он так и сказал, «барышна». — You can't go in there, — продолжал увещевать Вику рыжий. — Entry — nyet!
-
Внезапно поняла, что не поставила плюса, хотя была уверена, что да.
|
5:00
Пароход «Шенкурск», Вага
Близ деревни Шиловская
Сонное царство установилось на пароходе, споро бежавшем вверх по Ваге. Все провели бессонную ночь в ожидании боя, а когда выяснилось, что воевать в Усть-Паденьге не с кем и напряжение отхлынуло, на всех накатил сон, заразный не менее испанского гриппа. Прекратились споры в салоне первого класса: там вповалку на диванчиках и полу спал исполком. Дрыхли на мокрой от росы белой палубе и в каютах третьего класса красноармейцы. Даже капитан Матисон, отстояв ночную вахту, ушёл к себе в каюту, оставив управление на помощника, по-старинному здесь называвшегося водоливом, а не старпомом. Позёвывали и тёрли красные глаза красноармейцы у носового пулемёта, тупо вглядываясь в искрящуюся на солнце реку.
Такое же сонное оцепенение царило и в каюте Романова, где сидел сам военком, чекисты и Иван Боговой. Курили, пили крепкий чай, открыли окно на палубу — теперь по каюте гулял, шевелил листками на столе свежий, холодный, отдающий водой ветер, а спать всё равно хотелось мучительно: голова уже была как чумная, мысли проворачивались как каменные жернова, неодолимо приступала зевота и больше всего хотелось откинуться на кожаную обивку дивана и прикрыть глаза. Бессонов так и сделал — и вот, спал, откинувшись на спинку дивана, обморочно приоткрыв рот. Красноглазый Глебушка стоял у окна, выглядывая наружу, чтобы не дышать едким дымом от махорки, которую курил Заноза: папиросы у того вышли, он как-то добыл махры у бойцов и как ни в чём не бывало дымил свёрнутой из ракитинской листовки «собачкой», стряхивая пепел в консервную банку.
Сидевший рядом Иван Боговой нервно и сосредоточенно крутил в руках свой наган, как головоломку: пятнадцать минут назад он вместе с Чмаровыми проделал-таки указанную Романовым процедуру над братом: вывели того на палубу, окатили из ведра ледяной, тинистой важской водой, поднятой из-за борта. Предуисполкома самому было неприятно участвовать в этой экзекуции, но Чмаровы поблажек давать не собирались и все возражения Ивана Богового решительно отметали: им, кажется, очень по душе пришлось такое наказание, они бы и вторым ведром Ваську-пьяницу бы окатили, но раз приказано одним — значит одним. Приказано искупать, значит, искупаем — чтобы, так сказать, искупил. Иван наблюдал за экзекуцией хмуро, скрестив руки, видимо, сам ещё не решив, на кого больше сердиться — на братца-пьяницу, на посмеивающихся Чмаровых или на Романова. После того, как водные процедуры были окончены, Иван отвёл мокрого, жалкого братца в свободную каюту и оставил там, заперев дверь. Каюта была за стенкой от той, где сидел сейчас Романов, ни звука оттуда не доносилось: видимо, Василий уснул.
— Деревенька какая-то, — сказал Глебушка, указывая в окно, где в золотистом утреннем тумане проплывала мимо деревушка — бедная, как и все здесь, бревенчатая, но в нежном утреннем свете будто с картинки.
— Шиловская, — подошёл к окну Иван Боговой. Помолчали.
Раздались тяжёлые шаги по коридору, Глебушка с Боговым отошли от окна, предуисполкома сунул наган в карман пиджака. Скрипнув кожаной курткой, поднялся с дивана Заноза. Дверь открылась: на пороге стоял Степан Чмаров, рядом с ним Филимон, а между ними — Падалка: в расстёгнутой на вороте гимнастёрке, небритый, заспанный, он, кажется, слабо соображал, зачем его сюда привели. Винтовки у него при себе не было. За его спиной маячила угрюмая фигура Костея Калмыкова.
-
Вечер перестает быть томным.
|
– Вот уж действительно матросская душа. – с усмешкой ответил взводный, но усмешка была с явным жестким оттенком. – Маневры, значит, суворовские, атаки в лесах, не знамо на кого, это мы завсегда. А когда вот врага перед тобой выстрелить из-за кустов – такая война нам не нравится. Все бы "ура-алга" кричать, или как там у вас, "полундра"? Много ты, видать, войны-то видел, куда уж нам, глупым. Умно, ничего не скажешь. Кто ж обвинит геройски погибшего за партию большевиков, да?
Фрайденфельдс демонстративно перевернулся на живот, уставив взор на деревню, но тут же заговорил сам с собой:
– Хотя всем соваться тоже глупо, да. Больше наступает – больше ляжет. Так-с... Strēlnieki, uz cīņu! Слышь, Мухин. Возьмешь людей, шестерых, что с головы, положишь в цепь за нами в три стороны для прикрытия. Остальных забирай, и идите вправо, вдоль берега, шагов на пятьсот, только вдоль берега смотрите, не потеряйте реку или озеро. Немного рассыпетесь и ждите нас. Может, ничего и не будет. Туман, да еще река – пока даже пристреляются, сто раз уйдем, не то что искать. Выполнять. Стрелки, ну что там? – повернул голову к своим латыш.
Пока Мухин и Фрайденфельдс говорили, колонна продолжала идти по берегу реки. Голова её уже заворачивала на деревенскую улицу, прочь от речки, а теперь был виден и хвост. Нет, это не взвод, — поняли все, — это рота марширует, тут их около сотни.
— Gatavs, komandieris, — откликнулся Кульда, уже вместе со всеми приготовляющий пулемёт к стрельбе.
Мухин злится на командирскую отповедь, но собирается ответить "Есть!" Командир есть командир. Но тут на его грубоватом лице поступает идея.
- Погодь. А если наоборот? Мы по ним дадим из винтовок, а если пойдут, ну, тогда, и во фланг пулеметом.
— Не полезут в реку за нами., — подал голос Землинкис от пулемёта. — Вдарим ленту, а потом в лес.
– Надо щас бить, пока стоят, — сказал Фрайденфельдс. — Залягут, отстреливаться начнут и все. Давай, уводи людей, некогда переигрывать, щас и эти уйдут. Главное, чтоб у них пулемета не оказалось. – протараторил Вацлав, переползая к устанавливаемому Максиму и не успевая перейти на латышский. – Кристапс, слышь, — обернулся командир к Землинскису, — на всю ширину, полленты. Залягут, начнут палить, мы меняем позицию вон туда. Успокоятся, встанут – и мы еще им полленты. Ну, если у них у самих пулеметов нет. Парни, сразу готовьтесь тащить пулемет.
Парни зашевелились, рассредоточиваясь вокруг пулемета полукругом. Сам командир оказался позади, встав на колени.
– Понял, – сказал Мухин. – В смысле есть.
Так, значит так.
– Агеевы! Уьянин! Цыганков! Кузнецов! – скомандовал матрос громким шепотом, припоминая фамилию шестого. – Денисов! Ляжьте так, полукругом. Двое туда, двое сюда, двое так. И чтоб прикрывали командира, как мать родную! Остальные – за мной в колонну. Пригнуться. И не курить!
"Мне что отлить, что потерпеть, командир. Я своё слово сказал."
– Удачи!
И пошел, сам чуть пригнувшись, посматривая из-под бескозырки на интервентов. Сколько ж вас, мать честная! Пол-ленты... какие там пол-ленты, командир. Ну, война так война. Дело привычное теперь уже.
— Айда, братва, — распорядился Ерошка Агеев, оглядывая своих, как бы подтверждая указание Мухина. — Вжарить отсюдова, что ж, можно. Вжарить отсюдова милое дело.
Распорядился он, однако, так, что тыл прикрывали только Цыганков с Кузнецовым: остальные четверо калужан изготовились к стрельбе по врагу.
Сочно клацнул в пулемёте шатун, толчком выдвинули тупой нос «Максима» из-под ёлки Кульда с Землинскисом. Лежали по сторонам, прижимая приклады к щекам, калужане. Мухин с питерцами уже скрылся в лесу. Всё было готово: интервенты с той стороны речки ничего не подозревали, — так нестройной цепочкой и брели по дороге над речным откосом: кто с винтовкой за спиной, кто в руках, кто — положив на плечи на манер несущего крест Иисуса.
Шагали они без усталости, с ребячеством даже — не так бредёт по дороге бывалая пехтура на исходе тридцативёрстного марша, не так даже в его начале: все понимают, что впереди, все идут как бы заранее устало. Новобранцы, вот кто так беспечно ходит — только что вывалившееся с эшелона мясо, которому всё ещё в новинку, и дальний перестук пулемётов, стрельба пачками — всё это и хоть и пугает, но скорей будоражит, вызывая беспокойное веселье, подобное тому, которое испытывают, скажем, арестованные демонстранты в каталажке, нервно и без конца перекидывающиеся шутками.
Вот так и эти шли: беспечно и — даже за туманом было заметно — весело: кто парой, о чём-то разговаривая, кто вертел головой по сторонам с видом туриста, один остановился, склонил голову, прикуривая. Прикурил, перебросил пачку товарищу, тот ловко поймал. Голова цепочки уже завернула между домами, удаляясь прочь от речки, виден был и хвост — какой-то тип там остановился, возясь с сапогом — нет, с ботинком, эти носили ботинки: снял, приплясывая на ноге, принялся вытряхивать попавший камешек, кто-то из удаляющихся обернулся, окликнул отставшего — и тут Землинскис вжарил.
Затрещали патроны в убегающей ленте, судорожно забилось тело пулемёта, первые пули выбили строчку под ногами солдат в середине цепочки: не пристрелялся, не попал сразу — но тут же деловито-сосредоточенный Землинскис повёл ствол выше: один, другой, третий опрокинулись на землю, вряд ли успев что-то даже сообразить. И тут же рядом захлопали винтовки, защёлкали затворы: калужане начали лупить пачками, без команды.
Цепочка интервентов развалилась мгновенно: кто попадал в грязь, кто брызнул в стороны, кто перевалился через низкий штакетник ближнего огорода в кусты, — а с кустов уже летела листва, когда Землинскис повёл очередь по ним. Кто-то, дёргая с плеча винтовку, бросился прямо на пулемёт, к речке, нелепо заскользил боком по глинистому откосу — да так и грохнулся в чёрную воду, подняв ворох брызг. Кто-то, застыв на месте, бешено вертел головой, силясь понять, откуда бьют, и тут же повалился на колени, выронив винтовку под ноги. Заорали на разные голоса — кто вопросительно, кто повелительно, кто мучительно и все дико. Скрывшиеся в кусты, за дома принялись беспорядочно стрелять: куда? Кто-то, пригибаясь, удирал за угол избы — пулемёт затюкал в чёрные брёвна, вышибая в них цепочку светлых щербин, но не успел довести ствол Землинскис — беглец скрылся.
Землинскис остановился, азартно зыркнув на командира — ну что, мол, продолжать? Ствол пулемёта исходил седым дымком. Калиньш даже взгляда не поднимал, продолжая придерживать остановившуюся ленту — лишь бы не было перекоса. Кульда, Пярн и Верпаковис даже дышать забыли, наблюдая за побоищем из-за спин товарищей. Калужане ещё палили: лежащий ближе всего к Фрайденфельдсу лохматый светловолосый Илюха, лёжа на боку и высунув от усердия язык, грязными пальцами доставал патроны из подсумка. На той стороне лежало с десяток тел — кто без движения, лицом в раскисшую чёрную грязь, кто прижимая руки к телу и тонко, жалобно вопя. В чёрной воде речки замер, раскинув руки, упавший, торча боком из-под воды как коряга в белых бурунцах. Голова его была под водой, только бок с задравшейся полой кителя торчал и рука тянулась по течению.
Одиноко лежал ботинок: обладатель его прятался сейчас в кустах смородины, босой на одну ногу, с размотавшимися на ней обмотками-леггинсами. Рядом с ботинком он оставил винтовку, а чуть ближе к кустам ещё и пилотку. Он не понимал, что только что произошло. Он хотел закричать, но боялся себя выдать и, вжимаясь щекой в сырую землю, глубоко зарывшись в неё пальцами, только повторял про себя «матка боска, матка боска». Он был двадцатилетний поляк из Детройта, призванный только в июне. Ему обещали, что он будет тут ротным переводчиком, а не вот это всё.
— Вот вам хлеб, вот вам соль, — приговаривал Илюха, набивая в винтовку патрон за патроном. — Вот хлеб, соль, а эт на сладкое, — затолкнул он последний.
Вот так же и по ним, по калужанам, латышам, питерцам и рязанцам, позавчера вдарили — никто даже не понял, откуда, только засверкало, затрещало из-за леса, полетели оттуда гранаты, все и ломанулись назад. Вот теперь вам за это. Жрите, жрите, гады.
-
— Вот вам хлеб, вот вам соль, — приговаривал Илюха, набивая в винтовку патрон за патроном. — Вот хлеб, соль, а эт на сладкое, — затолкнул он последний.
Да!
-
Яркая и очень достоверная картина боя.
|
5:30— А вот это точно уж опушка, — всё ещё сиплым шёпотом, боясь повысить голос, обратился к Фрайденфельдсу Шестипал. Про опушку он говорил уже третий раз — в лесу, тем более в туманном полусвете, постоянно что-то мерещилось в пересечениях ветвей — то движение, то просвет, то, наоборот, валун или почему-то печка, а вот Шестипалу постоянно мерещилась опушка — но в этот раз он угадал. Действительно, выходили на лесную опушку и, судя по всему, как раз к Озеркам. Фрайденфельдс, Мухин и Тюльпанов прошли к самому краю леса, выглянули, присев, из-за ёлок. Узкая полоска скошенного луга, за ним небольшая речка, а за ней, на невысоком глинистом откосе, в рассветной дымке, смутными очертаниями — хмурое северное село: рядок тёмных бревенчатых домов, серые сараи. Грязное всё, чуть не первобытное: серые косые изгороди, бурьян на задворках, тряпки на верёвках во дворах, доски поперёк исполинских луж, — а ведь и тут живут люди, и кто-то даже, наверное, любит свою родину, в которой полгода грязь, дожди и хмарь, как сейчас, ещё треть года морозы, тараканы за печкой и солнце на пару часов в день, и только лето как короткая самоволка из ада с неизбежным затем наказанием. Где-то там, за домами, должно быть то самое озеро, по которому село и называется, но сейчас никакого озера, конечно, не видно. Никто не стреляет. Людей тоже не видно, все попрятались.  Те самые места, но снято, конечно, в половодье. От Обозерской всё ещё стреляли, стрекотали пулемёты, палили винтовки, но без прежнего пыла: раньше молотили с задором, не жалея патронов, то ли от испуга, то ли пытаясь взять врага нахрапом стрекотали, как не в себя; сейчас пыл поостыл — простучит пулемёт один раз, другой, захлопают винтовки, потом всё стихает. То ли захлебнулась атака, то ли оборонявшиеся отступили — непонятно. Мухин оглянулся на бойцов за спиной. Бойцы имели жалкий вид. Хуже всего, конечно, выглядели питерцы — каждый из них являл собой наглядную картину того, как выглядит городской человек, проскитавшийся по лесу двое суток: измученные, грязные, пропахшие костром, в своей неприспособленной для ночёвок под открытым небом городской одежде, они более всего напоминали уже не какой-никакой отряд Красной Армии, а свору оборванцев. На Живчика с Лёшкой и вовсе было жалко смотреть — раненый матрос, хоть и крепился всю дорогу, стараясь идти со всеми в темпе (благо, быстро по лесу всё равно не получалось), был бледен и странно для себя молчалив — обычно-то, Мухин знал, Живчик был балагуром и задирой, а тут, с самого выхода из лагеря сегодня утром, едва ли слово проронил, а всё больше скрежетал зубами. Сейчас он по-турецки сидел на серой, усыпанной шишками и жухлыми иглами земле, и баюкал руку в перевязи — уже лохматой, грязной, с чёрными мокрыми разводами. Юнга Петров выглядел не лучше — всю дорогу сомнамбулически, натыкаясь на что попало, плёлся за всеми, сейчас без сил опустился на колени, свесив голову и мало интересуясь происходящим. Седой, с красными от недосыпа глазами, шёл вместе с юнгой и Живчиком, подгонял первого, помогал перебираться через поваленные стволы второму, преувеличенно оживлённо разговаривал с ними. Сейчас он, усевшись на земле, скрутил цигарку, сунул было в рот, но тут же вынул. «Мутит уже», — сказал он Живчику и сунул курево тому в губы. Рахимка заглядывал вслед выдвинувшимся на разведку командирам, будто не понимал, что тут он вообще делает и куда они все пришли. Гаврила Бугров, в своём охотничьем кепи выглядевший как спившийся Шерлок Холмс, долго сморкался в изгвазданный уже до неприличия платок — не без интеллигентных привычек был пролетарий, и платок всё ещё носил с собой. Федя Зотов и Нефёд Артюхов молча покуривали. Максим Шестипал беспокойно озирался. Не дрогнут ли в бою, не побегут ли сдаваться? Все уже уставшие, как черти, продрогшие, — могут не сдюжить. По-настоящему идейные среди отряда только вот Седой, Живчик и Шестипал — первые два матросы, а Шестипал в Красной Гвардии ещё с весны 1917-го. Шифровки ему какие-то в ВРК носить по адресам доверяли: носил. Остальные могут дать слабину: юнга в Красную Гвардию пошёл только потому, что все пошли и вообще это весело, Тюльпанов с Бугровым и Артюховым, конечно, за рабочий контроль, трудовой народ и социальную революцию, но вот готовы ли будут отдавать за неё жизнь, неизвестно. У Тюльпанова так-то сын маленький и дочка на выданье в Питере, он говорил. Зотов мутный какой-то типчик, даже не рабочий сам, а неизвестно кто — вроде в кинематографе кассиром был. Деньги вот украсть вчера пытался, эти мушкетёрские сапоги на нём явно не свои. Про Рахимку и говорить нечего: он позавчера прямо предлагал сдаваться. Этот может просто от страха дать драпу. Калужане выглядели пободрей — эти были к походным условиям привычны, да и в шинелях на голой земле спать было удобней, чем в куртках да бушлатах. Калужане тоже были все извазюканные, заросшие, но странным образом это им даже шло, выглядело на них естественно, как естественней дикарю ходить в звериных шкурах, чем в кителе. «Уж такое это наше дело, — как бы говорили они всем видом. — Мы ребяты деревенские и в окопах сидывавшие, нам оно не в новинку». Сейчас калужане, как и на привале, расположились отдельно, в кружок — кто-то достал из кармана припасённый с вечера кусок сыра, другие о чём-то переговаривались между собой. Эти тоже могут побежать, с них станется. Ну дала Советская власть им землицу, а толку-то в той землице, если сам в неё уляжешься? Но калужане люди бывалые и просто так, от страха, не побегут: могли бы сто раз в тумане отделиться и смыться, пока по лесу брели, но не стали — неизвестно же, чья возьмёт. Может, наши там уже всех интервентов перебили, тогда чего сдаваться? А если интервентская брать будет, ну тогда пошто зазря гибнуть? Нет, эти до последнего патрона отстреливаться не станут, если круто дела пойдут. А вот кто точно станет, так это латыши. Они, конечно, тоже все грязные, невыспавшиеся, замёрзшие (Кульда вон наволочку вместо шарфа на шею намотал), но посмотришь на них, и сразу видно — армия. Эти знают — если что-то их народ и поставило так высоко сейчас в России, так только дисциплина. Это русскому сейчас в России можно своим умом жить, а латыши тут, среди чужих, сильны только пока держатся вместе и слушаются приказов, как в старые времена. Потому и Пярн сейчас латыш, хоть по-латышски, знал Фрайденфельдс, умел сказать пару фраз. Они понимают: пропадёт дисциплина, и все пропадут — русский может как-то среди своих затеряться, а латыша вычислят и не пощадят. Потому-то и посматривают сейчас латыши на питерцев, на фронтовых вшей этих калужских свысока — русские свиньи, совсем оскотинились. А мы не свиньи, мы армия, а перестанем ей быть — и сгинем. Нет, за латышей можно быть спокойными. А Фрайденфельдс, пока Мухин оглядывался, приметил на том берегу какое-то движение. Мутное жёлтое солнце уже выглядывало из-за леса, но пока ещё не успело рассеять туман, и в мыльной дымке еле проглядывалось, как по раскисшей в грязи дороге со стороны Обозерской идут военные — один, другой, третий цепочкой, друг за другом, и, кажется, их тут может быть не меньше взвода. Винтовки за плечами, одеты легковато — без шинелей, на головах пилотки. Подробней разбирать не получается, всё скрывает туман.
-
Прекрасный, прекрасный разбор всего происходящего!
-
и только лето как короткая самоволка из ада с неизбежным затем наказанием.
Не, ну это бриллиант, ящетаю!
|
Дедусенко встретил Вику в полутёмной пыльной чайной, освещённой серым полусветом, пробивающимся через щели в зашторенных окнах. Он сидел за голым деревянным столом рядом с погасшей спиртовкой с жестяным чайником, покрытым по днищу окалиной. Рядом со спиртовкой стояло голубенькое блюдце с одиноким окурком на детском рисуночке поверх фаянса — дореволюционный миловидный котёнок с бантиком.
В чайной было с пяток столов с лавками и табуретами, и то, что сейчас Дедусенко в одиночестве сидел за одним, у стеночки, придавало ему какую-то дополнительную оскорблённость в виде — будто бы в наказание отправили генерал-губернатора стоять в тёмный чулан. У них в нью-йоркской квартирке был такой чулан, заставленный всякой рухлядью, которую отец то ли по еврейской, то ли по русской привычке сохранял, хоть и не знал зачем, и Вику туда он тоже, бывало, ставил в наказание — не на сухой горох в угол, а в тёмный захламлённый чулан. Вот с таким видом она там, должно быть, и стаивала в детские годы, вот так же оскорблённо и поднимала на отца взгляд, когда тот наконец разрешал выйти.
— Вот как, — подозрительно буркнул он, исподлобья глядя на Викторию. — Значит, вожаки решили все вопросы без нас? Действительно, кому интересно мнение какого-то там члена правительства? Я, грешным делом, — и снова пошёл генерал-губернатор разгоняться, угрожая впасть в истерику, — полагал, что будет какое-то межпартийное совещание, но вы, но ваша партия, в очередной раз!… — Дедусенко раздражённо махнул рукой. — И что теперь? — вскинулся он на Вику, рывком поднимаясь из-за стола. — Что теперь, я вас спрашиваю?
Вика даже слегка вздрогнула, когда изображающий оскорбленного в лучших чувствах гражданина Дедусенко встал из-за стола. Ох и дурак же... На мгновение возник соблазн намекнуть ему, что в данный момент жизнь "члена правительства" не стоит и ломаного гроша, но девушке удалось подавить этот импульс: политически нецелесообразно, напомнила она себе.
- Что делать теперь, спрашиваете? - она не стала углубляться в оправдания и объяснения текущего положения, сразу перейдя к вопросам практическим. - Лично я планирую заняться вопросами, которые из рабочих кварталов не разрешить. Для начала нам необходимо разведать положение в стане путчистов, их планы на ближайшее время, а также подумать, какие палки можно вставить в колеса чаплинской телеги.
— Какие палки? Какие палки, вы спрашиваете? — сейчас Дедусенко, даром что природный русак, в речи которого даже хохляцкий выговор не сильно ощущался, выглядел как какой-то местечковый скандалист, которого обсчитали на Привозе. — Я вам скажу, какие палки я, лично я, могу им вставить в колёса. Я готов рискнуть. Мне всё равно, что там думает ваше начальство, мне уже ясно, что они не считают меня за фигуру. Но они ошибаются. Виктория! Едемте в Искагорку, к Капустэну! Сейчас, пока заговорщики ещё не установили контроль над городом! Вы не договоритесь с ним одна, ваше начальство не договорится тем более, а я договорюсь! Искагорка будет наша уже к обеду!
- Stop! - выставив руки ладонями вперед, совершенно по-американски выпалила Вика. - Я уже сказала - плохая новость состоит в том, что вас считают фигурой. Считают милые ребята с золотыми погонами, которые сейчас переворачивают город в поисках последнего недобитого члена правительства. Может быть, они еще не захлопнули наглухо все возможности сообщения с Искагоркой - но вашу физиономию им видеть точно не обязательно. Да, наладить связь с Капустэном - хорошая идея. Мы можем переправить ему ваше послание - ясное дело, не представляясь большевиками. Опять же - телефон там должен быть хотя бы на станции, верно? Но если я с вами где-нибудь по пути в Искагорку наткнусь на чаплинских волков - это же будет смерти подобно для всего дела! Так что давайте не горячиться, пожалуйста. Мне тут и без вас оставили целое подразделение импульсивных мужчин, которых надо всеми силами удерживать от необдуманных поступков...
— Вы что же думаете, я сам не знаю, что меня ищут? — вспылил Дедусенко. — Когда вы ещё в куклы играли, я, между прочим, в подполье работал, у меня опыт всего этого есть! Вы что думаете, я боюсь попасться? — да уж, конечно, видела Вика, он боится, только хорохорится. — Есть безрассудство, а есть оправданный риск! Да даже вот… да даже вот взять вашего Ленина — что он, прошлой осенью побоялся вернуться в Петроград? Виктория, пожалуйста, доверьтесь моему опыту, я дольше вас в этом деле — сейчас самое время проскочить мимо них! Уже через несколько часов может быть поздно! А телефонному звонку вашему Капустэн не поверит, будьте покойны. Он подумает, что это провокация, только и всего.
Во времена, когда я играла в куклы, у эсеров считалось хорошим тоном отправлять на тот свет генерал-губернаторов гремучим студнем и прочими доступными средствами, подумала Вика. С тех пор утекло слишком много воды и много крови, чтобы я ценила ваше мнение по поводу конспирации, Яков Тимофеевич. Вслух же она сказала иное:
- Ленин прежде всего не постеснялся скрыться из Петрограда летом, - девушка устало вздохнула. - Потому что в случае ареста его бы попросту не довезли до тюрьмы живым, что явно не принесло бы делу пользы. Для вас же при столкновении с офицерами быстрая смерть как раз будет лучшим исходом. Слишком многое стоит на кону, а риск ничуть не меньше, чем идти в тюрьму и вытаскивать оттуда Фрица, прикрываясь вашим именем. Нет, я не могу вам этого позволить. Что же касается варианта с письмом - так давайте вместе придумаем, как сделать, чтобы для Капустэна ваше послание прозвучало убедительно. Пусть хоть сам отправляет своих людей в город на разведку, если не поверит. Для провокации подобное сообщение все равно выглядит слишком сложно.
— С вами ни о чём не договоришься… — вздохнул генерал-губернатор, устало опускаясь обратно на лавку, опустив взгляд, со стуком покрутил на столе блюдечко с котёнком. — Но, впрочем, была не была, я напишу Капустэну записку. Вряд ли, впрочем, он поплывёт со своими сюда через Двину. Но хуже не будет. Вы, я надеюсь, сумеете доставить её конспиративно? — похоже, что Дедусенко уже принял на себя роль мастера-конспиратора, чуть ли не экзаменовать собирающегося Вику по приёмам подпольной работы.
- Да уж как-нибудь постараемся, - Виктория, наконец, позволила себе язвительный тон. Подойдя к двери в мастерскую, она приоткрыла ее и сказала:
- Янек, будь добр, принеси из канцелярии письменный прибор.
— А? — откликнулся Янек, спускавшийся по лестнице: они с Индриксоном как раз закончили перетаскивать с первого этажа на чердак винтовки. — Сейчас, — Янек снова пошёл наверх.
— И молока! — добавил вслед ему Дедусенко. — Молока, — пояснил он Вике. — Конспиративные сообщения нужно писать молоком. На бумаге не видно, а потом нагреваете на лампе…
Дедусенко, похоже, считал Вику совершенным младенцем в отношении конспирации и решил поучить её азам этого ремесла. Может быть, Вика действительно не знала каких-то хитроумных приёмов подпольной работы, но уж про молоко-то знала — не далее как в июне в Кремле Надежда Константиновна со смехом рассказывала ей, как в прошлом году она, собираясь к Ильичу в Финляндию, сожгла на лампе половину плана явки, нарисованного молоком, и потом блуждала по незнакомому городу несколько часов, отыскивая нужный дом.
Дедусенко тем временем успел бы с многозначительным выражением рассказать Вике ещё и о том, зачем на явках устанавливают условный стук, но тут вернулся Янек с довольно остро наточенным карандашом и несколькими листами дешёвой желтоватой почтовой бумаги.
— Молоко нет, — без выражения сказал он, кладя принадлежности для письма перед генерал-губернатором.
— В чайной нет молока? — насмешливо фыркнул Дедусенко, оглядываясь по сторонам.
Янек промолчал, уставившись в Дедусенко пустым взглядом. Вика неплохо уже была знакома с Янеком и знала, что так этот флегматичный латыш глядит, когда внутренне закипает от ненависти; а вот Дедусенко, раздражённо вскинувший на стоящего перед ним столпом Янека то ли посчитал отсутствие ответа признаком тупости, то ли с чего-то решил начать строить Янека, как какого-нибудь своего подчинённого:
— Что это за чайная, в которой даже молока нет? Ладно чайная, но что вы за подпольщики, если даже…
Но взорвался не Янек, а Индриксон, который, как оказалось, вошёл в чайную вслед за ним.
— Слышь, дядя! — угрожающе надвинулся он на Дедусенко с таким видом, что генерал-губернатор испуганно отпрянул. — Ты-то молоко сам когда покупал последний раз? Почём оно сейчас, знаешь?!
Судя по враз онемевшему лицу Дедусенко, цены молока тот не знал и сам вряд ли толкался на базаре в молочном ряду. А Вика толкалась, цену знала и понимала, отчего Индриксон так взбеленился: кружку горячего молока с утра теперь в Архангельске не каждый мог себе позволить. С продовольствием в городе вообще была беда — уж кому, как не главе отдела продовольствия, было об этом знать, — но на мясо, рыбу, хлеб, рис хотя бы выдавались карточки; молоко же продавалось приезжими из деревень по свободной цене, росшей изо дня в день: ещё пару недель назад по рублю за штофную бутылку, сейчас уже по два с полтиной. В «Париже», конечно, два с полтиной стоила какая-нибудь чашка кофе (подавали и с молоком, по желанию), но вот для не имеющих средств завтракать в бывшем губернаторском особняке молоко давно уже стало редким лакомством. Родителям малолетних детей выдавали его в земском обществе «Капля молока» по маленькой бутылочке дважды в неделю, и туда-то стояли хвосты.
— Губернатор паршивый, — презрительно бросил Индриксон, остывая, и швырнул на стол перед Дедусенко свой электрический фонарик. — На, пиши. Жрать нечего, а он насмехается.
И, взяв Янека за плечо, Индриксон вместе с ним удалился обратно в мастерскую. Дедусенко, ничего не говоря и стараясь не глядеть им вслед, принялся писать на листке, подсвечивая фонариком. Но, не успел он вывести и первую строчку, как из мастерской послышался голос Юрченкова, вернувшегося с разведки.
— Прошёл мимо по Садовой да по Троицкому, — начал он рассказывать, отряхивая о колено мокрый картуз. — Стоят англичане, посты, пикеты или как это называется? Караулы, во. Вокруг общежития стоят. Сонные все уже, носами клюют. Внутри тихо всё, ничего не заметил. Ну, с улицы не шибко заметишь, но ералаша никакого нет. Даже русских офицеров ни одного не видел, всё англичане одни.
— У меня готово, — донёсся тем временем из чайной опасливый голос Дедусенко. Сам к Индриксону он выходить не спешил. Пришлось Вике пройти в чайную и принять из рук губернатора полоску бумаги с парой карандашных строчек мелким почерком.
Для ППК.
Въ городѣ переворот, офицеры взяли власть. Правительство въ ихъ руках. Поднимай всѣх своих, пошли кого нибудь, куда тебѣ укажет податель сего. Нѣскольких надежных человѣкъ.
Тот, съ кѣм ты говорил 15/VIII с. г. (или 16) о морозостойких сѣменах из Канады. О долларах тоже помню. СВЕРХСРОЧНО!!!
-
Кто в двадцать не был эсером - у того нет сердца. Кто в тридцать не стал губернатором...
|
На слова Вики о Дедусенко Теснанов кивнул с таким видом, что, мол, потом к этому вопросу вернёмся. А на словах о Фрице вопросительно обернулся к Сержу.
— Да там ерунда же! — непонимающе обернулся Серж. — Как взяли, так и выпустят.
— Что произошло, давай рассказывай, — строго потребовал Теснанов.
— Ну, — замялся Серж с видом нашкодившего гимназиста, — мы хотели наглядную агитацию провести, написали на стене ихнего общежития «Ублюдки».
— Так это вы были? — ахнул Теснанов.
— Ну, — понуро подтвердил Серж. — Я смылся, Фрица замели, вот и вся история.
— Чёрт знает что, — озадаченно сказал Теснанов.
- Боюсь, насчет "выпустят" - суждение преждевременное, - покачала головой Вика. - Если переворот у них выгорел как надо - это значит, все, бардак переходного периода закончился, и теперь за нас всех примутся всерьез.
— Да, — хмыкнул Теснанов, — положеньице. Ладно, Фрица мы сейчас всё равно не вытащим, сейчас главная наша задача — поднимать людей на стачку. А для этого… — Теснанов обвёл собравшихся взглядом, — для этого нам, товарищи, нужно понимать, что произошло. Действовать будем так. Ты, Вика, раз ты так радеешь за этого Дедусенку, остаёшься здесь с ним. У вас две задачи. Первая — разузнать, что произошло. Мы не можем поднимать народ на стачку без повода, мы должны понимать, что случилось. Вторая задача — охранять Дедусенку. Если он сбежит и растрезвонит всем о нашей организации, нам крышка. Я сейчас отправляюсь в Соломбалу, в порт: Дедусенко меня видеть не должен. Связь — по телефону, но осторожно: барышни на станции всё слушают. Кого тебе оставить в помощь?
- Я могу сделать кое-какие выводы прямо сейчас, Карл Иоганнович, если дадите мне пару минут, они достаточно тривиальны, но сверить наше понимание ситуации необходимо. Переворот организован военными во главе с Чаплиным, скорее всего, с санкции британцев - во всяком случае, у "главнокомандующего" твердая репутация бессовестного британского наймита даже среди остальных холуев Антанты. И, видимо, основная причина происходящего - вопрос о мобилизации. "Социалисты" из ВУСО месяц вертятся вошью на гребешке, стараясь с одной стороны потрафить интервентам, с другой - не растерять остатков доверия в среде крестьянства. А господ "союзников" более всего сейчас интересует, как набрать побольше пушечного мяса для крестового похода на Москву и Питер. Эсеры с энесами, разумеется, шкурой чуют, что они нужны антантовцам, исключительно пока способны обманывать крестьян и пока имеют в деревне хоть какое-то влияние, а, начав принудительную мобилизацию, они это влияние потеряют - и станут ненужным балластом. Словом, не позавидуешь нашим калифам на месяц...
И вот в этом для нас заключается самая хорошая новость: если терпение англичан лопнуло, и они сделали ставку на военную диктатуру - значит, основной ее целью как раз и будет принудительное забривание мужичков в солдаты, ибо дураков добровольно воевать с Советской Россией за август так и не прибавилось. Крестьяне, которые в свое время не хотели сражаться и за нашу Республику, теперь являются их проблемой. Ну а насчет рабочих и говорить нечего: весь август буржуазная пресса только и делает, что плачется по поводу их "классового эгоизма". Это, мне кажется, и должно стать нашим первым лозунгом, понятным каждому пролетарию, которому грозит смерть на войне за чужие интересы: долой мобилизацию, долой войну, требуем перемирия с Советской Россией.
Теснанов терпеливо всё выслушал, прикрыв глаза и кивая головой на слова Вики.
— Товарищ Владимирова, — наконец, сказал он. — Товарищ Владимирова. Мне не нужны «если». Мне не нужны предположения. Мне нужны факты. Чтобы выводить людей на стачку, мне нужны факты. Как мне выводить людей на стачку, если ни вы, ни я толком не понимаем, что произошло? Поэтому сейчас наша главная задача — выяснить, что там у них произошло. До той поры наш главный лозунг для рабочих будет… скажем так: «Долой тиранство офицеров, даёшь социалистическое правительство». Под таким лозунгом рабочие пойдут.
Виктория глубоко вздохнула. Как ни парадоксально, позиции Теснанова и генерал-губернатора, которого Карл Иоганнович едва не определил в мешок, на данном этапе полностью сошлись. Ох уж эти провинциальные практики с их презрением к дедуктивному мышлению! И что еще он хочет, чтобы Вика выжала из Дедусенки? Какую информацию - все, что можно, он уже выложил по сути, дальнейшее будут чистыми домыслами? Чтобы добыть какие-то конкретные данные, придется идти на разведку, очевидно...
- Хорошо, товарищ Теснанов, я добуду вам факты. Насчет связи и любопытных барышень на телефонной станции - нельзя ли решить эту проблему, ведя переговоры по-латышски? Если там не служат ваши соотечественницы - можно будет говорить практически свободно.
Кивнув на Индриксона, она в задумчивости сцепила пальцы.
— Это хорошая идея, — одобрительно кивнул Теснанов. — Удивительно, что мы раньше не додумались. Andrejs, vai tev tā būs problēma? — обернулся он к Индриксону.
— Nav problēmu, — не очень уверенно ответил Индриксон. По-латышски, знала Вика, он говорил не очень бойко.
— Vai tu esi pārliecināts? — спросил Теснанов.
— Es domāju… — задумываясь над каждым словом, начал Индриксон, — ka būs labāk… если Янек это сделает.
— Хорошо, Янек так Янек, — кивнул Теснанов. — Только скажи ему, скажи ему чтобы lai izvairās no tādiem vārdiem kā "revolūcija" vai "streiks" vai "boļševiki". Понял?
— Saprotu, — бойко ответил Индриксон, видимо, со смущением за своё незнание родного языка. — Protams, protams.
- И еще один вопрос, — сказала Виктория. — Бечин же тоже сюда идет? С ним мне что делать? Я рассчитывала, что вы с ним переговорите и сумеете прийти к общему знаменателю. А теперь? Пускать ли мне его к губернатору? Губернатор как раз Бечина и искал, когда на нас вышел. Не придет ли Михаилу Ивановичу в голову глупая идея забрать Дедусенку с собой? Это было бы очень некстати.
— Да, Бечин может тут натворить дел… — задумался Теснанов, когда речь зашла об этом вопросе. — С другой стороны, он наверняка уже знает, что Дедусенко у нас…
— Не знает, — подал голос Серж.
— Не знает? — обернулся к нему Теснанов.
— Нет, нет, точно. Я ему не говорил. Я сказал только про переворот и про вас, Карл Иоганнович, что вы собираетесь. Про Дедусенко я ему ни слова.
- Хм, ну, тогда, полагаю - лучше его будет сразу же отослать в порт, предварительно обрисовав ситуацию, - ответила Виктория. - Рассказать про ночную суету, про выстрелы, показать дежурящих у общежития англичан - этого будет достаточно, чтобы замотивировать его на работу. О перевороте, на случай вопросов, узнала я, подслушав в кафе разговоры офицерья перед их выступлением. Мы же пока попробуем разобраться в ситуации - у меня уже есть пара идей для разведки...
— Вот и ладненько, — согласился Теснанов. — Повторяю, Вика: Дедусенко остаётся под твою ответственность. Если он сбежит и разболтает всем о нашей организации, вина за это будет лежать на тебе. Кого тебе оставить в помощь? Янека, а ещё кого?
- Я понимаю, - кивнула Виктория. - Так что вместе с Янеком нужны будут и Андрей, и Серж. - Мне придется побегать по городу, возможно даже - заглянуть в кафе. А там, по ситуации - кого-то еще надо иметь под рукой в качестве курьера. А возле Дедусенко надо иметь минимум пару крепких ребят, чтобы у него и мысли не было забаловать. Сейчас я с ним ненадолго останусь одна, чтобы провести "доверительный разговор" и дополнительно обработать, Серж, ты тогда дежурь снаружи и встречай Бечина - скажешь, что Карл Иоганнович уже в порту, а здесь у нас не более чем наблюдательный пункт за происходящим в общежитии - он, конечно, рассердится, что заставили сюда топать, но ты уж прояви красноречие, хорошо?
— Хм, хорошо, — подумав, согласился Теснанов. — Тогда я иду в порт один, а вы, — обвёл он взглядом Сержа, Индриксона и Юрченкова, — оставайтесь здесь. Вика за главную, слушайтесь её во всём. Если кто ещё из наших появится, — обратился он к Вике, — можешь тоже их тут оставить, если они тебе понадобятся.
Все закивали.
— Я пошёл, — сказал Теснанов, надевая шляпу и подбирая оставленный у стенки мокрый зонт. — Комендантский час уже кончился, за меня не беспокойтесь.
Теснанов вышел вместе с Сержем, оставшимся у крыльца караулить Бечина, а к Вике с ухмылочкой обратился Индриксон.
— Доверяет тебе Теснанов. Ну, командирша, командуй, значит. Что с винтовками делать будем? — он указал на восемь «Арисак», всё так же стоявших у стенки. — Я думаю, надо их обратно на чердак снести. Мало ли кто сюда заглянет.
— А я могу пока мимо общежития пройти, — подал голос Юрченков. — Посмотрю тихонько, что вокруг творится, может, замечу чего.
-
Откровенно говоря, думала, что придут взрослые дядечки и чего-нибудь нарешают, а тут - на тебе, командуй парадом, Виктория Натановна. :)
|
— Идём всем скопом на ту сторону, там глядим в оба, — так понял и передал своим приказ Фрайденфельдса Тюльпанов.
От пулемётной позиции на опушке Фрайденфельдс видел, как потянулась через мост орава петроградцев — настороженно ступая по шпалам, скрываясь между бледных стальных ферм, приближаясь к тёмной стене леса на том берегу. В хвосте питерцев волочились Живчик и Лёшка Петров: нагруженный не только гармошкой Мухина, но и двумя винтовками — своей и Живчика, — он еле переставлял ноги, один раз запнулся о шпалу и упал.
4:30
Перешли, безмолвно скрылись в лесу, свистнули, чтобы шли остальные. Потянулись через мост и калужане с латышами, тоже спокойно пересекли. Никого на той стороне не было, никакой засады. Однопутная железная дорога здесь, на правом берегу, прорезала холм, и в том месте, где командира ожидали бойцы, путь проходил между невысоких, в полтора человеческих роста, земляных скатов. Стрельба не переставала: всё так же долбили и пулемёты, и винтовки, но теперь, на этой стороне реки, стало ясней, откуда бьют: определённо били и оттуда, куда шла железная дорога — со стации Обозерской, но также и из-за леса, правее. Кажется, в той стороне и были те самые Озерки.
Ни в какие цепи, конечно, отряд и не подумал растягиваться — рассыпаться цепью по этому лесу сейчас значило почти наверняка тут же потеряться. Тьма ещё стояла полная, беспросветная: ни огонька, ни луны, ни звёздочки, над едва сереющими во мгле скатами угрюмо нависал тесный, пугающе стучащий и шуршащий еловый лес, и бойцы кучей сгрудились в ущелье между скатов, опасаясь отходить друг от друга. В этой сырой, отдающей гниловатой сыростью тьме невозможно было даже разобрать, кто где, и только совсем близко подойдя, можно было понять — вот Шестипал напряжённо выставил винтовку в сторону леса, вглядываясь во мрак, вот надрывно кашляет и отхаркивается кто-то из калужан, вот жалобно пискнула гармошка, когда юнга изможденно опустился на корточки, вот смутно белеет пятно на чьей-то шее — это Кульда с наволочкой, приспособленной под шейный платок. «Чево теперь?» «Куда теперь-то?» — переговаривались между собой кто-то из калужан.
— Это что ещё там мигает? — спросил вдруг кто-то, неразличимый в темноте.
— Чево мигает?
— Вон, вон тама, гляди! — указал в сторону некто бородатый, в папахе.
И правда — над елями спереди и справа по направлению железной дороги по облакам разливалось какое-то бледное и неживое мерцание, едва заметное над острыми верхушками елей.
— Рассветает, может? — кажется, это спрашивал несостоявшийся мародёр Зотов.
— Ракета это, дурья твоя башка, — грубо откликнулся кто-то из Агеевых.
— Какая ракета?
— Сигнальная, какая ещё бывает-то, — вмешался в разговор Седой. — Сигналят кому-то.
— Мож, просто для свету пульнули, — возразил Агеев.
Затухающее было мерцание вспыхнуло ярче. Действительно, было похоже, что в той стороне одну за другой запускали белые сигнальные ракеты — самих их за деревьями видно не было, но свет отражался от низких облаков.
-
Картина нарастающего напряжения весьма живая!
|
Латыши на своём посту, видимо, проснулись позже, чем основной лагерь: когда Фрайденфельдс с Тюльпановым и ещё пятерыми питерцами шумно, с треском пробрались к ним через гробово-чёрный, лезущий из темноты еловыми лапами лес, Пярн только ещё раздувал костёр. Низко сгорбившись, эстонец изо всех сил дул на перемигивающие перламутровые угольки, вырывая из них слабые трепещущие лоскуты пламени, подкладывал отсыревшую и всё никак не занимающуюся скрученную бумажку. Остальные латыши, вместе с коротавшим с ними ночь Бугровым, кто следил за попытками Пярна, а кто напряжённо прислушивался к дробно долетающей издалека глухой пальбе.
— Viss kluss, komandieris, — помогая командиру подняться, сипло ответил на его вопрос Кульда, заспанный, в шинели с поднятым воротом, с какой-то замызганной серой наволочкой вокруг шеи, вместо шарфа. — Tā ir otrā pusē, — показал он себе за спину, на мост за курносо торчащим между ёлками максимом.
Действительно, стреляли с другой стороны реки, издалека: частые выстрелы сливались в неразборчивую глухую трескотню. Длинными, неэкономными очередями стучал пулемёт, прерываясь будто на вдох: максим, не максим? Сложно сказать, слишком уж далеко — с вёрсту-другую, не иначе, — но на льюис было непохоже. Льюисы Фрайденфельдс на фронте видел, из них так длинно не палили — диск у них на 47 патронов всего. Похоже на максим, и лупят в белый свет, как в копеечку. А может, гочкис? Может, и гочкис — чёрт его разберёт, эти гочкисы Фрайденфельдс и в глаза-то не видел. Хотя нет, у тех тоже ленты короткие. Кольт? А может, и кольт: тоже не скажешь так издалека. Немецкий пулемёт он бы и контуженный отличил, этих-то чёртовых рулад наслушался, а кольтов наслушаться не пришлось. Похоже на максим, но точно не сказать. И там не один такой пулемёт, не меньше двух: не успела одна длинная зингеровская трель замолкнуть, тут же вступила вторая, перекрывая её. Кажется, бой там разгорался, палили вовсю, не думали замолкать. Нет, там не пара отделений. Рота? Батальон? Пока непонятно. Артиллерии нет.
Фрайденфельдс подошёл к своему пулемёту, выглянул за ёлки: сплошной молочной пеленой затянутая река, серые, едва различимые в ещё глухой предрассветной мгле фермы моста, немая и жуткая лесная чернота за мостом. На мосту — никого, за ним вроде тоже тихо.
-
The only reason –
We have got
The Maxim gun
And they did not!
За обстоятельный подход к пулеметной теме).
|
Молча кивнув на просьбу Вики, Янек ушёл на второй этаж, где была канцелярия профсоюза, а Индриксон с Дедусенко остались в мастерской. Делать было нечего, оставалось только ждать. — Ну что, господин генерал-губернатор? — спросил Индриксон у опустившегося на ящик Дедусенко. Спросил с таким выражением, мол, «как до жизни-то такой вы докатились, а»? — Да перестаньте вы, — тоскливо посмотрел на него Дедусенко. — И без вас тошно. Товарищей моих только что расстреляли. — Может, не расстреляли? — уже серьёзней спросил Индриксон. Дедусенко только молча пожал плечами. — У вас чай есть? — спросил Дедусенко. — Найдём, — вздохнул Индриксон. — Только печку затапливать не надо, — быстро сказал Дедусенко. — Заметят. — Там спиртовка, не боись, — не оборачиваясь, бросил Индриксон, уже скрывшись в тёмном проёме в чайную. — Замёрз я как-то… — в пустоту пожаловался генерал-губернатор. А Вика, усевшаяся на другой ящик, уже чувствовала, как вслед за облегчением от миновавшей опасности подступает тяжёлая дрёма, неизбежная как смена общественно-экономических формаций. Ещё вчера Вика вымоталась так, как только в революционной России, оказалось, можно выматываться: говорят, что Нью-Йорк стремительный город, но куда ему до местной беготни, особенно когда живёшь двойной жизнью. Сперва ночная смена в кафе с гусарящим офицерьём, — чугунные от усталости ноги, комариный звон в ушах от пьяных криков, — освободилась только после обеда, потом ещё пришлось стоять в хвостах за селёдкой и хлебом на ужин, бегать по другим мелким хозяйственным делам, легли с Аней спать только к десяти, а в половине четвёртого уже пожаловали Серж с этим Дедусенкой. Вика уже дремала, прислонившись спиной к стене деревянных ящиков, когда в мастерскую вернулись Индриксон с Дедусенко со стаканом жидкого чая цвета рыбьего жира — принесли ей. — Виктория… — с неожиданной заботливостью обратился к ней Дедусенко, — вы бы, может, вон туда легли? — показал он на разложенную Янеком постель у холодной печки. — Туда не надо, — сказал из-за его спины Индриксон, почти незаметный в холодном сумраке мастерской. — Там обхаркано всё. — Обхаркано? — не понял Дедусенко. — Чахотка у него, — пояснил Индриксон. — У кого? — У Янека. Он там спал. Чахотка у него. — А, — протянул Дедусенко и поставил стакан рядом с Викой. Тянулось ожидание, закрывались глаза, проваливалась сидящая на ящиках Вика в крутящий мутный сон, сквозь который временами сквозила чья-то речь, слышались чьи-то осторожные шаги по скрипящему полу, шипящее чирканье спичкой, тонкий запах табака, а когда открывала глаза, видела, например, сгорбленного Дедусенко с папиросой, грустно заглядывающего в щёлочку штор, или вот слышался стук шагов по лестнице, а потом в проёме двери появлялась долговязая фигура Янека. «Кто-то идёт, — говорил Янек. — Шенщина», — но, судя по спокойному голосу подпольщика и по торопливому звуку шагов, очевидно проходящих мимо, беспокоиться было не о чем, и Вика снова закрывала глаза. «У него чахотка, а мы тут дышим этим», — бурчал в стороне голос Дедусенко, мелко звенел ложечкой о стакан Индриксон, дробно колотились капли об отлив окна, временами сверху доносился кашель Янека. Снова наплывал сон, — выспаться было важно, с утра будет не до сна, утром нужно будет поднимать пролетариат на стачку. Стачка, стачка, первая в жизни стачка: митинги, прокламации, профсоюзы — нужно было спать, но и не думать об этом всём не получалось, и налезало во сне одно на другое: лесопромышленники, транспортники, строители, железнодорожники. Что вообще Вика знала о местных профсоюзах? Не так уж мало знала, успела войти в курс дел (как сейчас говорили) за месяц в Архангельске, можно было делать выводы. Ситуация с профсоюзамиСильнейшим профсоюзом Архангельска, знала Вика, был тот, в здании правления которого они сейчас сидели — профсоюз транспортников, портовиков. Около тридцати тысяч членов, значительная часть занятых в этой жизненно важной для Архангельска сфере — грузчики, крановщики, судоремонтники с пристаней в городе, Соломбале, Искагорке. Руководитель Теснанов, всё у него должно быть под контролем, люди должны подняться — вот только вопрос, под какими лозунгами. Не один раз Вика уже слышала от Юрченкова, Чуева, Янека и других товарищей, что в портах сильны меньшевики: Бечин, Наволочный, вот эти типы. За свои права, за прибавки, за восмичасовой, за бронь от мобилизации портовики бороться готовы, а готовы ли идти против союзников? В конце концов, за счёт союзников порт сейчас живёт и всю войну жил: не станет их, пропадёт работа. Есть упёртые, настоящие большевики типа Янека среди портовиков, есть, конечно, — но глупо ждать, что каждый будет Янеком. Вторым по значимости был профсоюз лесопромышленников — вот именно, «был». Был да сплыл: разгромили его в августе сразу после интервенции. Вика слышала, что при советской власти этим профсоюзом руководил какой-то Левачёв, член губисполкома: потому-то его и взяли. Тихо державшегося Теснанова не взяли, а Левачёва взяли в первые же дни после высадки. Сейчас на Мудьюге, а профсоюза как такового нет — остался формально, а по сути — пляшет под дудку капитала и интервентов. Вика несколько дней назад видела заметку в газете: И всё-таки это 15 тысяч рабочих, это 50 лесопилок на Маймаксе, это важнейший экспортный товар Северной области. Можно, можно их поднять — было б кому. Кто-то там из наших должен ведь остаться, не могли интервенты всех на Мудьюг сослать, — но Вика никого не знала. Можно поспрашивать у товарищей. Зато уж в ком можно было не сомневаться, так это в строителях: не самый большой профсоюз, зато организован лучше всех. Руководитель — Прокушев, настоящий большевик, всё руководство тоже либо наши, либо сочувствующие. Прокушев у строителей в почёте — ещё при советской власти выбил для профсоюза крупный подряд на строительство моста, обеспечил товарищей работой. Мастерские организовал, артель маляров собрал — дельно, в общем, руководил. Вместе со строителями в союз входят столяры, кровельщики, стекольщики, даже багетчики с живописцами. Их всё равно заметно меньше, чем остальных, — тысяч шесть-семь, — но эти-то за Прокушевым пойдут под любыми лозунгами. И другие союзы ещё есть — какие-то совсем мелкие вроде хорошо знакомого Вике союза официантов, иные — покрупнее, поважнее. Во-первых, железнодорожники. Впрочем, о них Вика ничего не знала: железная дорога заканчивалась на том берегу Двины, в Искагорке, и была взята под контроль союзниками. Есть ли там вообще какая-то организация? Чёрт его знает: до Архангельска вестей не долетало. Если у кого-то и узнавать, то у Капустэна, этого искагорского эсерского царька. Во-вторых, есть почтовики и телеграфисты: численность небольшая, зато эффект от забастовки будет заметный. Вот только во главе этого профсоюза — Молоствов, начальник центрального почтово-телеграфного отделения. Лично с ним Вика не была знакома, но слышала от товарищей, что это мутный типчик, из тех, что за чечевичную похлёбку запродастся. Какой-то революционный прапорщик: при Керенском был правый эсер, при советах полевел, теперь как маятник откатился обратно вправо. Может, Дедусенко о нём что-то ещё знает? В-третьих, есть, конечно, печатники, авангард пролетариата. Кому ж ещё бастовать, как не печатникам: без газет город взвоет быстрей, чем без телеграфа. В городе несколько типографий, все в той или иной мере революционны. Есть типография «Вестника ВУСО» — в ней раньше печатали «Архангельскую правду», там раньше работал Серж, у него должны были остаться связи. Есть меньшевистская типография «Труд» — там Бечин издаёт свой «Северный луч». Есть типография «Северного утра», — впрочем, газета эта кадетская, но ведь и либералам военный переворот может быть не по душе? Тем более у них там есть золотое перо Архангельска — Жорж Вильям, постоянный автор передовиц и известный на весь город жовиальный пьяница: Репутация у него скорей скандальная, зато люди его знают: прокламации за его подписью разлетятся как горячие пирожки, в этом можно не сомневаться. Глухо забрехал во дворе знакомый пёс, вскочил с места Дедусенко, у косяка сеней занял место с фонариком и наганом Индриксон, застучали по лестнице сапоги Янека. «Вроде свои! Один!» — громким шёпотом сообщил Янек, и действительно — на сдавленный оклик «Стой!» Индриксона откликнулся знакомый картавый голос: «Гриша это. Не стреляй, Андрюша». Это был Григорий Юрченков, человек, Вике хорошо знакомый. Собственно, благодаря Юрченкову-то она и вышла на подполье в августе: по случайности ехала с ним на одном пароходе в Архангельск, он-то Вику и свёл с Теснановым и остальными. Юрченков был человек, что называется, непримечательный: тридцатилетний мужчина, среднего роста, худощавый, безусый, со стрижкой ёжиком, весь какой-то сероватый на лицо, он одинаково походил и на рабочего, и на крестьянина-отходника, и на полуинтеллигентного служащего. В революции Юрченков был давно — ещё подростком видел Кровавое воскресенье в Питере, распространял литературу во время службы на флоте, потом дезертировал и с тех пор (с 1909 года!) жил без паспорта, на нелегальном положении — батрачил, мотался между Архангельском и Питером, выполнял партийные поручения и, что интересно, ни разу за это время не попался. Видно, что к подпольной жизни он привык, как, бывает, привыкает каторжник к своей каторге и, освобождаясь, грабит ближайшую лавку лишь чтобы вернуться на привычные нары. Сейчас Юрченков жил в Кузнечихе, пригороде Архангельска, — разумеется, без документов. Он работал маляром в артели профсоюза строителей и был ближайшим помощником Прокушева, руководителя профсоюза строителей. — Нюрка зашла, — коротко пояснил Юрченков, оглядывая собравшихся. — Она дальше пошла наших собирать. Начальнику сообщили уже, он идёт. — Начальнику? — переспросил Индриксон. — Начальнику, начальнику, — с нажимом ответил Юрченков. — Он просил не трепаться перед этим вашим… — указал он на сидящего у окна Дедусенко. — А ты что, правда Дедусенко? — Собственной персоной, — скорбно сказал генерал-губернатор, подозрительно оглядывая вошедшего. — Собственной перцовой, — повторил за ним Юрченков и оглянулся по сторонам. — Чаи тут гоняете. А пожрать есть чего? — Найдём, — зевнув, поднялся с ящика Индриксон. — Хлеб должен быть. Индриксон с Юрченковым удалились в чайную, и снова потянулось ожидание. 4:55За окном стоял уже призрачный предрассветный час: небо пепельно просерело, с веток надрывно орали вороны. Дедусенко спал за верстаком, уронив голову на сложенные руки, Индриксон с Юрченковым о чём-то тихо беседовали в стороне. Снова залаял пёс, снова встал ко входу в сени Индриксон — и на этот раз в сенях показался Серж. — Гриша, Андрей, привет, — возбуждённо поздоровался с товарищами подпольщик, оглядывая мастерскую. — Так, губернатор здесь, отлично. Вставайте, губернатор! — Серж затряс Дедусенко за плечо. — Что такое? — поднял голову Дедусенко. — Губернатор, подъём! — повторил Серж. — Меня Яков Тимофеевич зовут, — недовольно сказал Дедусенко. — Это неважно. В общем, сейчас вам нужно… так, Андрей, чайная свободна? В этот момент по лестнице со второго этажа спустился Янек. — Серж! — поприветствовал он товарища. — А, Янек, привет. Чайная свободна, спрашиваю? — Свободна, а что? — Так, губернатор, вам туда. Вставайте, пойдёмте. — Зачем? — не понял Дедусенко. — Так надо. Ей-богу, губернатор, не вынуждайте, как родного вас прошу. Раз надо, значит, надо. — Как родного… — фыркнул Дедусенко, поднимаясь. — Секретничать будете, ясно. — Пойдёмте, пойдёмте… Янек, последишь за ним? Дедусенко вместе с Янеком удалились в чайную, Серж выглянул в сени и лишь затем на пороге мастерской появился Карл Иоганнович Теснанов — полный, в галошах, с мокрым зонтиком, в бежевом плаще и шляпе он больше походил не на большевика-подпольщика, а на доктора, тем более что и вошёл, оглядывая собравшихся, с таким видом, будто сейчас спросит, где больной. — Он в чайной, — быстро ответил на невысказанный вопрос Серж. — Вас не видел. Теснанов кивнул. — Так, так, — одышливо присвистывая, сказал Теснанов. — Вика, Андрей, Гриша. — Янек с ним, — быстро добавил Серж. — И Янек. Так, так, — повторил Теснанов. — Бечина ещё нет, значит? Первый вопрос, товарищи, важный вопрос: он знает, что мы большевики? Так, значит, знает. Тогда второй вопрос: никто не упоминал перед ним моё имя? — Я точно нет, — уверенно сказал Серж. Индриксон отрицательно помотал головой, Юрченков промолчал. — Хорошо, хорошо, — кивнул Теснанов. — Прокушева упоминали? Нет? Хорошо. О вас он что знает? По именам вы друг друга называли? Плохо. А по фамилиям? Ну хоть это хорошо. Не забывайте, наша организация на подпольном положении, провал для нас значит расстрел. Имейте в виду, товарищи, — Теснанов понизил голос, будто опасаясь, что Дедусенко сможет его услышать. — если Дедусенко узнает, что главы наших профсоюзов большевики, выйти от нас он сможет только одним способом — вперёд ногами, в мешке. Все примолкли. Было видно, Теснанов не шутил. А ведь фамилия Теснанова упоминалась в присутствии Дедусенко — вдруг вспомнила Вика. Когда они ночью вылезали из их комнаты через окно, Серж спросил, куда им идти сперва, и Аня ответила — «к Теснанову».
-
Очень такой благостной пост о скромном быте КОВАРНЫХ ВРАГОВ НАШЕЙ СЛАВНОЙ СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ.
-
Да, информации к размышлению насыпал от души)
|
3:30 7.09.1918
Два часа до рассвета,
Пасмурно, +8 °C
Мухин дремал, сидя спиной к еловому стволу, неудобно подвернув на плечо голову: шея, поясница, спина в том месте, куда упирался сучок, тупо и монотонно ныли сквозь кружащую дрёму, но поворачиваться, прикрываться, устраиваться удобнее, разлеплять глаза не было сил.
В сумбурный сон Мухин провалился, когда сидеть рядом с Петровым стало уже невозможно, когда глаза закрывались уже против воли. «Иди, иди, я тут посижу», — сказал тогда Мухину Седой: благо, юнге к этому времени уже полегчало. Сперва, когда Мухин вдувал ему в рот воздух, а Седой с Живчиком рядом трепали юнгу за плечи, били по щекам, пытались докричаться, толку не было, но вдруг юноша открыл глаза, ещё бессмысленно глядя куда-то мимо склонившихся над ним, жутковато, по-рыбьи округлил губы, снова заклекотал, и ещё через какое-то время в первый раз смог едва слышно выдавить что-то вроде «бе бобу». «На меня смотри! Глаза не закрывай!» — орал на юнгу Седой. «Петька! Слышишь?» — вторил ему Живчик. И так это продолжалось уже четвёртый час: Живчик тоже уже свалился рядом с Петькой, сморило и Мухина, и только Седой, держа голову юнги на коленях, продолжал его тормошить.
— Кто такая Муся? Петька, не спи! — сквозь дрёму доносился усталый голос Седого. — Муся кто такая?
— Как… какая Муся? — еле ворочал языком юнга.
— Ты мне скажи, какая Муся! — настаивал Седой. — У тебя на портсигаре написано, не у меня.
— Не зна…
— Чего глаза закрыл! Не спи! Кто такая Муся? Мамзелька твоя? Почему не рассказывал? Портсигар! Гляди!
— Не… не мой портсигар… на Невском взял, у Гости…
— Краденый, небось, — скрёб в голове голос Седого, мешаясь с разными сонными образами, вращающимися бессмысленной мельницей во сне. — За сколько взял? Эй, не спи! Дышать полегче стало?
— Вдохнуть тяжело… — мелко стучал зубами юнга. — Чугунка какая-то на груди… и крутит живот…
— Не спи, не спи, — монотонно повторял Седой, сам уже клюя носом.
— Чево спать, подъём трубить пора. Половина четвёртого, — вмешался третий голос. Это сидевший у единственного ещё потрескивающего костерка Илюха подошёл к ним, показывая Седому маленькие дамские часики на цепочке. — Латыш сказал, в пол-четвёртого всех будить.
— Ну буди. Я тогда чуть-чуть… — измождённо откликнулся Седой, опустился на землю рядом и провалился в сон, едва успев прикрыть глаза.
4:15
В глухой, ещё непроглядной мгле собачьего часа бойцы оцепенело, как на костылях бродили по размётанному лагерю, натыкались во тьме на сваленные вещмешки, котелки, кружки, банки, винтовки. Выглядели все так, будто ночь проспали не на земле, а в ледяной могиле. Дули на чёрные с красной сердцевиной угли, подбрасывали в разгорающийся огонь сырой валежник, тянули руки к пламени, стуча зубами, доставали запасённые на утро банки со щами, вскрывали, ставили консервы в костёр.
Низкие, мутные ночные тучи быстро бежали над головой, предвещая пасмурный день, бледнела затянутая молочным туманом река за черным лесом. Закоченевшие, заросшие, невыспавшиеся бойцы грудились вокруг костров, прихватывали рукавами прокисших, набухших водой шинелей горячие консервные банки и со стороны, должно быть, выглядели сворой грязных, оборванных, небритых и вонючих босяков-зимогоров. Самым жалким из всех, конечно, был юнга Петров: страдалец сидел в сторонке, выглядя, как с тяжёлого похмелья, — трясся от сильного озноба, зябко кутался в бушлат, мутно глядел на подходящих к нему с вопросами, едва понимая, что от него спрашивают, то и дело сглатывал от подступающих приступов тошноты. Ему поднесли кипятка в исходящей дымом кружке: юнга жадно приложился, сделал глоток, другой, тут же скривился и, скрючившись набок, изверг воду с остатками вчерашнего ужина рядом с собой. Седой обморочно спал тут же, скрючившись на земле и не обращая внимания на происходящее.
И тут из-за леса донеслись выстрелы. Стреляли где-то далеко, за рекой, едва слышно, — зато часто и много: вразнобой потрескивали винтовки, потом тихо, но отчётливо затюкал длинной очередью пулемёт, и снова — винтовочная трескотня. Где-то там, далеко отсюда шёл бой, — это было уже очевидно всем бойцам, напряжённо прислушивающимся к стрельбе.
— Откуда бьют? — завертел головой Шестипал.
— От станции? — предположил Тюльпанов.
— Из-за реки, должно от станции, — подтвердил Ерошка Агеев.
— Должно, так, — подумав, согласился его брат.
— Наши! — воодушевлённо воскликнул Федя Зотов.
-
Сцена настолько яркая, настолько натуральная, что аж завидки берут.
|
-
Good night, sweet prince ссылка
|
Расположились лагерем в тесном, тёмном и сыром ельнике поодаль от насыпи и моста, набрали сухого валежника, развели костры. Закатное солнце выглянуло на короткое время из-за кромки туч, заливая лес, реку мягким бронзовым светом, и ухнуло за почерневшие в сумерках ели. Стало холодать, но костры уже трещали, выхватывая из темноты нависающие еловые лапы в скачущих тенях, нахохлившиеся, с поднятыми воротами шинелей фигуры бойцов: кто скрёб ложкой по внутренности консервной банки, кто согревался пустым кипятком — вода была болотная, с противным ржавым привкусом, но до проточной воды с середины речки было не добраться.
— Заместо чаю нам приправа, — невесело пошутил Федя Зотов, дуя на исходящую дымком жестяную кружку, прихватив её рукавом шинели.
— Ходим, ходим по лесу, — сказал Нефёд Артюхов, пусто глядя в пляшущий огонь, — а англичан так и не видели.
— Тебе невтерпёж? — поинтересовался Седой, выкинув за спину пустую банку из-под щей с кашею.
— Да нет, — откликнулся Нефёд. — Так как-то… Может, их и нет, интервентов, никаких. А только так: лес, лес, лес…
— Эк тебя, брат, на какие мысли потянуло… — вздохнул сидевший по другую сторону костра Тюльпанов. Нефёд ничего не сказал. Помолчали.
— А я ногу натёр. И в болоте чуть не утонул, — жизнерадостно заявил Рахимка, будто с гордостью за такие подвиги. Нефёд грустно прыснул.
— Ногу он натёр, — послышался голос Живчика. Для него соорудили что-то вроде постели из срезанных еловых лап: на ней он и сидел, опершись спиной о еловый ствол, зябко завернувшись в бушлат. — Меня вот как, ух… — Живчик поморщился. Выглядел матрос хреново: долгий путь через лес ему дался с трудом, не один раз он задерживал отряд, требуя себе передыха: сперва ещё терпел, потом, не сдерживаясь уже, стонал сквозь зубы на каждом шагу и выглядел так, будто идёт с пудовой гирей на руках. Первое время, когда объявили привал, он просто безучастно сидел под ёлкой, отходя от боли, и даже есть отказывался — потом, правда, навернул консервов со всеми.
— А меня тоже чуть не убило, — сказал Максим Шестипал, помахивая перед собой веточкой с угольком: в воздухе оставался тонкий красный след. — Я как слышал — вжик мимо уха! Вот так — вжик! Чуть бы правей, всё, не было б Максимки.
— Нет, ну гады, конечно, эти ходяшки, — сказал Федя Зотов. — Мало что всех поу…
— А, не! — перебил его Шестипал. — Чуть бы левей!
— Что? — обернулся к нему Зотов.
— Чуть бы левей, говорю! У меня мимо правого уха вжикнуло.
— Да ну тебя… — отвернулся Зотов, протягивая ладони к костру.
— А, хотя нет. Ему, получается, нужно было правей брать, — продолжал размышлять Шестипал.
— Поля эта, — сказал Седой. — Как она там сейчас? Одна…
— Какая, братишки, штука, — ни к кому не обращаясь, сказал Нефёд. — Я, когда бежал туда, вообще не боялся. А сейчас тоже думаю… — он поёжился.
— Я тоже не боялся, — ворчливо заявил Живчик. — Чохом туда, как дурной, ломанул. Как увидел сарай этот, у меня как глаза замстило…
Снова повисло молчание.
— А сыр хотите? — Рахимка полез в свой мешок и достал оттуда целую вощёную голову сыра. — У меня есть!
Все оживились, принялись резать. Заметив оживление, от костра калужан поднялась фигура в шинели. Отводя ветки, подошёл Влас Цыганков, с интересом заглянул за спины питерцев.
— Запасливая татарва! — сказал Цыганков. — Ну-ка поделись!
— Ты меня татарвой не называй, — важно заявил Рахимка. — Мы, татары, вами три века владели.
— Иди, иди отсюда, — махнул на калужанина куском сыра Шестипал. — Для своих тут.
— Да дай ему, не жмоться, — мягко вмешался Тюльпанов. — Вместе под пули ходили.
Федя Зотов сидел, уставившись в огонь, избегая глядеть на Цыганкова, с которым подрался на хуторе. Цыганков взял сыр, по-бабьи держа у груди, откромсал ножиком большой, чуть ли не в треть головы, кусок, и, уже собираясь уходить, бросил Рахимке:
— Ну, храни тебя твой татарский бог.
— Хорошо ты это упёр, Рахимка, — уважительно сказал Тюльпанов. Рахимка улыбался, видимо, радостный, что оказался полезным. — Правильно он сказал, запасливый ты. Я этот сыр там видел, а взять даже не подумал.
— Мы, татары, все запасливые, — гордо заявил Рахимка, пряча остатки сыра в мешок. — Вот вы не знаете, а ваш Пушкин татарин был.
— Пошёл молоть, — недовольно сказал Зотов, задумчиво обгрызая свой кусок. — Знал я армяшку одного, у того чуть ли не этот, как бишь, Юлий Цезарь был армянин.
— Этого не знаю, — сказал Рахимка, — а Пушкин был татарин, верно говорю, почему не веришь?
— С ним поговоришь, — продолжал Зотов, потягиваясь, — тот армянин, этот армянин, все великие люди армяне. О, вспомнил: Суворов у него был армянин.
— Суворов не знаю, — упрямо повторил Рахимка.
— А сам он был старьёвщиком, — почему-то печально закончил Зотов.
— Рахимка, Рахимка, — оживился Седой. — Ну-ка достань свой сыр, ещё кусман отхвати. Юнге нашему оставить надо.
— Да, а где юнга? — оглянулся Тюльпанов.
— Там где-то был, — махнул себе за спину Шестипал, насадивший свой кусок на ветку и державший его над огнём. — Сейчас придёт.
Оплывающий над огнём кусок сыра соскользнул с ветки и упал в середину костра, подняв ворох искр.
— Шля-па, — прокомментировал Седой.
— Шляпа, — скорбно согласился Шестипал.
— Давайте спать, братцы, — подытожил Тюльпанов, с кряхтеньем устраиваясь под ёлочкой.
00:15 07.09.1918
Первый раз этот звук Мухин услышал ещё несколько минут назад, обходя спящий лагерь: вповалку спали у своих костров питерцы, калужане; время от времени, хрустя сапогами по веткам, в сонной тишине подходили оставленные на часах Илюха и Шестипал, подбрасывали валежника в затухающее пламя, останавливались, тупо глядя в огонь, потом со вздохом отходили прочь к тем местам, где начиналась уже густая, полная темнота — такая густая и полная, какая только может быть в беззвёздную пасмурную ночь, в густом осеннем лесу. В этой темноте что-то всё ухало, скрипело, двигалось, — внезапно, например, хлопая крыльями, взлетала где-то ночная птица, и против воли давила первобытная, животная жуть, страх темноты, в которой всё что-то мерещилось глазам, слышались непонятные, пугающие звуки.
Поэтому-то, когда Мухин первый раз услышал этот звук, ещё дальний, тонкий и чистый, он подумал, что это ему тоже мерещится, да и не мог ещё понять, что именно это был за звук; а вот теперь он повторился, уже громче, отчётливей, и Мухин понял — это паровозный гудок. Прислушавшись же, он понял, что разбирает уже и приглушённый, сливающийся в ровный гул стук колёс поезда.
Мухин сейчас был с дальней от железной дороги стороны лагеря и двинулся к костру васильеостровцев, рядом с которым спал и Фрайденфельдс, уже отстоявший свою смену в карауле. Принялся перелезать через спавших вповалку товарищей: перешагнул через Шестипала, неловко переступил через Живчика и — зацепился сапогом за что-то и грохнулся прямо на лежащего рядом с ним юнгу Петрова, выставленными руками ему прямо на грудь, а коленями в бок. Живчик болезненно и сонно застонал, поворачиваясь, а вот Лёшка Петров, против ожидания, не пошевелился, и даже в неровном, тусклом свете костра Мухин увидел, что прыщеватое, с пробивающимися чёрными усиками лицо подростка неестественно бледно и покрыто холодной испариной. Сам он лежал, не зябко завернувшись в свой бушлат, как прочие, а будто потерявший сознание — свесив голову набок, полуоткрыв рот. Он дышал, но редко и почти неслышно.
-
Очень изящно передано напряженное затишье. И будто действительно - перед бурей.
-
|
20:00Присыпать тормозной башмак снегом было плохой идеей, да и сам Анчар, выглянув в промежуток между вагонами, понял это: пускай снег и покрывал ровной очень белой кисеёй шпалы и дорожки между путями, но так высоко, чтобы полностью скрыть рельсы, ещё не нападал, — стальные полосы тускло тянулись поверх снежного покрова; чтобы скрыть тормозной башмак под снегом, потребовалось бы насыпать целый сугробчик, высокий, неестественный и приметный. Но идея поставить на пути тормозные башмаки всем понравилась, хотя, конечно, солдаты на дрезине могли бы заметить и их, особенно если у них там была включена фара (у Вестика спросили про неё, но он не мог сказать, тем более что видел дрезину днём). — Хорошо, — сказал дядя Сажин, который как-то сам собой принялся всем распоряжаться. — Мы с Васей сейчас посмотрим башмаки вон с того конца, — показал он на дальний от вокзала хвост состава, — а вы посмотрите там, у депо этого их. — Э, не, — решительно отказался Гренадер, — я туда не пойду, там солдаты. — Что, прямо там в депо сидят? — спросил Чибисов. — Я точно не знаю, где они сидят, но где-то там рядом в нас стреляли. Могут быть и в депо запросто, — ответил за Гренадера Никанор. — Скорее всего, там и сидят, — подал голос Даня. — Тоже, небось, все залубели, где-то греться им надо. Не, я с Гренадером согласен, я туда тоже не пойду. — Ладно, ладно, — отозвался дядя Сажин, — поглядим с этого конца только. Небось, пару башмаков да найдём. Действительно, искать тормозные башмаки долго не пришлось — пара их оказалась под колёсами крайней теплушки как раз того состава, третьим вагоном в котором шла цистерна, так что снимать их всё равно бы пришлось. Дядя Сажин с Васей повозились немного и скоро притащили два тяжёлых чугунных полоза с ручками. — Ну ладно, орлы, — сказал дядя Сажин, оглядывая отряд. — Сейчас будем вагоны расцеплять и вот те две крайние теплушки оттаскивать вон на тот путь, — показал он на соседнюю колею, состав на которой был короче и где до стрелки оставалось ещё место, чтобы поставить туда два вагона. — Значит, мы все как есть крепкие мужики берёмся за эти две энтевешки и отвозим их вон туда за стрелку, затем там останавливаем. Потом вот барышня нам стрелку переводит, и мы толкаем энтевешки обратно, и они входят аккурат вот на этот путь. Так, — железнодорожник по-хозяйски оглядел отряд. — Пойдём, барышня, я научу, как стрелку переводить. Дядя Сажин, Гера и ещё несколько заинтересовавшихся вышли из ущелья между стенами товарных составов (снова хлёстко ударил ветер, забил в лицо снег) и подошли к стрелке — столбу с фанерным щитом в форме то ли лиры, то ли греческой амфоры. Сколько раз и Анчар, и Гера, да и кто угодно видели такие щиты из окна поезда, подъезжая к какой-нибудь станции, а вот никогда не задумывался, зачем они нужны, какой смысл в этом щите, в столбе, на котором он укреплён, в поворотной перекладине на уровне пояса. А вот, оказывается, всё это имело своё назначение, было не просто так, и даже вычурная форма щита, вероятно, была сделана такой с умыслом, чтобы сразу было понятно, что этот знак отмечает. — Значится так, барышня, — принялся объяснять дядя Сажин, — вот это есть как есть стрелочный механизм. Тебя как величать, я запамятовал? Гертруда Эдуардовна? Вот смотри внимательно, Гертруда Эдуардовна, ничего сложного. Берёшься вот так за вот эту крестовину и вот так вот… — дядя Сажин закряхтел, подналёг на перекладину, поворачивая её вокруг столба, — ах ты, дрянь, примёрзла… вот! — перекладина с ледяным хрустком поддалась, повернулась на 90 градусов, за спиной что-то металлически лязгнуло: две загибающиеся стальных полосы отошли от примыкающих рельсов. — Вот и всё. Назад легче будет. Я сейчас ставлю стрелку в нужное положение, — железнодорожник подналёг на перекладину, переместил её обратно (это и правда вышло легче), — а ты, пока мы вагоны вон туда не выкатим, ничего не делай, поняла, Гертруда Эдуардовна? А как выкатим и остановим, ты берёшь и переводишь эту стрелку обратно, вот как я в первый раз делал. Хорошо поняла, Гертруда Эдуардовна? Ну-ка повтори, что делать будешь. Хорошо, тогда стой здесь, — удовлетворённо кивнул дядя Сажин и с остальными пошёл обратно к вагонам, где Вася уже заканчивал разъединять винтовую сцепку между цистерной и вторым от конца товарным вагоном. Всё-таки дядя Сажин не удержался от того, чтобы уже от вагона не крикнуть Гертруде ещё раз: — Пока ничего не дёргай! Я скажу, когда переводить. — Ну ладно, мужики, давай берись за вагоны, толкать будем, — сказал он остальным, собравшимся около теплушек. Балакин отложил бомбу на снег, взялся за бурый борт хвостового вагона, Никанор с Гренадером встали за второй теплушкой, кто-то полез на другую сторону, чтобы взяться за борт там. Анчару нашлось место у самой двери второго вагона, у надписи белым трафаретом «40 человѣкъ 8 лошадей»: как раз удобно получилось взяться за железную ручку у сдвижной деревянной двери. Он уже упёрся плечом в борт вагона, дожидаясь команды, но дядя Сажин вместо этого обратился к Зефирову, стоящему перед Анчаром, у заднего края первого вагона: — Э, не, юноша, ты тут не вставай, — взял он студента за плечи и отвёл, показав, где встать лучше. — Не стой у буферов: я таких, как ты, знаю — залезешь между буферами, тебе потом грудь так раздавит, что родная мамаша в трупецкой не опознает. — У меня нет мамы, — грустно сказал Зефиров, покорно становясь за широкой спиной Вестика. — Царствие небесное, конечно, а у буферов всё-таки не стой, — покачал пальцем дядя Сажин. — Ну что, все взялись? Давай, на раз-два-три: раз, два, три! Анчар упёрся ногами в подмёрзший гравий, налёг плечом на выкрашенную бурым скобу, и сперва коричневая громада вагона была так неотзывчива, что показалось, что своротить её невозможно, что это то же, как пытаться сдвинуть каменную стену, но вдруг вагон поддался, мягко, будто валясь куда-то, пошёл под плечом вперёд и очень плавно, беззвучно покатил — только буфера между первым и вторым железно громыхнули, отозвавшись судорогой по всему телу вагона. Оказалось, что катить вагон всемером действительно несложно, не трудней, чем толкать перед собой гружёную тачку — знай себе налегай плечом да переставляй ноги. — Давай, давай, давай, — подбадривал дядя Сажин, то забегающий вперёд, то отстающий. Проехали мимо Геры, стоящей у стрелки, и дядя Сажин скомандовал, маша руками на манер волны: — А ну тормози! Тихонько, тихонько замедляй его, тяни на себя. Шагай-шагай, не останавливайся, чёрт! — кто-то за Анчаром упал на гравий, видимо, попытавшись разом остановить махину, упершись ногами в гравий. — Ай, дурак! — крикнул дядя Сажин, — благодари Бога, что не под вагон упал! — Неловко вышло, — послышался одышливый голос Чибисова, поднимающегося с земли. Вагоны тем временем замедлялись, буфера снова гулко пристукнули друг в друга и разошлись, натянув сцепку. Наконец, вагон, чуть дёрнувшись, замер. Все оглянулись на пройденный путь, кажется, сами удивляясь, что две таких махины столь легко удалось оттащить шагов на сто от теряющейся уже в снежной мути цистерны. — Переводи стрелку, барышня! — приложив руки рупором, крикнул Гере дядя Сажин, и та налегла на толстую железную перекладину и провернула её, снова отведя косо уходящую вбок пару рельсов от прямой колеи. — Ну, взялись, потащили! — скомандовал дядя Сажин, и все, развернувшись, поволокли вагоны в обратном направлении. Как и в прошлый раз, вагон легко стронулся с места, плавно набрал ход: в общем, всё оказалось действительно несложно. — Не, рано затормозили… — командовал железнодорожник, когда вагоны уже въехали на путь, соседний с тем, где стояла цистерна. — Давай ещё чуток вперёд! — Зачем? — спросил кто-то из казанцев из-за спины Анчара. — Так не сойдёт, что ль? — Так не сойдёт! — гаркнул железнодорожник. — Хвост за пределом, габариту цистерне не хватит. Говорю, убирать проход надо, так не пререкайся!  Предельный столбик у стрелки. За этот столбик обязательно должен заходить хвост состава, остановившегося на одном из ответвлений за стрелкой, иначе другому составу не хватит места, чтобы пройти по второму ответвлению. В этом правда оказалось очень занятно разбираться! :) Пока мужчины опять сдвигали пару вагонов, убирая теплушки за предельный столбик, потом заново их тормозили, Гера так и стояла у стрелки под хлёстким острым снегом, рвущим поднятый воротник шубки, серо мельтешащим перед глазами как те мушки, которые, бывает, затмевают взгляд, когда резко поднимешься. Жутковато было стоять так одной — не так, может, жутко, как раньше у белой будочки, но всё же очень неестественен, непривычен глазу был этот тонущий во тьме железнодорожный пейзаж, и мозг сам начинал достраивать фантомные образы: тёмные очертания товарных вагонов начинали казаться огромными сундуками, гробами, комодами, указатели со щитами на столбах — костлявыми пугалами, и то там, то тут перенапряжённый взгляд вылавливал во тьме слабые огоньки: кажется, вот сверкнуло что-то, а присмотришься — ничего, химерный всполох, обман зрения, уставшего глядеть в рябящую снегом мглу. И сначала, в очередной раз оглядываясь по сторонам, Гера подумала, что свет со стороны Николаевского вокзала иллюзорен — и лишь приглядевшись, поняла, что нет, через кружащий снегом мрак мутно, но уже отчётливо пробивается белый ацетиленовый фонарь. Свет пока не приближался — кажется, его источник остановился где-то у того краснокирпичного кубоватого здания, которое все называли депо.
-
Всегда получаю большое удовольствие, когда ты описываешь какой-нибудь кусок в стиле эдакого "производственного романа". И самое, пожалуй, классное - не все эти аншпуги и мотодрезины, а то, как ведут себя персонажи, погруженные в весь этот процесс, по сравнению с не погруженными. Странно, кстати, что тебе не нравится дикий запад и уж точно странно, что не нравятся военные сеттинги. Ведь война, особенно современная - это щепотка героизма на столитровую бочку работы. Вот там как раз этой всякой вкусной производственной фигни, которая не попадает в фильмы (о том, как подвешивают печку к днищу танка зимой или как сворачивают колпачки на снарядах, или как отдают команды артиллерийской батарее да даже хотя бы просто как караулы разводят) - много. А мне кажется - это твое как раз.
Но это я так, побрюзжать, а в любом случае, получается круто).
|
— Да дава-ай, — протянул Илюха в ответ на слова Мухина. — Впервой, штоль… — Говна-то, нужно было собачиться, — скривился Расчёскин, хмуро выступая вместе с Илюхой. — Эй, Питер! — оглянулся Илюха по сторонам, видя, что больше никто к расстрельной команде присоединяться не желает. — Чаво волыните? Айда тож вставай сюда. Выведем, туточки и расстреляем, вот у стенки. Ну, давай, давай! — принялся он скликать товарищей. Товарищи понемногу подтягивались со двора, с речного бережка; из-за овина с любопытствующим видом вышел юнга Петров, из-за угла вышел Ерофей Агеев, жующий, с консервной банкой в одной руке и сапожным ножиком с другой. Выудив из банки ножиком кусок и отправив мясо в рот, Ерошка отбросил банку с недоеденными щами — варево расплескалось по траве. Мухин неодобрительно посмотрел на Агеева и на выброшенную им банку, покачал головой. Ерошка отёр ножик о шинель, сунул за голенище сапога и, пережёвывая, вытирая руки о распахнутую шинель, тоже с интересом подался вперёд. «Давай, давай! Команду собираем!» — кричали Илюха с Расчёскиным. — Эй, вылазь, ходяшка! — закричали они в тёмный смрадный проём двери овина. — Вылазь, кому сказано! Ходяшка не вылезал и не отвечал. — Вылазь! Ничё тебе не сделается! Вылазь! Давай! Аус! Шнель! — кричали ему один, другой, третий, но, похоже, из-за того, что изнутри овина было слышно, как перед дверью собирается целая толпа, из-за обращённых к нему криков ходяшка как раз-таки и отказывался вылезать, сидя где-то в смрадном мраке. Мухин посмотрел на овин, пожал плечами и подошел к срубу и постучал рукояткой маузера по косяку. - Эй! Морда китайская! Выходи по-хорошему! До трех считаю! Раз! Двааа! Ходяшка не вылезал, и от дверей его видно тоже не было — похоже, забился куда-то в самый угол. Даже в паре шагов от входа изнутри накатывал тошнотворная, едкая вонь, от которой невозможно было не кривиться. Илюха, зажимая нос, подошёл поближе, заглянул, отпрянул ото входа с гримасой омерзения, сплюнул. - Три! Мухин покачал головой. - Илюха, винтовку оставь и за мной! - сказал он и двинулся внутрь, держа пистолет наготове. - Перепугался, вишь ты! Ничего, ща выковорим. — Фу, смрадина какой, топором стоит! — с перекошенной от отвращения рожей сказал Илюха, но, набрав воздуха, последовал за Мухиным внутрь, задержав дыхание. Дышать внутри было невозможно — даже, когда не вдыхаешь, зловоние полезло через нос; к горлу подкатывали рвотные спазмы, рот наполнился кислой слюной, съеденные недавно щи лезли наружу. В жужжащем роями мух полумраке глухого бревенчатого овина, освещённого только из входного проёма, было не разобрать, где сидит китаец, — во всяком случае, рядом с выходом его не было: вероятно, заховался где-то за горой помоев, лошадиных, коровьих красно-белесых костяков, полуразложившихся трупов, проглядывающих из-под костей. Илюха стоял без винтовки рядом, жмурясь и зажимая ладонями рот: сзади в проём, преодолевая отвращение, заглядывали бойцы. - У, сука! С тобой по-хорошему, а ты вон как! - проворчал Мухин и зажал нос. Напрашивалось решение сжечь овин к чертовой матери и не мараться. Но Фрайденфельдс будет опять буровить. - Эй, гад! Ща запалим тут все! Огонь, понял! Пожар, понял! Выходи лучше! - крикнул он и пнул в сердцах лошадиный скелет. Потом зажал левой рукой нос, и двинулся дальше. — Я с той стороны пойду! — еле выдавил Илюха и принялся обходить груду помоев с левой стороны, а Мухин пошёл справа. Но, не успел комиссар пройти и пяти шагов вдоль почернелой, старой бревенчатой стены, как увидел, что Илюха сдавленно закашлялся, согнулся в поясе — и его длинной струёй вырвало щами; и только стоило подумать об этом подумать, как к горлу Мухина тоже подкатил горячий, дерущий горло ком, который уже сдержать было никак нельзя, как ни зажимай рот рукой, — и комиссара тоже вырвало. Мухин блевал под ноги, прокашливаясь, — а изнутри всё лезли и лезли щи, судорогами скручивая живот, и тягучая слюна висела изо рта. В этот момент, ещё не проблевавшись, Мухин услышал голос Илюхи: — Вон он! Вон он, — не переставая с кашлем блевать, Илюха показывал рукой в темноту за кучу, где действительно на карачках полз китаец, в измаранных грязью и калом, чёрных почти подштанниках, в серой холщовой и тоже изгвазданной рубахе: босой, с бритой круглой башкой, по-совиному таращившийся на блюющего Мухина. Зажимать нос во время рвоты не было никакой возможности, а от запаха блевать тянуло еще сильнее. Чувствуя, как крутит живот, со стонущим ревом откашливаясь от кислого привкуса, Мухин смотрел на китайца с непередаваемой ненавистью. - Давааай! Кха! На выход! Ползи! Кха! - наставил он на ходяшку маузер и сделал дулом пригласительный жест в сторону двери. Надо бы сюда Фрайденфельдса сунуть, пусть посмотрел бы, как его "мужик" тут расстилается. Ходяшка и так ничего не понимал по-русски, и так был в помрачённом состоянии сознания, а от вида наставленного на него маузера совсем помрачился — вместо того, чтобы куда-то ползти, схватил чёрной рукой лежащую рядом коровью челюсть: сукровисто-красную, с огромными, как рядок пуль, белыми зубами, скрючился на земле, закрываясь ею, дёргая лицом от садящихся на него мух. Кажется, он что-то лепетал на своём, но этого было даже толком не разобрать, потому что слева всё хрипел Илюха, согнувшийся в три погибели и указывающий на него рукой: — Кончай его уже! - Топай, чего задыхаться, - ответил Мухин, брезгливо глянув на руку, заткнул чистым еще средним пальцем ухо и выстрелил дважды. Цао Дэлинь, как и всякий человек, задумывался, где и как он умрёт: в старости ли, в окружении внуков, от несчастного случая на работе ли, в миссионерской больнице ли — такие он видел в Тяньцзине, — а может, на какой-то войне: в его время войн шло много, случаев хватало. Но, что он умрёт в удушающем смраде у груды разлагающихся трупов, облепленный жирными чёрно-зелёными мухами, в бревенчатом сарае посреди диких лесов на другом краю света — такого Цао Дэлинь не мог предположить и накурившись опиума. Опиум Цао Дэлинь первый раз попробовал три года назад, в семнадцать лет: тогда он только-только приехал из своего городка Бяньчжуань на юге провинции Шаньдун в большой и шумный портовый город Тяньцзинь. Он приехал на заработки — в Тяньцзине было землячество выходцев с юга Шаньдуна, там работал его двоюродный брат. С год Цао Дэлинь с другими шаньдунцами трудился на товарной станции тяньцзинского вокзала чернорабочим-кули, а в Пятый год Республики в их артель пришёл агент, нанимающий китайцев на работу в Россию. Там можно заработать больше, — объяснял агент. — В России война, мужчины воюют. На заводах, в шахтах и на железных дорогах некому работать, и русские платят хорошие деньги. Кроме того, агент показывал тёплый ватник, штаны, котелок, которые выдают рабочим, объяснял, что обратный проезд до Китая будет бесплатным. Нет, на войну не погонят, — уверенно отвечал агент, — это прямо запрещено, к фронту близко не подпустят, даже если вам самим захочется (все засмеялись). Цао Дэлинь сомневался — слишком уж далеко, — но большая часть артели проголосовала за то, чтобы ехать, и он решил не спорить. Тогда, летом Пятого года, они в Россию всей артелью и двинулись. Сначала через Пекин прибыли в Харбин: там Цао Дэлинь первый раз увидел русских. Иностранцев видел и раньше, в Тяньцзине, а здесь увидел русского переводчика — очкастого светловолосого юношу в странном мундире, путающегося в словах, — русского доктора, оглядывавшего строй голых, тощих, чёрных от загара китайцев, выстроившихся на палящем солнце во дворе конторы фирмы Ю Вэня, переправлявшей китайцев. Здесь же у них отобрали паспорта, взамен выдав лаобаню одну бумагу с перечислением имён всех — иероглифами и русскими буквами. Цао Дэлинь не умел читать, так что с паспортом расстался легко; тем более, что взамен получил два комплекта китайской одежды и мешок с продуктами на всю дорогу. Здесь же Цао Дэлинь сбрил свою косицу: начиналась новая жизнь. Было страшновато, но очень интересно. Через Россию ехали чуть ли не месяц: поезд всё останавливался, деревянный вагон с нарами и железной печкой успел Цао Дэлиню стать почти домом. Шандуньцев, ехавших с ним в одном вагоне, он и так знал, а в пути перезнакомился и с парнями с других артелей — в основном ханьцами из Маньчжурии, которые добавляли «р» ко всем словам подряд, как это делают северяне: вместо «мэнь» говорили «мэр», вместо «нали» — «нар». Цао Дэлинь не очень понимал, куда едет: им говорили название города, но он не помнил — длинные невыговариваемые русские названия он не стремился запоминать. Он помнил, впрочем, как проезжали Мосыкэ: длинные кирпичные пакгаузы, деревянные заборы, огромный, очень непохожий на китайские город за ними весь в сизых дымках из печных труб. Лето уже заканчивалось, и в Мосыкэ им выдали обещанные ватные куртки, тёплые штаны, лохматые шапки. Потом они направились куда-то дальше — говорили, что на север. Долго ехали через какие-то леса, какие-то железные мосты громыхали за распахнутой дверью вагона, потом в каком-то городе их перегрузили на старый пароход, и ещё плыли по какому-то холодному морю, пока не приплыли в какое-то совсем дикое северное место, где русские строили железную дорогу. Там, впрочем, не только русские были — на этой стройке, куда их привезли, были и пленные из европейских стран, в своих шапках и шинелях без ремней. Цао Дэлинь не очень разбирался, что это за люди. Там, наконец, началась работа: выдали тачки, кирки, лопаты, и Цао Дэлинь вместе со всеми колупал мёрзлую, каменную землю киркой, перекидывал лопатой, возил тачку. Работа была тяжёлая, жизнь ещё тяжелей. Поселили их в наскоро сколоченном бараке в глухих лесах. Изо всех щелей дуло, спали все вповалку на дощатых нарах. Совсем скоро, уже в девятом месяце, повалил снег, солнце почти перестало появляться из-за горизонта. Было очень холодно, Цао Дэлинь и не знал, что такие холода бывают в мире. Один раз тяжело простыл — запарившись, шёл по холоду, распахнув ватную куртку, а наутро свалился в горячке, с жарко крутящей головой. Думал — умрёт: в артели за зиму умерло трое, и это только из их пяти десятков. Хотел было пойти к русскому доктору — отговорили: сказали, что этот старик с лысой и бугристой как кусок теста головой хорошо лечит только русских, а китайцу скорей даст яду. Лечился у своих, у них был привезённый с родины баньланьгэнь, был горький кудин, были благовония, которые дымили у изголовья его нар. Баньланьгэнь помог — промаявшись две недели, Цао Дэлинь пошёл на поправку. А вот дела на работе в это самое время пошли совсем худо. Оказалось, что, пока он болел, в России произошла революция: Цао Дэлинь не очень понимал, что это такое, хотя знал, что и у них в Китае было что-то похожее: но, как в Китае это всё было где-то на юге, так и здесь: в этой заснеженной лесной глуши про то, что происходит в русской столице, только слышали, а ещё меньше понимали. У них в артели вообще мало кто знал русский: лаобань, приехавший с ними из Тяньцзиня, пытался запомнить какие-то русские слова, но ничего толком не запомнил. Были, впрочем, двое — харбинец Ляо Дунвэй с хунхузским прошлым, ранее часто наведывавшийся в Хайшэньвэй, да жёлтый от опиума старик Лю Ган, который до того, как прибиться к артели, показывал картинки с голыми женщинами на базаре в каком-то русском городе на Урале. Эти долго разговаривали с растерянными русскими охранниками, с возбуждённо галдящими пленными и потом пересказали, что в русской столице свергли русского императора и установили народовластие. Впрочем, как им объяснили, для китайцев всё оставалось по-прежнему — работы ещё было много. Но по-прежнему не осталось: как раз с этого времени всё пошло наперекосяк. Платили и раньше копейки, — обещали по три рубля за сажень земли, а оказалось, что по рублю, — да к тому же вычитали по любому поводу, — за рукавицы, ботинки, заступы, кирки, — нещадно штрафовали, а теперь начали затягивать оплату. Стало хуже с едой: и так-то было неважно, ели в основном рыбу да картошку, от которых всех уже воротило, дофу здесь вообще не знали, рис продавали втридорога, а теперь и рыбу стали подвозить меньше — на всех не хватало. Китайцы начали проситься домой. Кто-то сбивался в группы, убегал — русское начальство почти не препятствовало. Других вывозили официально, через порт. Цао Дэлинь тоже записался на отъезд, но в китайском совете артелей ему сказали, чтобы скоро своей очереди не ждал: первыми отпускали семейных. Наступило лето, походившее больше на шаньдунскую зиму, с той лишь разницей, что солнце каталось по небу кругами, едва лишь ныряя за горизонт к полуночи. В их бараки начали заглядывать какие-то люди, раздавать какие-то листовки. Листовки пускали на курево, а с людьми разговаривали Ляо и Лю, но и они не очень понимали, что русским нужно от китайцев. Китайцам же от русских нужно было одно — уехать домой. Заработать денег не получилось, это уже все понимали: у Цао Дэлиня в мешочке на шее было около двадцати рублей, кое у кого ещё меньше. Хоть бы живыми выбраться, — так уже рассуждали все. К зиме китайцев перестали вывозить. Бараки к тому времени уже опустели наполовину, но людей всё ещё оставалось много. Что они тут делают, никто уже вовсе не понимал. Работы уже почти не было, а когда русский чиновник в мундире с молоточками приходил с нарядом на расчистку пути, на него только кричали и махали руками — денег в кассе уже давно не видели, а работать за бесплатно дураков не было. В лагере по соседству пленные радостно говорили, что войне скоро конец. В артели строили планы устроить на железной дороге завал, остановить состав и уехать на нём до русской столицы, откуда уже как-то попытаться добраться до Китая. Другие говорили, что поезд захватывать действительно нужно, но ехать на нём надо в другую сторону: в северный порт, где проситься на любой корабль. Оттуда, говорили, ходят корабли до Англии. Ни из того, ни из другого плана ничего не вышло: не имея оружия, поезд останавливать опасались, а англичан в артели многие не любили, особенно бывший хунхуз Ляо. К этому времени артель вообще разделилась на две части: шаньдунцев, к которым и примыкал Цао Дэлинь, и маньчжурцев-северян. От безделья и тоски ругались друг с другом из-за мелочей, дрались, потом мирились, вместе праздновали наступление года Лошади: хотя какой, к чёрту, это был праздник весны, когда за воротами барака были саженные сугробы, мороз и темнота. Но к лету, уже второму для Цао Дэлиня в этих местах, их положение изменилось: пришёл очередной агитатор с красной повязкой, но в этот раз не с пустыми речами, а с дельным предложением — выдать китайцам винтовки. На берегу, неподалёку отсюда, говорил он, высадились англичане, которым не нравится русская революция, и русские зовут китайцев на помощь. Харчи будут, обещал агитатор, винтовки будут. Англичан многие не любили и записывались охотно. Цао Дэлинь к англичанам относился безразлично, но решил, что с винтовкой в такое неспокойное время надёжнее, и тоже записался. Старый лаобань их артели в отряд записываться не стал, и новым лаобанем выбрали знающего русский хунхуза Ляо. Их отправили защищать хорошо знакомый железнодорожный мост, сказали взять с собой лопаты и кирки, чтобы рыть окопы. Китайцы не знали, как правильно рыть окопы и вообще воевать, поэтому решили действовать по-своему: принялись изображать, что ремонтируют путь. Появился разъезд из русских с погонами (Цао Дэлинь уже знал, что таких русских называют белыми) с несколькими англичанами. Китайцы, побросав инструменты, бросились к ним с криками «дай денег» и «дай еды» на родном языке. Русские и англичане растерялись, китайцы их обступили, галдя, и всех перебили, а потом ещё долго лупили трупы кирками и лопатами. Цао Дэлинь в тот раз никого не убил, но киркой знатно приложился по черепу какого-то уже дохлого рыжеволосого типа. Потом вместе с красными русскими китайцы отступали по железной дороге. Пока отступали, было хорошо, а как приехали в какой-то город на берегу большого озера, русские потребовали сдать винтовки. Китайцы сказали, что винтовки никому теперь не отдадут, наставили их на русских, захватили поезд и, грозя винтовками машинисту, поехали дальше. Оказалось, что приехали в самую русскую столицу — крепость святого Бидэ. Крепость с башней там и правда была, были мосты и каменные здания, были военные корабли на реке, много русских матросов, обмотанных пулемётными лентами, много и русских солдат с красными бантами. Струхнули. Подумали: приехали в самое пекло, здесь-то точно винтовки отберут. Китайцев выстроили на площади, и какой-то человек в кожаной куртке выступал перед ними, потрясая кулаком, и Цао Дэлинь уже совсем запутался, чего от них хотят, ругают их или хвалят. До него дошло, что их хвалят, только когда им выдали ещё винтовок, патронов, несколько ящиков консервов и даже красный флаг. Со всем этим их опять отправили по железной дороге. Держа винтовку на коленях, свесив ноги из проёма вагона, снова едущего через лес, Цао Дэлинь с тоской думал под стук колёс, что в России уже два года, а ничего, кроме железных дорог, толком и не видел. В этот раз до пункта назначения они не добрались: на середине пути, в лесах, их поезд остановили на станции с непроизносимым русским именем, которое китайцы переиначили на А-бао. Оказалось, что город, в который они ехали, уже захвачен англичанами. «Кажется, эти англичане крепко насели на русских», — рассудительно тогда сказал старый опиумщик Лю Ган. Что теперь делать, никто не понимал, ни китайцы, ни русские. Кто-то из русских на станции сказал, чтобы китайцы пока, до прибытия подкрепления, охраняли саму станцию. Артелью проголосовали за это. С неделю всё было хорошо, а как-то ночью, стоя в карауле, Цао Дэлинь увидел людей, пробирающихся к стоящему на запасном пути составу, в котором китайцы приехали сюда. Цао Дэлинь сразу понял, что тем было нужно, — русские уже лезли в вагон, в котором стояли ящики с консервами, теми самыми, которыми их отряд снабдили в крепости святого Бидэ. Вздумалось бы русским воровать что-то иное, Цао Дэлинь бы не возражал, но тут, вскинув винтовку к плечу, дурным голосом заорал на русских: «Нихади! Нихади!». Один из ворюг что-то ему закричал в ответ, но Цао Дэлинь разобрал лишь пару знакомых ему слов: «Давай, ходя!» Смысла Цао Дэлинь не понял и начал стрелять. На шум из вагонов выбежали другие китайцы, тоже принялись стрелять в русских, убили троих. Когда разобрали, что это были красноармейцы, — поняли, что оставаться здесь больше нельзя. Куда идти, было непонятно. С одной стороны по железной дороге подходили красные, с другой англичане. Вокруг были непонятные, незнакомые и дикие русские леса. Впрочем, один из товарищей вспомнил, что, гуляя по лесу, видел в двадцати ли отсюда одинокий, затерянный в лесах хутор. Решили отправиться туда. Консервы взяли с собой, тащили ящики на спинах: Цао Дэлиню, работавшему кули в Тяньцзине, такое было не в новинку. На широкую поляну, в середине которой у речки стоял хутор, вышли только утром: какие-то местные люди там работали на поле, убирали русскую тёмную пшеницу. Они издалека заметили приближающихся китайцев, с криками попрятались в дом, а когда китайцы приблизились, начали стрелять в них из окон из обрезов. Двух китайцев убили, ещё одного ранили; после такого жалеть никого не стали. Было на хуторе шестеро мужчин и три бабы: мужчин всех убили сразу — двух в бою, двух, когда пытались сбежать, ещё одного добили раненого и последнего, мальчишку, прибили, хоть и умолял пощадить. «Нас-то кто когда щадил?» — сказал хунхуз Ляо, по-хозяйски вышагивая по дому. Одну из баб, старую седую каргу, тоже тут же убили — кричала больно громко, да и кому она, старая, нужна? Двух других, молоденьких, однако, оставили: женщины ни у кого не было давно, а у Цао Дэлиня и вовсе никогда. Заперли их в маленький чуланчик в одной из комнат, выводя только по надобности. На хуторе оказалось много скотины: были лошади, были коровы, овцы, куры и гуси. Консервы, даром что мясные, всем уж порядком надоели, так что принялись пировать. Печкой местной никто пользоваться не умел, но нашёлся подходящий котёл: в нём мясо и варили над костром, жарили на струганых шпажках. Получалось почти как дома. Нашёлся самогон, отпраздновали как следует. На следующий день, с похмельной головой, принялись, наконец, осматриваться и думать, что делать дальше. Сперва полагали, здесь долго не задержатся, пойдут куда-нибудь ещё, но идти было некуда: побродив по лесам, выяснили, что вокруг только чащи да болота. У тракта, ведущего к станции А-бао, нашли избушку, в ней бородатого мужика из местных. Долго совещались, что с ним делать, потом пристрелили, чтобы не выдал. К этому уже спокойно относились. Что делать, никто не представлял, и не делали ничего. Своих погибших похоронили на холмике на другом берегу речки, а трупы русских стащили в сарай, туда же принялись кидать кости от скота, который потихоньку резали. Спали кто в сене на втором этаже, кто на полатях и лавках на первом, кто просто на полу: места едва хватало. Ради смеха давали курить опиум девкам, забавлялись, глядя, как те бормочут что-то. Лю Ган ворчал, но зелья ещё хватало, и он потихоньку курил свой опиум на втором этаже. Ляо важно ходил по двору, всем распоряжаясь. Распоряжался бывший хунхуз, однако, бестолково: когда стало очевидно, что от сарая с трупами несёт вонью, Ляо приказал трупы вытащить и выкинуть в речку. Никто не захотел лезть в сарай. Тогда Ляо приказал сарай поджечь. С этим согласились: набросали сена, собирались было уже запалить — и тут пошёл мерзкий холодный дождь, сено не занималось. Нашли жестянку с керосином, вылили на угол, запалили. Вроде загорелось, но брёвна под дождём так и не занялись, и всё быстро потухло. Над Ляо смеялись, всем было очевидно, что он потерял лицо. Когда он последний раз попытался приказать вылить на угол остатки самогона и запалить ещё раз, его побили и объявили, что он больше не лаобань. Трупы пересыпали найденной в кладовке гашёной известью, немного перебившей запах, и на том успокоились. Лёжа в мягком сене, слушая тихий шелест дождя по дощатой кровле и разговоры товарищей внизу, Цао Дэлинь размышлял над тем, что всё это как-то неправильно. Нет, эта жизнь определённо была лучше той, что была у них на железной дороге, но Цао Дэлинь понимал, что вечно так продолжаться не может. «Вот ведь поехал за приключениями, — думал Цао Дэлинь, — а теперь тут сижу, а в сарае трупы, а внизу девок опять опиумом накуривают», — и на всякий случай проверял, с ним ли его винтовка. Без неё он теперь и по дому-то ходить опасался: атмосфера установилась нездоровая, хуже, чем в прошлом году, когда сидели в бараке без работы и еды. Нового лаобаня выбрать не могли: шаньдунцы хотели одного, маньчжурцы другого. Опять начали придираться друг к другу по мелочам: кто сколько ест, кто где спит, кто сколько раз с какой девкой, кто стоит в карауле, кто на каком диалекте разговаривает. Едва не доходило до стрельбы. Потом успокаивались, думали, что теперь делать. К красным возвращаться точно не собирались, ждали англичан. Думали, англичане разбираться не станут, кто там кого на хуторе шлёпнул, им можно сдаться, а они и домой отправят, хотя бы через Гонконг. На восьмой день их сидения на хуторе одна из девок, хозяйская дочка, попыталась сбежать. Молодой паренёк Чжоу Цзяньюй, один из немногих, кто в России так и не состриг свою косицу, её заметил и, вместо того чтобы догнать, застрелил. Он был шаньдунец, и маньчжурцы принялись было за это бить, но другие шаньдунцы встряли — не то, чтобы они заступались за него, но не могли стерпеть, что шаньдунца бьют маньчжурцы. В этот раз дошло до стрельбы: убили троих, ещё двоих ранили. «Хоть бы скорей пришли англичане», — думал Цао Дэлинь, разрывая простыни на бинты для раненых. Чжоу Цзяньюя месили ногами на дворе, в этот раз уже свои. Один из раненых, с простреленной печенью, умер в тот же день: его и троих других уже не понесли хоронить на другой берег, а свалили к остальным в сарай. Это уже было как-то совсем не по-людски, думал Цао Дэлинь и прикидывал, не стоит ли ему отсюда втихомолку уйти — но куда? Хутор в ту ночь почти не спал — все лежали с оружием, ожидая, не начнётся ли стрельба снова. Самогон давно кончился, опиум заканчивался. Зарезали последнюю лошадь, вывалили в сарай требуху. Жёсткую конину ели неохотно, принялись снова за консервы. Непонятно было, сколько ещё ждать англичан. Через пару дней кто-то, обкурившись, зачем-то взорвал две гранаты за околицей, чудом никого не убил и не ранил. Чжоу Цзяньюя били, отводя на нём зло. Кто-то предлагал высылать разведку, но не могли договориться, кому идти. Кто-то замыкался в себе, как старичок Пэн, проводящий время за рыбалкой. Кто-то, как рябой Цзюнь из маньчжурцев, пробовал собрать свою банду. Кто-то, как Ли Ган, курил опиум. Кто-то пробовал стрелять лесную птицу. Кто-то прикидывал, можно ли отсюда куда-то уплыть на лодке по реке. Дом был загажен, на втором этаже неистребимо воняло дерьмом. В день своей смерти Цао Дэлинь проснулся от грохота и резкой боли в ступне: в первое мгновение он почему-то подумал, что убит, и от страха начал истошно вопить, а вокруг вопили его товарищи, до того, как и он, вповалку спавшие в коридоре на первом этаже. Чжоу Цзяньюй бросил туда последнюю из оставшихся у них гранату, но Цао Дэлинь так никогда этого не узнал, потому что тут же снаружи дома началась стрельба: оказалось, что на хутор напали русские. Хунхуза Ляо убили на дворе выстрелом в грудь, ещё нескольких ранили. Опиумщику Лю Гану удалось договориться с русскими, и те ушли. Когда русские ушли, все, как обычно, начали снова ругаться — как получилось, что проворонили нападение, кто подобрался к дому так близко, чтобы закинуть внутрь гранату. Как вообще всё произошло, никто не понимал. Ясно было одно: раз русские появились из леса, значит, следом за ними придут англичане. Решили быть начеку, выставили караулы, наказав, чтобы смотрели по сторонам внимательней. Цао Дэлинь лежал на печке, куда ему помогли забраться, вместе с маньчжурцем Фэнем — мерзким типом, с которым с неделю до того поцапался, и ещё в последние часы своей жизни ругался с ним. А потом русские вернулись — те первые или какие-то другие, Цао Дэлинь так и не понял до конца, — Фэну хватило духа застрелиться, а Цао Дэлиню нет. Его стащили с печки, избили, сунули в сарай к трупам, и ползая там, задыхаясь от вони, с ужасом глядя на то, как в сарай заходят два каких-то человека, Цао Дэлинь вдруг понял, что здесь и умрёт. Внутри овина выстрелы грохали, как пятипудовый молот в горячем цехе. — Фу блядь, фу нахуй! — только и сказал Илюха, когда вывалился, как пьяный, из дверей овина на чистый воздух, тяжело дыша и отхаркиваясь. Бойцы, собравшиеся вокруг, смотрели на Илюху с комиссаром скорей сочувственно. - Вот такие щи с кашею, братва! - невесело усмехнулся Мухин бледными, подрагивающими губами, спрятал маузер в кобуру и вытер рот. - Считай и не обедал. Все, окончен бал, погасли свечи! Стройтесь там с остальными, а мне умыться надо. Илюх, тебе тоже. Холодная вода немного привела комиссара в чувства. Он сполоснул сапоги, умылся еще раз и постоял, прижав ладони к лицу. Нет, ну а как иначе-то? Только так. Блевотины, трупов и крови будет еще много. Революция - это не по шпациру с дамочкой гулять. И все же его вырвало еще раз, почти насухую, и пришлось умываться снова. 18:00Хмурое пепельное небо низко висело над головой, и всё вокруг было таким же серым и унылым — справа тёмный, застарелый ельник с редкими нитками берёз, слева, за свинцовой неширокой речкой — такая же гребёнка елей. Между елями и речкой было открытое пространство шагов в пятьдесят — заросшее высокой рыжей травой и редкими корявыми плесневелыми ёлками болото с моховыми мочажинами. В них, оступаясь, тонули по колено, с матюками и хлюпом вылезали, хватаясь за сухие ломкие коряги. Обходили чёрные обросшие камышом стоячие заводи, чавкала под ногами травяная жижа, кислый и терпкий железистый запах бил в нос. С неведомых сторон чиркали и свистели какие-то неведомые птицы — чьи, чьи, чьи! Тропинка, о которой говорила Поля, сперва очевидная, теперь уж стала совсем неразличима — правда, сбиться с пути тут было невозможно: шли вдоль речки, как и было сказано. Но все уж тысячу раз успели пожалеть, что попёрлись этим путём: ещё час, другой и стемнеет, а конца видно не было, хоть шли уже часов шесть, с кочки на кочку. Шли тяжело: нужно было тащить пулемёт, давать Живчику передохнуть (от носилок, как оказалось, толку не было: на них его сломанную лопатку так же трясло, как и при ходьбе), тащить винтовки ходяшек, да и заплечные мешки после хутора кой у кого отяжелели. Вымотались, изгваздались, набрали воды в сапоги, — но уж то было хорошо, что других таких дураков шлёпать по этим топям не было: ни интервента, ни красноармейца, ни гражданского так и не встретили за всё время. Сперва-то ничего было, шли вдоль бойкой, шумной речки по утоптанной тропинке: по ней набрели на мост, по которому речку пересекал размокший в грязи тракт. Мост миновали, пошли по указаниям Поли дальше по тропинке, и вот здесь уже началось болото. Старались идти по краю, где уже начинался ельник, — но в него было не углубиться, слишком тесный он был, заваленный буреломом, заросший папоротником, и приходилось выбирать — либо обдирать себе шкуру о колючие сухие еловые ветки, либо хлюпать по топи. Один раз на другом берегу реки показался просвет, лужок с косым деревянным сараем, кажется, заброшенным. До него всё равно было не добраться, так что пошли дальше. — Чёрт попутал тут переться, — ворчал Дорошка Агеев с двумя винтовками за спиной. — Озерки, Озерки… Сдались нам те Озерки, — пыхтел себе под нос Нефёд Артюхов, приспособивший кривой дрын под посох. — Что там, наши в Озерках? Нет, конечно. И что мы там забыли? — Топай знай, — подтолкнул его в спину Тюльпанов. — Да я-то потопаю, — уныло отозвался Артюхов. — Вон и мост уж недалеко. Железнодорожный мост, который с реки приметили уже давно, был всё ближе, а сейчас, замечали Фрайденфельдс с Мухиным, из-за стены елей впереди проглядывала и высокая щебневая насыпь. Охраны у моста никакой не было видно — ни нашей, ни интервентской, — значит, тут можно было пересечь речку.
-
Вот вам и «Путешествие на Запад»! =D
-
Прекрасная в своей жестокости и безнадеге история!
-
Вот вроде и получается, что все правильно сделали, а почему мне так хреново?
|
Msg: 3 of 3 From: Mithgol the Webmaster To: All Subj: Re: КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ -------------------------------------------- Всем ------------------------------------------- Омское ебанько совсем ополоумело. От чудачеств анального засранца даже его прихвостни сходят с ума. Взирая, коленопреклоненно хватался за живот от нутряного хохота и едко потел, предвкушая падение еврейско-кащенитского каганата. [ссылка на ftp. По ссылке видео 144р, ebanko_novosti.wmv] Заставка новостей телеканала «Омск-ТВ». Идёт отсчёт времени до начала выпуска. Механический голос равномерно произносит: пудовичок, осьмушка, четвертушка, полушка, целковый, ноль. Кадр: студия, аккуратно одетая ведущая за столом. Ведущая говорит спокойным поставленным тоном советского диктора: «Здравствуйте, товарищи. В эфире новости последнего часа. Главная тема выпуска: торжественное открытие парка ледяных скульптур Погибших Бойцов на льду Иртыша. Слово нашему коллеге Антону Верницкому. Смена кадра. Антон Верницкий стоит на заполненном людьми ледяном поле, где тут и там стоят ледяные глыбы. Антон Верницкий: То, что вы видите перед собой, можно счесть просто кусками льда, но на самом деле это кубические скульптуры Павших Борцов, воздвигнутые здесь по плану монументальной пропаганды. Вот эта скульптура (показывает на криво поставленные один на другой три куба льда) изображает Виктора Пелевина, вот это (показывает на усечённую ледяную пирамиду) — наш великий русский композитор-авангардист Сергей Курёхин, ну а эту скульптуру узнает каждый без дополнительного пояснения (показывает на снеговика в потёках жёлтой мочи, облепленного говнарскими наклейками). В кадр вваливается бухой панк: судя по виду, это ветеран дивизии им. В. Цоя: он в косухе, с обмазанным мёрзлым говном ирокезом. Вскинув руки и нетвёрдо держась на ногах, говнарь начинает орать «Горшок жив! Горшок жив!» — впрочем, тут же его скашивает автоматная очередь. Выстрелы вообще то и дело раздаются на заднем фоне. Антон Верницкий: ранее на этом ледяном поле выступил с программной речью каудильо Республики Эдуард Лимонов. Я прошу коллег включить запись. Коллеги? Смена кадра: перед собравшимися выступает Лимонов. Голова каудильо туго замотана бинтом от ранения, полученного им в боях за Казань. Лимонов своим знаменитым надтреснутым голосом обращается к собравшимся: …я обвиняю Америку, этот населённый бледными тенями, растворяющийся в болоте несуществования континент! Я обвиняю американскую марионетку, Димона Кровавого, жалкого, трусливого гнома, потерявшего свою Белоснежку на руинах Казани и сейчас отыскивающего её прах, копаясь кривоватыми заскорузлыми пальчиками в сером пепле! Я обвиняю тебя, выродок, нравственный урод от рождения! Доведись мне встретиться с тобой за гаражами, я плюнул бы тебе на лысину. Скажешь, у тебя нет лысины? Она у тебя скоро будет! Я обвиняю тебя в самом страшном грехе, завезённом на нашу озарённую ленивыми рыжими закатами землю! Я обвиняю тебя в грехе пошлости! Я обвиняю тебя в прославлении труда, идиотской идеологии, основанной на поклонении материальному прогрессу. Кретин, я повешу тебя за галстук на кремлёвской стене! Я обвиняю тебя в презрении к утопии и поэзии, ко всему, направленному на совершенствование человеческой души... Как не противостоять этому поветрию наиболее разрушительным броском вперед – идеей, и самой творческой работой – тунеядством! Анархия — мать порядка! Слава постмодерну — героям слава! Упразднение труда! Экзистенциализм как гуманизм! Талласократия! Теллурократия! Ещё парочку! Москвошвея! Москвошвея! Но закончить свою проповедь, товарищи, я бы хотел не этими безусловно важными словами, а обращением к нашим защитникам! Да, мы потерпели поражение в бою, но мы знатно повеселились и повеселимся ещё больше! Пермь горит, да и хуй с ней: у нас ещё есть Екатеринбург и Омск! Иногда, чтобы спасти Россию, надо уничтожить Пермь! Хороший город в честь палеозойского периода не назовут! Скачи, скачи, Димон, по Перми: мы ещё вернёмся сплясать с тобой адскую джигу на её развалинах! А вы, бойцы, помните, за что вы сражаетесь. Вы сражаетесь за воробьиную ораторию! За особый взлёт свободной мысли! За беспонтовый пирожок, горячий, только из печки! Велика Сибирь, а отступать некуда! За нами — лакановский objet petit a!Смена кадра: студия. Ведущая: в настоящее время праздник в парке Сгинувших Героев продолжается. По заявлениям пресс-секретаря Эскадронов смерти Сергея Смирнова, празднества проходят мирно и без эксцессов: за сегодняшний день от огнестрельных ранений погибло только пять человек, ещё три человека провалились под лёд вместе со скульптурой Сергея Переслегина и ещё два получили тяжкие увечья во время игры в хоккей противопехотной миной. Напоминаю, что для гостей праздника организован тематический фудкорт. В столовой имени Сергея Курёхина посетителям предлагают жаркое из воробьёв, полевая кухня «Винтовка это праздник» угощает пирожками «Беспонтовые», а в трактире имени Михаила Горшенёва каждый может найти для себя мясо. К другим новостям дня. В районном суде Чегеваринского района продолжается процесс над трупом Михаила Вербицкого. Напомним, что математик и радикальный публицист был обвинен в гносеологической гнусности и избыточном понимании задач революции, вследствие чего расстрелян со штабом после возвращения из Южного похода. После расстрела было решено провести суд над трупом, для чего тело Вербицкого было эксгумировано. О том, как развивается процесс, наша корреспондентка Ирада Зейналова: Смена кадра: Ирада Зейналова в зале суда, где идёт процесс над кособоко усаженным на скамью подсудимых полуразложившимся трупом Вербицкого. Судья, прокурор и адвокат напоминают по виду бухих студентов-гуманитариев. Ирада Зейналова: Мы находимся в зале суда, где уже вторую неделю продолжается первое заседание по делу предателя Михаила Вербицкого. Запах здесь стоит неописуемый. Несмотря на неоднократные приказания каудильо заканчивать процесс как можно скорее, прения сторон несколько затянулись. Послушаем, что говорит прокурор сейчас. Прокурор (пошатываясь): …товарно-денежные отношения упадочны, порочны и пошлы. Человеческие отношения должны быть основаны на страсти или страхе! Тоталитарные государства сопутствуют тотальности бытия. Иллюстрирую это аналогией. Пусть в коммунальной квартире на 1000 семей есть один лишь общественный туалет, который содержится уборщицей Марфой Власьевной… Со своего места вскакивает, осоловело таращаясь по сторонам, до того спавший адвокат. Адвокат (для твёрдости держась за плечо прокурора): Протестую, ваша честь! Судья (промаргиваясь, заплетаясь в словах): Против чего? Адвокат: Я забыл. Судья: Протест принят. Продолжайте. Прокурор наливает из бутылки, выпивает, морщится: А что я сказать-то хотел? (чешет в затылке) Ты сбил меня, ебланище! (вновь уснувшему адвокату) А, вот. Шёл по улице Фассбиндер, на хую вертел цилиндр, а навстречу шёл Селин, тащи скорее вазелин. Судья: Селина не трожь, сука!!! Адвокат (просыпается): Перемена мест! Судья, адвокат и прокурор меняются местами, пересаживаясь по часовой стрелке. Разлагающийся труп Вербицкого безучастно сидит на скамье подсудимых, кособоко свесив голову с высунутым чёрным языком. Смена кадра: студия. Ведущая: и к другим новостям. Продолжается строительство башни Татлина в Челябинске. Напомним, что о начале этого грандиозного проекта было объявлено ещё весной прошлого года, но строительство столкнулось с затруднениями, в числе которых беспробудное пьянство рабочих и лишь частичный успех кампании по сбору металлолома для конструкций башни. Из минимально требуемых пяти тысяч тонн стали на настоящий момент удалось собрать двадцать три килограмма. Тем не менее, кампания монументальной пропаганды набирает ход: в недавней программной речи каудильо заявил о начале строительства статуи нашего великого земляка Егора Летова на берегу Иртыша. Высота ледяной статуи по плану составляет более 200 метров. На руках музыкант будет держать… (еле сдерживается) пятидесятиметрового… (заходится нервным смехом) пятидесятиметрового кота! Господи! Что я несу? (в истерическом припадке) Какой ещё пятидесятиметровый кот? Господи, что это за бред? Это какой-то кошмар, из которого я не могу проснуться! На улицах стреляют, насилуют, отопления нет, эскадроны смерти…
-
-
Сначала хотела выделять самые сочные цитаты, но потом поняла что как-то выходит что цитирую весь пост. Это офигенно. TOP SHESH! ^^
-
Если вам исполнилось 18 лет и вы готовы к просмотру контента, который может оказаться для вас неприемлемым, нажмите сюда.
-
Это ещё этап "Всё летит в ..." или уже "Нечего терять"?
|
— Что? Куда? — задыхающимся голосом переспросил николаевец в ответ на расспросы Геры. — Патрули… солдаты стоят у входов и… и обходят, да, — николаевец задумался, — но я, я могу провести! — закивал он для убедительности. — Я конечно, я могу провести, оттуда, уф… оттуда можно пройти до вокзала, там уж как хотите. Я могу, да.
— Что ты брешешь?! — снова вскинулся на николаевца Борька. — Братцы, он нас в руки солдатам и приведёт! Постреляют всех у стенки, нынче с нашим братом не церемонятся!
— Вы как хотите, я туда не пойду, — хмуро заявил Гренадер. — Хватит, набегались. Обратно идти надо, на вокзал.
— Пробирка, конечно, разбилась, — в то же время, не обращая внимания на допрос николаевца, важно, с выражением профессионала, ответил Зефиров. — Конечно, бомба взорвётся в тепле. Я больше скажу, и того, чтобы весь лёд растаял, не требуется. Достаточно, чтобы капли потекли, чтобы серная кислота вошла в контакт…
— В контакт, в мантакт! — грубо перебил его Никанор, оборачиваясь. Он так и стоял в сторонке от остальных, закинув на плечо винтовку, как топор. — Чего заладил! Наших надо искать, вот как я скажу! Своих бросать — это вообще никуда не годится, так даже звери не поступают.
— А с этим-то что делать? — порывисто показал на лежащего на снегу николаевца Борька. — Стрелять, что ли?
Николаевец от этих слов, кажется, даже дышать позабыл, таращась на обступающих его.
— Да идёмте уже! — отчаянно гаркнул Балакин. — Долго тут стоять будем, нет?!
— Куда идти-то?! — шагнул к нему Никанор. — Ты, может, знаешь, куда идти? Чё тогда вылупился?
— Ты на меня не ори! — не выдержал Балакин и сунул руку в карман пальто за браунингом. Заметив это, Никанор крутанул было с плеча винтовку — но тут уж налетели на него товарищи, отводя ствол в сторону, отталкивая Никанора прочь от Балакина. Самого Балакина предостерегающе и молча схватил за руку его товарищ по типографии Чибисов; Балакин зыркнул на него, но ничего не сказал.
А не принимавший участия в споре Даня, молодой паренёк с женской пуховой шалью на плечах и винтовкой за спиной, тем временем, не оборачиваясь, понуро шагал прочь, скрипя валенками по свежему снегу, засыпавшему тёмную пустую улицу. Всё разваливалось, расползалось по швам, погасшая было ссора снова вспыхнула: все орали друг на друга, не могли решить, что делать, разбегались; было видно, что вторая за вечер неудача подкосила дух казанцев: каждый из них сейчас выглядел так, будто не знает, чего хочет больше — нажраться с горя до свинства и забытья в каком-нибудь трактире, поубивать всех вокруг в истерическом припадке ненависти или сдаться властям, только чтобы это всё закончилось. Только большевики Балакин и Чибисов выглядели ещё бодро, да студент-анархист Зефиров с глуповатой ухмылочкой наблюдал за тем, как орут друг на друга остальные, — его такое, кажется, забавляло, как и вообще всё происходящее.
-
Разлад неожиданный, но сколь яркий и живой! А главное - меняющий все планы-мечты.
|
-
Это прекрасно? Это прекрасно.
Забыл плюс поставить, да.
|
Рябящая огненная тьма по краям глаз и нестерпимая, необычно острая жажда, — все первые знаки приближения солнечного удара уже чувствовал Трапезников. После очередного аута он взял с подноса подошедшего боя стакан с холодным мятным чаем и упоительно шелестящим ледяным крошевом, выпил залпом, захрустел льдом на зубах — но напиток будто провалился без следа, совсем не ослабив жажду, зато теперь вместе с противным мятным привкусом неотвратимо подступала тошнота. Было ясно — ещё минута, две на этой жаре, и он зайдёт за ту черту, когда продолжать игру будет физически невозможно, а останется только упасть на плетёный стул за сервированным уже столиком в тени у каменной ограды, в смертельной, жуткой слабости, с застилающей глаза тёмно-янтарной рябящей пеленой, с катящейся по телу холодной испариной. Но пока звенящие от напряжения ноги ещё держали, и в плавящемся масляном мареве плясало в щиплющих от пота глазах всё то же: коралловый корт, сетка, лениво надувающаяся под жареным ветерком, белая фигурка за ней. Но и Вышнеградский уже был на пределе: игра, и без того в последнем сете шедшая деревянно, глупо, сейчас превратилась уже в пародию на самое себя, в лотерею ошибок, которые стыдно было допускать и начинающему, — Вышнеградский отбивал, как топором рубил, раз за разом подавал в сетку, один раз, бросившись за мячом, упал на колено, выронив ракетку — и тут Трапезников, сжимая скользкую от пота, горячую кожаную оплётку ракетки в руке, уже сам понимал, что теперь достаточно только не упасть с солнечным ударом — и матч его. Но когда Чжуань шифу после очередной подачи Вышнеградского в сетку гортанно выкрикнул «Гейм! Сет! Матч», Трапезников и сам за кипучим вращением в голове, за шумящими приливами крови к глазам не понял, что матч выигран, — и машинально протянул руку за мячом, чтобы сервировать, и бой, на протяжении матча исправно собиравший мячи, даже подбежал с коробкой, и наконец до Трапезникова дошло, только когда с другого конца корта захрипел Вышнеградский, согнувшийся, опирающийся руками о колени: — Поздра… поздравляю, Виктор… Константинович… — Вышнеградский измождённо махнул рукой, — мол, всё, конец, — не переставая тяжело и часто, как собака, дышать. Ноги были как две пылающие палки, в ушах всё звенел пустотелый, чистый звук отбитого мяча, но всё это было уже неважно, потому что сейчас наступал тот момент матча, ради которого он и игрался на жаре — момент, когда можно стянуть с себя противно липнущие к телу белые фланелевые штаны и рубашку, встать под упоительно холодный душ в белой кафельной раздевалке, смыть с себя липкую плёнку солёного пота, — и выйти из-под него уже будто переродившимся: с приятно мокрыми волосами, в новой сухой и прохладной одежде, заботливо принесённой тем же боем, с жгучим алым отпечатком на лице, с чугунной, невыносимо приятной усталостью во всём теле, многократно усилившейся, когда наконец Трапезников сел в плетёное кресло в тени — и только вытянул ноги, как приливом от них к голове пошло чистое, не дающее думать блаженство, гудящее, как бесконечно долгий отзвук гонга. Вышнеградский, тоже с мокро блестящими после душа волосами, сидел в соседнем кресле и, понятно, испытывал то же. Потому и разговор в первые полчаса после матча был бессмысленный, отрывочный — Вышнеградский сообщил о том, что Трапезников почти догнал его в серии (десять на девять побед), похвалил его драйв и сервис — хотя какой, к чёрту, там сервис: последние два сета оба лупили в белый свет, как в копеечку, поблагодарил за судейство подошедшего к столику Чжуань шифу (тот с достоинством поклонился), в очередной раз сообщил Трапезникову, что на такой жаре играть опасно — недалеко до апоплексии, — и, конечно, подозвав боя, потребовал виски. Можно было бы сказать, что виски с содовой после матча было таким же шанхайлэндерским ритуалом, как всё остальное здесь, но это было бы неправдой: виски с содовой шанхайлэндеры, да и другие иностранцы, жившие в Китае, пили по любому случаю, начиная с полудня, с тиффина, как здесь называли ланч, и заканчивая поздней ночью — вёдрами глушили ещё в Пекине, где Трапезников ранее служил, так же пили и в Тяньцзине, и в Циндао, и в Гонконге, и, следуя примеру англичан, конечно, пили именно виски: разве что с началом войны в русских учреждениях шотландское виски было вытеснено американским бурбоном. — Jimmy! — Вышнеградский щёлкнул пальцами, подзывая боя — подростка в долгополой китайской юбке и рубашке на завязках, с гладко выбритой макушкой и тонкой чёрной косичкой на затылке. — Catchee us whiskey-soda and some chow-chow. Some xiaocai, — добавил он «закуски» по-китайски. Остальная фраза была произнесена на пиджин-инглише — исковерканном до неузнаваемости английском, на котором местные общались с шанхайлэндерами. — Can do, mistel, — поклонился бой. — What fashion xiaocai? — No savvy what fashion, — поморщился Вышнеградский. — What fashion you hab got? — A-Niu shop this road side today time hab got walkee fishee, also blong Taihu… clabbee, — бой задумался над последним словом, вспоминая. — Maskee fishee, crab number one, — кивнул Вышнеградский. — Chop-chop!
Перевод с пиджин-инглиша:
— Принеси нам виски-соду и что-нибудь поесть. Какую-нибудь закуску.
— Будет исполнено, мистер. Какую закуску?
— Не знаю, какую. А какая есть?
— В лавке/едальне А-Ню на этой улице сегодня есть свежая рыба, а также крабы из [озера] Тайху.
— К чёрту рыбу, крабы подойдут. Живей!
На Шанхай уже томно спускались парные субтропические сумерки, а Вышнеградский с Трапезниковым всё сидели во дворике у прибранного уже корта за столиком с ребристым сифоном содовой, полупустой уже бутылкой американского бурбона и парой круглых коробов с ребристым, выложенным бумагой дном, на котором, поджав лапки, лежали абрикосовые варёные на пару крабы. Первоначальное блаженное изнеможение уже отступало, сознание прояснялось, в голове тихо звенело от выпитого: в такой-то обстановке в Шанхае обычно о важных делах и разговаривали. Можно сколько угодно быть белым человеком, сколько угодно презирать китайцев — грязных, шумных, высокомерных, — но Китай тебя прогибает под себя и заставляет вести себя, как местные: вот и шанхайлэндеры давно приняли как должное, что важные вопросы обсуждаются за едой, после долгого, неторопливого и церемонного разговора о всяких мелочах — о жаре и влажности, о нерасторопности местных слуг, о перспективе строительства Сеттльментом нового стального моста через Сучжоу-крик взамен существующего деревянного, о ценах на недвижимость в Концессии и планах французских властей по обустройству этого района на парижский лад — с платанами и улицами, сходящихся лучами к одной площади, о конкуренции традиционного индийского опиума с местным китайским, который в последние годы начали растить в Юньнани и Сычуани (если там растёт хороший чай, почему бы не расти опиуму), и только с этой темы перешли на ту, что была по-настоящему важна и к которой переходить Вышнеградскому отчаянно не хотелось — на войну, на прибытие в Шанхай разбитых в Цусиме кораблей. — С этими нашими доморощенными ушаковыми одна головная боль, — с хрустом отламывая крабу ножку, сказал Вышнеградский. — Ладно, вас разбили, это я могу понять. Ладно, вы решили не погибать геройски, а сдаться на милость англичанам* — это тоже ради бога. Но какого ж вы дьявола, уже сдавшись, даже за своими матросами уследить не можете? Я только сегодня узнал, представьте себе: помните этих, со «Свири», которых мы к Шэню определили? Да уж, конечно, Трапезников помнил: такую нелепую беготню по инстанциям нескоро забудешь. На буксирном пароходе «Свирь», одном из трёх кораблей, сбежавших из цусимской мясорубки в Шанхай, была не только команда, но и сборная солянка офицеров и нижних чинов с других, погибших кораблей — подбирали в море, чуть ли не две сотни выловили. Долгое время небольшая «Свирь» всех их вмещать не могла, и Трапезников ездил в католический район Цзыкавэй договариваться с образованным в прошлом году Шанхайским обществом Красного креста, чтобы разместили интернированных у себя. Всем там заведовал китаец Шэнь Дунхэ, — миллионщик-чаеторговец, бывший министр цинского двора и вместе с тем — бегло говорящий по-английски выпускник Кэмбриджа. Принять интернированных он был не против, но ситуация осложнялась тем, что в хаосе, вызванном прибытием кораблей, никто не озаботился подписать официальные бумаги, удостоверяющие интернирование, а без них Шэнь принимать моряков отказывался. Пришлось ехать к даотаю, китайскому губернатору, тащить с собой командира «Свири» прапорщика Розенфельда, который выглядел как контуженный и, кажется, вовсе не понимал, где находится и что происходит. Вообще-то и Трапезникову было нелегко понять, что он тут делает, занимаясь работой, которой по всем правилам должны заниматься консульские — но у консульских было своих дел невпроворот, а размещать интернированных у Шэня поручили ему, вот и приходилось делать за дипломатов их работу. Но вот подписали, пароход официально сдали, Трапезников отвёз Розенфельда обратно к пристани, вернулся в банк и уже собирался ехать домой, как тут из канцелярии даотая снова позвонили: японцы, оказывается, протестуют! Говорят — подписал только командир «Свири», он ответственен за свою команду, а там у него военные с других кораблей, пускай они тоже подписывают. Даотай полностью встал на сторону японцев; ничего не поделаешь, пришлось снова ехать к пристани, на которой табором расположились моряки с погибших кораблей — с «Осляби», с «Урала», с «Руси», с «Блестящего» — искать среди них офицеров, ехать снова к даотаю, снова подписывать интернирование. Наконец, подписали, — и на следующий день толпа русских пешком потянулась через весь город в Цзыкавэй, расположилась там в классах закрытого на лето католического колледжа. И вот, не прошло и двух недель, и что-то с ними снова стряслось. — В общем, сидели они там, — продолжал Вышнеградский, — отходили понемногу от всех этих ужасов. На работу какую-то их подрядили: ну, это я не знаю, в это не вникал. А вчера мне звонит их командир, прапорщик Розенфельд, и что вы думаете, он просит? Он просит у меня денег. Зачем бы Розенфельду понадобились деньги, спросите вы? А Розенфельду нужны деньги, представьте, на выкуп. Оказывается, этот идиот третьего дня не придумал ничего лучше, как устроить своим орлам выходной — отпустил их в увольнительную, посмотреть город, так сказать, приобщиться к прелестям нашей Жемчужины Востока. И куда, думаете вы, наши морские волки направились приобщаться? Ну куда, скажите, Виктор Константинович? Вопрос был, очевидно, риторический: куда ещё могли направиться матросы в увольнительной в Шанхае, если не на Фучжоу-роуд? — улицу в центре Шанхая, на которой в ряд стояли «цветочные дома», «singsong houses» и «маникюрные» — а, впрочем, как ни назови, суть одна: бордели-опиекурильни. Так Трапезников начальнику и ответил. — Ну разумеется, — печально кивнул Вышнеградский, откладывая косточку и вытирая пальцы о салфетку. — Либо туда, либо на Blood Alley. Blood Alley, «Кровавый переулок», или, по-китайски, Жуэчу-по, был ещё одним злачным местом Шанхая, особенно популярным среди матросов торговых судов. — Ну и что говорить? Всё как водится: вышло в увольнительную десять, вернулось девять. Какой-то… — Вышнеградский полез в карман, достал записную книжку, — рулевой Уринович со «Свири» пропал. Ну, казалось бы, пропал и пропал, какое наше дело? Нет, это не конец истории. Оказывается, вчера им туда в Красный крест анонимно приходит записка. Ну, Зелёная банда, вы их знаете: увезли человека, просят выкуп. Давайте, мол, две тысячи долларов… — Вышнеградский поднял палец, — по тысяче за каждого! Ага! Вы, наверное, сейчас недоумеваете — за какого каждого? Пропал-то один! И они, представьте себе, тоже недоумевают. Всех матросов, офицеров пересчитали по головам: все на месте, кроме одного. А в записке указано — двое. Кто второй — никто не понимает. И вот что самое любопытное — как теперь выкупать этого Уриновича, тоже никто не понимает. Ну положим, я договорюсь с консульством, чтобы они через Морское министерство нам потом возместили затраты на выкуп: деньги-то невеликие, не миллионы. Но и не маленькие! А тысячу не дашь: как Зелёным понять, которого из двух мы выкупаем? И кто второй вообще? А если выкупать сразу двоих, то нам вторую тысячу потом никогда никто не возместит. Виктор Константинович? Вы ведь имели дела с Зелёными? Сможете как-то с этим делом разобраться? Действительно, Трапезников имел уже дела с Зелёной бандой, с их предводителем Хуан Цзиньжуном, «рябым Хуаном» — имя в самый раз для какого-то проходимца в сомбреро, даром что и серебряные монеты, которые его ребята требовали за выкуп, были из Мексики. Эти местные десперадос, однако, больше промышляли не налётами на поезда и банки, а торговлей опиумом, крышеванием борделей и игорных домов и, конечно, захватом заложников под выкуп. Где сейчас мог находиться Уринович с неведомым товарищем по несчастью? Да понятно где — где-то в Шанхае, в одном из неприметных многоквартирных домов шикумэней в Концессии, в трущобах Пудуна на другой стороне Хуанпу, в лабиринте средневековых улиц старого китайского города — так или иначе, обычно подобные дела было без выкупа не решить. Но с чего начать? Можно пойти к Хуан Цзиньжуну — он глава китайского отделения французской полиции в Концессии, к нему можно обратиться напрямую. Впрочем, знает ли он об этом деле? Трапезников немного знал, как была устроена Зелёная банда, и понимал, что это скорей не единая шайка, а сеть мелких банд, объединённых общими ритуалами, по сложности не уступающими масонским, какими-то рангами, символами, амулетами, заклинаниями, прочей мистической китайщиной — и при этом голова этого дракона вполне могла не знать, что делает левая лапа. Был у Трапезникова, впрочем, и ещё один контакт с Зелёными — один паятнадцатилетний парнишка-информатор, сам в прошлом году предложивший свои услуги. Ду Юэшэн, так его звали: долговязый, тощий и лопоухий китаец, только пару лет назад перебравшийся из трущоб Пудуна с другого берега реки в Сеттльмент. Веса особенного в Зелёной банде он не имел, да и посвящения пока, насколько Трапезников знал, не проходил — но парнишкой он был бойким и кое-какие связи уже имел, тем более что и крутился он в основном у «цветочных домов» на Фучжоу-роуд. Ну и, конечно, можно было отправиться сперва в Цзыкавэй, разузнать всё, как следует, у самого Розенфельда и сотрудников Красного креста. Может быть, сперва стоит выяснить что-то о самом Уриновиче? Да и записка должна быть там.
-
Пост, конечно, исполнен шанхайского колорита во всем. А еще прекрасно узнавать в проходных неписях исторических лиц.
-
Черт, благостно у тебя про жару получается. Прямо такая очень живая жара. А сейчас еще и чрезвычайно злободневно! =)
Ну и вообще, этот модуль отличается просто какими-то дико атмосферными описаниями. Что вот средней России с ярмарками, пароходами и всем вот этим прочим, что Шанхая с теннисом, жарой и пиджин-инглшем.
|
-
Какой же все-таки колорит виден: и в описаниях города, и в персонажах!
-
Блин, в Янека прямо влюбилась)
|
Через два дня после выступления на площади Габриэле д’Аннуцио в Омске
Ночь
Между станциями Златоуст и Сим
Бронепоезд «Туссен-Лувертюр»Вагон равномерно подрагивал; под его колёсами стучали стыки рельсов. На столике рядом с пустым чайным стаканом лежал свёрток. Следуя приглашающему жесту каудильо, Прилепин развернул его. Внутри оказался костюм: пиджак невообразимого сочетания цветов, такие же к нему брюки и огненно-красная косоворотка. — Ваша новая форма, — коротко сказал Лимонов. — Не слишком цветасто? — спросил Прилепин. — В самый раз. Вам воевать не на передовой, а в тылу лучше, когда ваших молодцов все видят издалека. — Значит, Эскадроны смерти… — будто смакуя, произнёс Прилепин. — Именно так. Как только соберёшь первую группу, сразу начинай. Церкви — долой. Музеи — под снос. О мечетях не забывай, о тюрьмах, ментовках. С буржуями сам знаешь, что делать. Генералиссимус перевёл взгляд на сидящего за столом Пелевина. — Виктор, ты узнавал, твоя дивизия готова? — Готова, — ответил Пелевин. — Ребята выгружаются в Симе. К десяти утра выступаем на позиции. — Не затягивай. Не позднее завтрашнего утра вы должны идти в наступление с нами. — Я бы и не затягивал, но ты почему-то взял меня с собой сюда, хотя я давно мог бы быть с моими казаками. — Ты нужен был мне здесь. Я хотел поговорить с тобой о Гельевиче. — Что о нём? — настороженно спросил Пелевин. — Ты видел, с какой радостью он ухватился за поручение ехать с хлебом к Баркашову? — Гельевич куда угодно готов поехать, лишь бы из Омска, — усмехнулся Пелевин. — Егор мне рассказывал, что он не любит этот город, боится камышовых людей и отравленного ветра. — Да, но он решил отправиться на восток, а не запад, как мы с тобой, — продолжил гнуть своё Лимонов. — Понимаешь, о чём я? — Гельевич всегда заигрывал с обществом «Память», — поддакнул Прилепин. — Вот именно. А это его желание поставить Переслегина вместе с Курёхиным заниматься Культурной революцией? Ведь ясно же, что этим должен заниматься кто-то один, иначе каждый будет тянуть одеяло на себя. И опять вместо свободного взлёта мысли получим жалкое мещанское болото, в котором утонули и Маяковский, и Губанов, и Ерофеев, да и Леннон с Вишезом, если вдуматься. А если Дугин решит переметнуться к Баркашову, что тогда? Что тогда будет с нашей революцией? Но, впрочем, мы ещё вернёмся к этой теме. А сейчас — Виктор, Захар, не желаете ли составить мне компанию? — Желаю, — сказал Прилепин. — Тогда вперёд, — Лимонов поднялся из-за стола. Выйдя из штабного вагона, они, сопровождаемые негром-телохранителем Лимонова, прошли в хвост поезда. Несколько вагонов, по которым они прошли, были тёмными и казались совершенно пустыми. Свет нигде не горел; из-за дверей не долетало ни единого звука. Один из вагонов кончался не обычным тамбуром, а торцевой дверью, за окном которой неслась назад чёрная зимняя ночь. Негр после короткой возни с замком открыл её; в коридор ворвался острый грохот колёс. За дверью оказалось небольшое ограждённое пространство под навесом, наподобие задней площадки трамвая, а дальше темнела тяжёлая туша следующего вагона — никакого перехода туда не было. Лимонов облокотился о перила, глубоко затянулся своей сигарой и ветер сорвал с неё несколько ярко-малиновых искр. — Там дальше вагоны тельмановской дивизии, — сказал Прилепин. — Их у нас называют шавками. Слышите? Действительно, сквозь грохот вагонных колёс пробивалось довольно красивое и стройное пение. Прислушавшись, можно было разобрать слова: Эх, Тесак мой, Тесачок,
Люблю тебя, как дурочка!
И своим топориком
Сделай мне ребёночка!— Странно, — сказал Пелевин. — Почему они поют, что они любят Тесака, если они шавки? И почему они хотят от него ребёночка? — Они называют себя дурочками, вот и хотят ребёнка от нациста, — сказал Прилепин. — А, ну разумеется, — сказал Пелевин. — Они дурочки, вот и хотят ребёнка от Тесака. То есть на самом деле они шавки, но поют про то, что они дурочки. Чёрт знает что. — У тебя живое воображение, Виктор, — сказал Прилепин. — На самом деле я думаю о другом. — О чём же? — О том, что человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречён вечно тащить за собой из прошлого цепь тёмных, странных, неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избегнуть этой судьбы. — Ну отчего же, — сказал Лимонов. — Способ есть. — И ты его знаешь? — Конечно. — Может быть, поделишься? — Охотно, — Лимонов щёлкнул пальцами. Негр, казалось, только и ждал этого сигнала. Поставив фонарь на пол, он ловко поднырнул под перила, склонился над неразличимыми в темноте сочленениями вагонного стыка и принялся быстро перебирать руками. Что-то негромко лязгнуло, и негр с таким же проворством вернулся на площадку. Тёмная стена вагона напротив стала медленно отдаляться. Пелевин поднял глаза на Лимонова. Он спокойно выдержал этот взгляд. — Становится холодно, — сказал Лимонов, словно ничего не произошло. — Вернёмся к столу. — Я вас догоню, — ответил Пелевин.
|
Msg: 2 of 2 From: Mithgol the Webmaster To: All Subj: Re: КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОССИЮ -------------------------------------------- Всем -------------------------------------------
Новости из Омска. Смотрел, думал, заливисто смеялся. Осторожно, по ссылке 15 Мб. [ссылка на ftp. По ссылке видео 144р, ebanko.wmv] Кадр: диктор в студии провинциального телеканала «Омск-ТВ». — Товарищи! Мы прерываем показ художественного фильма «Сало, или 120 дней Содома» ради срочного прямого включения с площади Габриэле д’Аннуцио (бывший Театральный сквер), где в эти минуты с программной речью выступает каудильо Евразийской Социалистической Республики генералиссимус Эдуард Вениаминович Лимонов. Кадр: заполненная народом площадь, на фоне Оперного театра — фанерная, задрапированная кумачом трибуна. За трибуной — ряд безыскусных гипсовых статуй, воздвигнутых в последние недели по плану монументальной пропаганды и предназначенные к отправке в разные районы Омска и России. Крупный план статуй, одна за другой: Сергей Нечаев, Мишель Фуко, Эрнесто Че Гевара, Юкио Мисима, Андреас Баадер, Иван Каляев, Леонид Губанов, Иуда Искариот, Алексей Черехов-Анчар, Виктория Аралович-Владимирова. Из динамиков по сторонам трибуны играет «Родина» Гражданской Обороны. Под усиливающийся приветственный шум толпы на трибуну поднимается Эдуард Лимонов в сером военном френче без знаков отличия, с нарукавной повязкой с серпом и молотом в круге. На седой, стриженной под андеркат голове Вождя — очки в массивной пластиковой оправе и красная повязка на лбу. В середине повязки — тот же символ НБП. Шум стихает, музыка прекращается. Повелительно поднимая руку, Лимонов начинает говорить надтреснутым голосом: — Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! В эту годину испытаний я выступаю перед вами, чтобы во всеуслышанье объявить о начале великого Танца Русской Свободы, в вихре которого закружится вся Россия и весь мир! Вы ждали от нас танца с саблями? Вы получите танец с лимонками! Вы ждали танца с драконами? Вы получите танец с лимонами! Здесь, в сибирских степях, звучат первые тонкие серебряные тремоло музыки, в громовом крещендо которой потонет Вселенная, да туда ей и дорога, старой блядине! Кавалеры приглашают дам, и я сделал свой выбор! — Лимонов простирает руку с указательным пальцем куда-то в направлении Ульяновска. — Новодворская, я иду на тебя! Беги, беги прочь, Валерия Ильинична, Орлеанская блудница смутного времени; ты слышишь уже, как неостановимо из-за Уральского хребта надвигается на тебя наш хтонический гопак! Ты перепутала абсолютную свободу с калькулятором гнид; ты променяла первопринцип братского общежития на место в капиталистической системе. Ты забыла, что опыт соборной любви угнетённые народы земного шара воспринимают через фигуру Владимира Ильича Ленина, чей родной город ты нагло попираешь своею тушею. Не по тебе твоё отчество, не по тебе твоё отечество, не по тебе этот город! Purga urbem, Новодворская, purga urbem! Оберни своё лицо к небесам! Видишь? — Лимонов патетично простирает руку к закатному небу цвета мяса, — видишь ли ты этих птиц? Это птицы перемен, и они уже надрывно кричат над шестой частью суши, предвкушая океаны падали, потому что слышат, как катятся на запад наши железные полки! Беги, Лера, беги! Приложи своё ухо к земле! Слышишь? Это стонет мать-земля, не в силах более выносить вес твоего чудовищного тела, отягощённого нечистой совестью и гормональными проблемами. О, окончи свою жизнь, Новодворская! Хромой могильщик отроет тебе могилу; глухонемые плакальщицы с «Эха Москвы» пропоют панихиду по тебе, окостенелые старухи из «Мемориала» уронят саван с твоим телом в яму, а дальше — лишь рыжая ржа и звёздный рой над головой, лишь стылый красный рассвет над ледяным простором, в котором бродит мужик с топором, давно позабывший твоё имя. Верёвка, пуля, ледяная тьма и музыка, сводящая с ума, — вот твой удел, вот твой венец, вот твой финал. А ты, кошачье ухо бумажный тигр нефритовый дилдак? Куда тебе тягаться с Русским народом? Ни души у тебя, ни музыки, ни танцев! Весь мир слушает Чайковского, Достоевского, Кобейна, Моррисона! Курт Кобейн — русский, родом с Москвы! Джим Моррисон — русский, родом с Москвы! Славой Жижек — русский, родом с Москвы, и через подаренные им очки идеологии я вижу твоё гнилое нутро, твоё изнасилование Маркса маоистским пьяным жестоким ботинком, твоего разварного Гегеля быстрого приготовления! Я обращаюсь к нашему восточному соседу, к господину Баркашову, — защищай Русь, если дорог тебе твой дом и твой народ! Если ты не убил за день хотя бы одного китайца, твой день пропал зря. Если шнурки на твоих берцах ещё не белые, ты не понял угрозы. Если ты думаешь, что с китайцами возможно меситься по файрплэй, ты делаешь ошибку. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно — убитых тобой косоглазых! Убей китайца и не беспокойся о своём желудке — мы тебе поможем. Недоедим, но вывезем! Нам скажут, что жителям Урала и Западной Сибири самим не хватает еды, что еда вывозится поездами на восток. Наш ответ на это: нет еды — жри буржуя! Еда — лишь социальный конструкт; только поэзия материальна! И, как писал великий русский поэт Велимир Хлебников, «Когда умирают кони — дышат; когда умирают травы — вянут; когда умирают солнца — они гаснут; когда убивают буржуя — танцуют все!» И мы будем танцевать! Танцевать, танцевать, танцевать! Мы будем танцевать в уральской тайге, мы будем танцевать на волжских просторах, мы будем танцевать всё яростней! Мы будем танцевать на пляжах, мы будем танцевать в полях и холмах, мы будем танцевать на улицах и площадях; мы попляшем на развалинах! Весёлые ребята, полные огненного смеха, — мы разрушим всё, все здания, все университеты и музеи и установим на их пепелище табличку — «Здесь танцуют!» Мы должны позволить музыке революции двигать нашими ступнями! Ритм времени — это танцор! Мы начинаем наш гильотинный гавот, наш стальной уанстеп, наш гальванический твист среди озёр сукровицы, сквозь заросли злаков зла, и не одни мы пойдём по этой неторенной тропе! Нет! Вместе с нами рука об руку будут шагать наши товарищи с Волги и Дона, неизобретательно выбравшие называться РСФСР. Попрошу товарищей отнестись снисходительно к товарищу Андреевой и её сторонникам: да, они могут быть скучноваты и старомодны, с бедной фантазией и полным непониманием тенденций марксизма в эпоху постмодерна, но мы пойдём с ними рука об руку! Вы слышали уже о предложении Андреевой создать с нами Единый Антиимпериалистический Фронт; мы с радостью принимаем это предложение! С одной поправкой — наш союз будет называться «Добровольный Альянс "Советско-Модернистский Единый Революционный Штаб"»! Ура, товарищи! По толпе проносится громовое «УРА!», нацболы принимаются распевать «Эрику» вперемешку с «А Ленин такой молодой» и «Всё идёт по плану». Некоторое время Лимонов не может продолжить. Но маловеры спросят меня: ради чего этот кровавый танец? Зачем, мистер Лимонов, зачем? Зачем вы встаёте? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию, или вам страшно погибать? Нет, нам не страшно погибать: смерти мы смело говорим «ДА!». Может быть, нам нужна победа? Нет, она нам не нужна — победу мы одержим в любом случае! Может быть, вы сражаетесь в интересах Революции? Нет! Наша война — это больше, чем Революция. Наша война — это перфоманс! И поэтому, в этот тяжёлый для нашего народа час я обращаюсь к вам, братья и сёстры. Хотите ли вы участвовать в нашем адском балагане, идти за мной, канатным плясуном, по оголённому проводу через оголтелые пропасти? Толпа ревёт: ДАААА! Я спрашиваю вас во второй раз: хотите ли вы завывающего вальса, однообразней и безумней, чем всё, что вы когда-либо видели? Толпа: ДАААА! Я спрашиваю вас в третий раз: хотите ли вы кровавой кадрили, бессмысленней и беспощадней, чем мы можем её сегодня представить? Толпа: ДААААААА! Лимонов: СМЕРТЬ! Толпа: ДАААААА! Лимонов: СМЕРТЬ! Толпа: ДАААААА! Лимонов: СМЕРТЬ! Беснования продолжаются, в толпе начинаются свальный грех, драки, распитие алкоголя и спонтанные чтения стихов Эзры Паунда. Камера отключается. Картинка на экране сменяется титром: ПЕРЕДАЁМ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН ЕВРАЗИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Тибетское танго» (Нас вырастил Будда на благо народа)Слова: Сиддхартха Гаутама
Музыка: Сергей Курёхин
Исполняет рок-группа «Аквариум»ссылка
-
Королева Председательница в восхищении, товарищ!
-
Вот он, истинный патриот Родины! Славься, Дуче Лимонов!
-
-
Это прекрасно.
Я смотрю на это уже пять часов.
-
Беги, беги прочь, Валерия Ильинична, Орлеанская блудница смутного времени
Исполняет рок-группа «Аквариум»
* утирает скупую слезу *
-
-
Какой восхитительный треш
-
поставил бы два плюса, была б такая возможность. Уровень отсылок зашкаливает
Даже мурашки в конце пробрали
-
-
-
-
Почему-то не поставился плюс в прошлый раз (Дмчик дерпил). Исправляю.
|
2:30 10.08.1918
Вага, близ Усть-Печенги
Палуба парохода «Шенкурск»
— …Когда вдоль корабля, качаясь, вьётся пена, и небо меж снастей чернеет в вышине, люблю твой бледный лик, печальная Селена, твой безнадёжный взор, сопутствующий мне, — ни к кому не обращаясь, запрокинув голову, глядя в беспредельную звёздную пустоту, процитировал Глебушка, лёжа в шезлонге, зябко завернувшись в пальто, накинув поверх плед. Ночь была холодная, ясная: к вечеру распогодилось, закат был совсем долгий, ленивый, красный, — но отплывали уже поздним вечером, и вот сейчас над головой жутко висела чёрная пропасть звёздного неба с тоненьким серпом нарождающегося месяца, с войлочными клочьями ползущих в ветреной вышине бледных облаков. Тянулась по берегу чёрная сплошная гребёнка леса, будто стягивающая реку в ущелье, проплывали мимо серые отмели, пустые плёсы, мелко трепетал красный флаг на корме, валил из трубы парохода серый дым, смолисто и тяжело чернела вода под бортом, дыбились снежно-белые буруны под неторопливо вращающимся колесом, и всё тонуло во тьме: шли с погашенными огнями. На тёмной палубе и настроение у всех было какое-то призрачное. Серыми тенями проходили по палубе туда-сюда бойцы, матросы, хлопали дверьми, краснели в темноте огоньки папирос, и потусторонне, как крик ночной птицы, временами с носа доносился неживой, жестяной какой-то голос матроса, шестом промеряющего глубину: «Три ровно!», «Два шестнадцать!» РубкаВ тёмной рубке стояли капитан с помощниками, вглядываясь в синевеющую тьму. — Налево отмахни, — сонным надтреснутым голосом обратился капитан к штурвальному. — Обмелело сильно, Яков Иванович, — беспокойно обернулся к капитану помощник. — Сам вижу, — откликнулся тот. — Ещё, ещё клади! Малый ход, — нагнулся он к говорной трубе. — К Нюнежской подходим, тут перекаты. Как бы брюхом-то не сесть… — Не сядем, — уверенно заявил капитан. — Тут и в седьмом году меньше двух не было, а тогда межень не чета нынешнему был.
17:45
Яков Иванович Матисон даже возмутился, когда Романов подошёл к нему с вопросом, где можно найти лоцмана, способного довести пароход до Усть-Паденьги. Кажется, это было первое проявление эмоций, которое Романов увидал на морщинистом, до черноты загорелом лице этого низенького и кривоватого старичка в мятой фуражке с ободранными галунами, в потёртом, лоснящимся мундире.
— Вы мне, товарищ красноармеец, не доверяете? — по-латышски растягивая гласные, спросил Матисон. — Три десятка лет по Двине да по Ваге ездил, разве я плёс не знаю?
Романов предупредил, что выходить будут ночью, без огней.
— Я по Ваге хоть ночью, хоть с завязанными глазами пароход проведу, — с достоинством ответил Матисон. — Я вас своё дело делать не учу, вы меня, уж будьте покорны, тоже не учите.
Лязгнула тяжёлая железная дверь в машинное отделение, по крутой лестнице из красного полумрака на палубу поднялся ражий кочегар в серой робе с деревянным лотком за плечами. Он тяжело прогрохал на кормовую площадку, по периметру которой вдоль фальшборта были выложены поленницы дров. На самой площадке, на скамейках и на полу, вразнобой сидели красноармейцы: кто курил самокрутки и папиросы, задумчиво опираясь локтями о поленья, заглядывая поверх деревянной стены в ночной ветреный мрак, кто, расположившись в кружок у слабо горящей керосинки, перекидывался в карты, кто безразлично жевал хлеб с селёдкой, завернувшись в шинели, нахохлившись, как курицы. У поленниц в беспорядке стояли винтовки. — Ну чё зырите, подсобите! Поленья положите, — обратился к красноармейцам кочегар, поворачиваясь к бойцам пустым лотком. — Больно надо! — нагло откликнулся Шатунов. — У тебя своё дело, у нас своё. — Руки отвалятся, штоль?! — настаивал кочегар. — Чай, не в первом классе едешь, за билеты не платил! — Да давай, браток, подсоблю… — с кряхтеньем поднялся с истёртого коврика, лежащего на полу, Фома Елецкий, принялся накладывать поленья в лоток на спине кочегара. — Поживей-то можешь печку свою топить? — положив последнее полено на лоток присевшего под тяжестью ноши кочегара, спросил Фома. — А то тащимся, что твоя черепаха, колесо вон еле крутится. — Не мы решаем, — коротко ответил кочегар. — Подымить-то дайте, братцы. Вон у вас курева сколько. — Э, ты уж размахнулся, — оборвали его. — Самим мало. Топай, топай. — Куда тебе дымить! — по-гусиному вытянув шею, выкрикнул с дальнего конца площадки, молодой Пашка Кочан в барашковой шапке пирожком. — Ты и так уж весь копчёный, как колбаса! Здесь, на задней площадке, сидели одиннадцать отобранных сегодня бойцов под началом Степана Чмарова.
19:00
— Пластунов отобрать? — задумался Степан, водянисто глядя на командира. — Посчёт пластунов не знаю, но бывалых-то найдём, чего б не найти… А Филимошку взять в отряд можно?
Романов ответил, что у Филимона есть своё дело — командовать взводом. Степан поскучнел, но перечить не стал.
Через час, уже в вечерних сумерках, Степан стоял на кормовой площадке парохода с десятью бойцами, — теми, кого Степан счёл «бывалыми». Здесь были и Иван Пырьин с Тимошкой Петровым, вместе воевавшие в Галиции и Карпатах, и вечно мёрзнущий на местном холоде Пашка Кочан с турецкого фронта, и прихрамывающий немолодой устюжанин Фома Елецкий, получивший ранение ещё под Гумбиненом. С Северного фронта было аж пятеро — холмогорец Трифонов, архангелогородцы Новиков и Логинов, а долговязый и лопоухий Шатунов успел повоевать ещё и в Москве с юнкерами в октябре прошлого года. Но особо Степан отметил одного — рыжего, плотного, с диковатым отталкивающим, будто вогнутым внутрь себя лицом, вотяка Костея Кельмакова: по-русски, знал Романов, этот говорил неважно, но Чмаров заверил командира, что Кельмаков не подведёт.
— У него два Георгия. Под Ригой к немецким окопам лазил, — уважительно показывая на вотяка, сказал Чмаров и понизил голос: — Только он, это самое, деревяшкам молится.
Кельмаков без выражения таращился на командира из строя, будто сам был деревянный. Глядя на него, Романов понимал — Кельмаков действительно не подведёт; такому зарезать кого-то — как спичку потушить: видывал, видывал Романов подобных солдат на фронте.
— Костей! А, Костей! — окликали Кельмакова бойцы, скучавшие на палубе. — Ты чего там сидишь один? — Один, да, — хмуро отзывался Кельмаков, сидящий на коленях у поленницы, в стороне ото всех. — Что нада? — Да он опять молиться начал, братцы! — со смехом заявил Пашка Кочан. — Уйди, да, — огрызнулся Кельмаков. — Не твоя дела. Из-за сгорбленной шинельной спины Кельмакова никто не видел, что перед ним, прислонённая к поленнице, стоит струганая деревянная фигурка — что-то вроде куклы с грубо вытесанной окружностью головы, со схематично намеченными ножом руками и лицом в несколько засечек: глаза, нос, рот. Бойцы не решились продолжать дразнить Кельмакова — все знали, что это может выйти боком, — и сейчас он, сидя на коленях перед куклой, шёпотом на родном языке обращался к ней. «Ты уж мне помоги хорошенько, Чукмуня, — говорил он кукле, — не бросай меня, и я тебя тогда кровью накормлю. Я тебя из здешнего дерева вырезал, ты эти места знаешь, значит, должен помочь. А если не поможешь, берегись, я тебя в костёр кину, а прежде ножом порежу. Думаешь, не сделаю? Сделаю. Я в Курляндии тебя кровью поил-поил, и лошадиную кровь пить давал, и немецкую кровь пить давал, и латышскую кровь пить давал, и собачью кровь пить давал, и русскую кровь пить давал, а потом ты мне не помог, под пулемёт подставил, и я до ночи в воронке в грязи лежал, голову высунуть не мог. Так замёрз, так промок, такой злой был! Я, как вернулся, помнишь, что с тобой сделал? Кирпичом избил, ножиком голову отпилил, потом под паровоз сунул, а что осталось, в печку сунул! Так что ты, Чукмуня, мне помоги, а то я тебе вторую смерть придумаю». Салон первого класса— Романов всё делает правильно, — нервно говорил, вышагивая по полутёмному салону Иван Боговой. — Ударить по Ракитину, разогнать весь его сброд! — предисполкома решительно ударил кулаком о ладонь. В салоне висел удушливый, накуренный полумрак: горела только пара ламп в настенных плафонах — верхний свет зажигать было запрещено даже при занавешенных окнах. На столе стоял самовар, перевёрнутая фуражка с горкой табака, тарелки с хлебом, объедками от ужина — костлявые хвосты трески, недоеденная картошка. За столом в живописных позах — кто откинувшись на спинку стула, кто локтями на столе, кто полусонный на диванчике, — расположился весь уездный шенкурский исполком.
20:00
— Вы уезжаете? Вы уезжаете? — Иван Боговой сперва не поверил, когда Романов ему об этом сказал. — В каком смысле вы уезжаете, позвольте спросить?
Романов принялся снова терпеливо объяснять Боговому, что едут они только до Усть-Паденьги, только на ночь, завтра днём обязательно вернутся, чтобы защищать город. Боговой об этом и слышать не пожелал.
— Ты, Андрей, хотя бы понимаешь… ты хотя бы малейшее представление имеешь о том, что с нами тут может быть, если мы останемся без вашей защиты? А если ракитинцы уже в лесу у города? А если у них тут подполье… впрочем, какое «если», мы все прекрасно знаем, что у них тут подполье! Вы завтра вернётесь, даже если предположить, что вы вернётесь, — а мы тут уже все по столбам развешенные! Не-ет, нет, Андрей, так не пойдёт! Мы поедем с вами, и не только я с Василием! Мы все, весь исполком, едем с вами! Только так! И что ты, думаешь, я тебе помочь там не смогу? Я, между прочим… я, между прочим, тоже воевал, и, кстати, не в каком-то там полку…
Романов прервал его излияния, согласившись: если ему так угодно, пускай едут с ними всем исполкомом*. Но он и не ожидал увидеть, что к пристани исполкомовцы начнут подтягиваться с вещами — будто собирались уезжать не на одну ночь, а на всю жизнь: статистик Щипунов тащил с собой кожаный саквояж в одной руке и тряпичный узел в правой, агроном Курицын припёрся с распухшим, перевязанным шпагатом, чемоданом, но хуже того — с женой и двумя голосящими детьми; только Боговые отправились в путь налегке — только они и стенографистка Шатрова, которая, собственно говоря, ехать и не хотела — её, как и на съезд, чуть ли не силком приволок Иван Боговой.
— Катюха! — шипел он ей у сходней. — Катюха, тебе надо ехать! Ты думаешь, они будут разбираться, что ты нам не сочувствуешь? Ты уже замарана, дура! У тебя подпись под каждым протоколом!
— Я вообще не хотела участвовать в вашем дурацком съезде! — срываясь на плач, истерично выкрикнула она.
— Не хотела, а пришлось! Давай, давай, вперёд! — подталкивал он её к сходням.
— Это какой-то бред, это какой-то кошмар, из которого я не могу проснуться! — уже открыто плакала Шатрова. — Васю вы арестовали, стенограммы эти дурацкие, пароход какой-то, зачем, зачем это всё? Зачем нужно ехать?
— Потому что я так сказал! — теряя терпение, орал на неё Боговой. — На борт, живо!
— Не поеду! Не поеду! — заголосила Шатрова, упираясь, как телёнок, которого тащат на верёвке. Боговой, то матерясь, то уговаривая, тащил её за руку по сходням. Бойцы, как раз в это время снимавшие пулемётный пост на дебаркадере, со смешками наблюдали за этой нелепой сценой.
— А что потом? — бесцветным голосом спросила Шатрова у выхаживающего по салону Ивана Богового. — А что потом? — переспросил тот, остановившись. — А потом, Катенька, мы едем назад. — Какое назад, Иван Васильевич… — с горечью протянул Щипунов, подняв голову с ладоней. — Драпать, драпать нам надо до самого Вельска… — Чтоб я от вас! Чтобы я от вас таких слов не слышал, слышите! — накинулся на него Боговой, нависая над ним, грозя пальцем. — Что вы нюни распустили? Я вас в чувство всех приведу, слышите! Вы что же, думаете, мы Ракитина не одолеем? Да я сам в первых рядах его брать пойду! — Идите, идите… — тихо согласился Щипунов. — И пойду! — взвизгнул Боговой, весь взвинченный. — Что ж вы, думаете, я винтовку в руках держать не умею? Умею, и может, получше прочих умею! Я в лейб-гвардии Преображенском полку служил, первая рота, первый батальон… хотя не то чтобы здесь есть чем гордиться, — тут же осмотрительно добавил он. — Иван Васильевич, вы ротным писарем служили, — устало обернулся из-за дальнего конца стола агроном Курицын. — Уж во всяком случае, я не меньше вашего войну видел! — Да я-то её вообще не видел, — пожал плечами Курицын. — Вот и молчите тогда! Каюты третьего классаВ каюте было темно, душно, прокуренно и загажено, но вместе с тем уютно, как бывает уютно ехать куда-то в большой дружной компании: двое бойцов лежали на верхних полках, свесив головы, на нижних сидело шестеро, ещё один стоял у двери. Мерно ворочались железные поршни машин за стенкой, ровно шумело колесо, плескалась совсем близко от круглого иллюминатора чёрная маслянистая вода. — Ось це я и кажу, — задушевно продолжал Падалка, сидевший в окружении бойцов. — Навищо нам цей Шенкурск? Якщо вин мисцевим потрибен, так нехай жеруть там вони свою смолу, нам яка з того бида? Хиба революции з того корысть, що мы там все поляжемо, як интервенты прийдуть? — Так-то оно так, Андрюха, да кто ж нас спрашивает? — подал голос один из бойцов. — А, то-то и воно! Якщо ты будешь як та скотына без голосу, хиба ж тебе хто запытае? Ось поки мы на пивдень плывемо, то нехай. То нас влаштуе. А якщо Романов назад повертаты захоче, тут мы и митинг зберемо. Скажемо ёму: товарищу Романов, нахабныты не потрибно… — Что такое нахабнить? — спросил боец с верхней полки. — Нахлеть, — обернулся Падалка. — Нахлеть, товарищ Романов, не надо. Мы свий обовязок перед революциею выконувати готовы, але вмыраты ни за понюшку тютюну — ни… — А что ж, — заявил другой боец. — Что нам, Романовых скидывать впервой? Одного Романова скинули, скинем и второго. — Ось я и кажу… — повторил Падалка. Стоявший за дверью Заноза хмыкнул, отлепился от стенки и вразвалочку пошёл дальше по коридору, останавливаясь у каждой двери в каюты, прислушиваясь. За другими дверями было тихо: бойцы в основном спали. Заноза прошёл до узкой крутой лестницы в трюм, загрохал по ней сапогами, придерживаясь за блестящие поручни. Трюм— Как же тебя, Лаврушка, угораздило-то? — заплетаясь в словах, спрашивал Василий Боговой через дверь. — Бес попутал… — глухо донеслось из-за двери. — Что ж за бес такой? — спросил Боговой. — Известно, какой бес. Денег ему захотелось! — послышался другой голос. — Это кто говорит? — Это Медведев. — Так помолчи, Медведев, — оборвал его Боговой. — С тобой мне всё давно ясно было, под чью дудку пляшешь. — А ты под чью?! — крикнул из-за двери третий голос. — Под немецкую? Под губную гармошку герра Ленина августина танцуешь? — А ты вообще заткнись, Васька! — голос Кузнецова Боговой узнал. — А ты меня не затыкай! — не унимался Кузнецов. — Мне терять нечего! — Вася, Вася, — послышался голос четвёртого узника, Павсюкова, — ты парашу забери, уж сделай одолженье. Нам тут дышать нечем. — Да, тёзка, заходи! — весело поддержал его Кузнецов. — Я тебя в эту парашу с головой окуну! Боговой ничего не ответил, а достал из-за пазухи шкалик с мутным самогоном, откупорил пробку, приложился, сморщился, привычно занюхал лацканом шинели. Шкалик уже был наполовину пуст: за время пути Василий Боговой уже успел порядочно наклюкаться и стоял на ногах сейчас нетвёрдо, придерживаясь за стенку, будто пароход качало. — Ты не слушай его, — вмешался Павсюков. — У него жар опять. Нога у него гноится, что ли… Бинты бы ему сменить. — Можно самогонкой прижечь, — тупо сказал Боговой. — У тебя никак есть? — Да вон у него уж язык заплетается, конечно, он уж в зюзю! — фыркнул Медведев. — Я как раз вам принёс, — сказал Боговой, рассматривая бутылку. — Ну, чтоб веселей было. — Веселей? — осёкшимся голосом спросил Павсюков. — Нас что, уже… того? — Да нет, кажется, — Боговой зачем-то оглянулся по сторонам: пустой полутёмный коридор, близкий грохот машины, мелкий тремор железных стен. — Я не знаю точно, но, кажется, нет. — А плывём куда? — спросил Павсюков. — Ну, это вроде как тайна военная, — засомневался Боговой. — Вася, ну кому мы здесь что расскажем? Что, в верхние волости плывём? — Ну да… — вздохнул Боговой. — В Усть-Паденьгу. — О! — раздался из-за двери скрипучий старческий голос Проурзина. — В Усть-Паденьгу, ишь как! А мож, сразу до Благовещенского меня добросите, а? С удобствами! — Проснулся, старый хрыч! — недовольно буркнул Павсюков. — А ты б культями меньше пинался, я б ещё спал и спал! Спишь — хоть рож ваших не видишь! — Вася… — жалобно позвал Викентьев, пока Павсюков неразборчиво переругивался с Проурзиным. — Ты б попросил за меня ваших-то… Бессонова этого, Занозу. — Не знаю, Лаврушка, не знаю, — печально сказал Боговой, боком привалившись к двери. — Дров ты наломал крепко всё-таки. — Да я ж искупить готов! Я сутками работать буду! Я ж телеграфист, много, что ли, в России телеграфистов, чтобы в расход пускать? А кто телеграммы слать будет? — Лавруш, я ничего не могу обещать… — покачал головой Боговой. — Водки вот дать могу. — Давай, давай водки! — послышался голос Медведева. — А вот тебе б, свинье, скипидару вместо водки налить! — грубо отозвался Боговой. — Ишь, свиньёй обзывается, какой грозный! А сам уж в сопли! — выкрикнул Проурзин. На него зашикали — заткнись уже, мол. Кажется, вздорный старик успел уже надоесть хуже горькой редьки и товарищам по несчастью. — Ладно… — протянул Боговой. — Я что сказать-то хочу. Вася! Вася, тебе хочу сказать. — Ну говори, гад, — подал голос Кузнецов. — Шатрова тут. — Что? — Кузнецов осёкся. — Катя тут, говорю. — Вы что, её тоже взяли? — А? Нет, нет. Её Ваня притащил на пароход. Говорил, опасно ей в городе. — Сука. Ну спасибо, что сказал, — процедил Кузнецов. — Я просто подумал, что тебе нужно знать. Она наверху сейчас, с исполкомом. — Спасибо хоть, не в клетке, как мы. А она знает, что я тут? — Да как не знать… — Слушай, тёзка. Ну ты будь человеком хоть раз, приведи её сюда. Попрощаться хоть… — Я попробую, — сказал Боговой. — Водку-то как, возьмёте? — Возьмём, возьмём, — подтвердил Павсюков. — Отпирай. Не боись, не бросимся. — Ну да, не броситесь, — засомневался Боговой. — Я тут один, а вас вон сколько. Пускай Медведев и Кузнецов поклянутся. — Да не бросимся, открывай! — сказал Медведев. — Куда нам бежать-то? — Не брошусь, не брошусь, — поддержал его Кузнецов. — Слово чести. — Ну ладно, — подумав, решил Боговой. — Вы от двери только отойдите, когда я открывать буду. — Куда нам отойти! — воскликнул Медведев. — Мы тут как селёдки в бочке, на головах друг у друга, нам дышать нечем! — Ладно, ладно, не орите, — успокоил их Боговой. — Я щёлочку открою и бутылку передам. — Открывай уже! — Да открывай, чего ты ссышь? — Чёрт, — вдруг глупо сказал Боговой, подёргав дверь. — А у меня ключа нет. Кузнецов гулко расхохотался, и вслед за ними один за другим надрывным хохотом разразились и другие узники: кто-то в припадке истерического смеха колотил по двери, кто-то раскашлялся, Проурзин раз за разом сквозь смех повторял «Ну ты, Васька, олух!». Что-то железно громыхнуло, упало, и тут же смех сменился руганью: — Вы парашу уронили, дурни! — Фу, прямо на меня всё! Ммм! — Собирай! Собирай теперь это всё! — Чем я буду собирать? — Руками собирай, да хоть жри, мне всё равно! — Как спать-то теперь? Весь пол загадили! — Фу, ну и вонь! И в этот момент к растерянно стоящему у двери Боговому подошёл спустившийся с лестницы Заноза. — Вы что тут делаете? — строго спросил он. — Да так, — Боговой принялся торопливо прятать бутылку за пазуху. — Я проведать пришёл. Заноза молча перевёл взгляд с бутылки на дверь, из-за которой всё так же доносилась ругань, на коричневую лужицу, вытекающую из-под двери по мелко трясущемуся железному полу. — Давай сюда, — Заноза протянул руку. — Что? — не понял Боговой. — Ну давай, давай, — Заноза требовательно пошевелил пальцами. — А, бутылку? — Боговой покорно протянул чекисту шкалик. — Предупреждали мы тебя вчера, — тяжело сказал Заноза, пряча шкалик в карман куртки. — Пошли теперь. — Куда? — пролепетал Боговой. — Туда, где синеют морские края, туда, где гуляют лишь ветер да я. Пошли, пошли. И чекист, ухватив пьяненького Богового за рукав, повёл его к лестнице из трюма, не обращая внимания на крики из-за двери: «Тряпку! Хоть тряпку нам дайте! Вася! Куда ты ушёл?» Каюта первого классаСалон был занят исполкомовцами, поэтому Романов, Бессонов и Гиацинтов сидели в каюте Романова. Каюта, даром что была первого класса, была тесновата — две койки по сторонам широкого выходящего на палубу окна, столик между ними, стенной шкаф для одежды, волжский пейзаж в привинченной рамке на стене да дверца в крошечную туалетную комнату. Было тихо: шум машины доносился до верхней палубы лишь далёким ровным гуденьем, дети агронома Курицына, которых поселили с матерью в соседнюю каюту, наконец, заснули, никто не задерживался и у окна на палубу — там сидел Глебушка, следя, чтобы никому не пришло в голову подслушивать. Гиацинтов, низко наклонившись над листом, старательно рисовал. — Вот это Высокая Гора, — показывал он на заштрихованные квадратики. — Это действительно там гора, ну как, холм. Не Кавказ, конечно. Вот тут Нижняя Гора, это тоже гора. Паденьга идёт между ними, вот так как-то. Тут мост. Вот всё, что между Нижней, Верхней и Усть-Паденьгой — это всё луга. А вокруг уже леса начинаются.  На обозначения укреплений внимания не обращайте: их ИРЛ уже американцы построили позднее. Масштаб такой, что между Усть-Паденьгой (той, что на берегу) и Высокой Горой примерно верста. — Школа, пристань, всё в селе. В Усть-Паденьге, то есть. Пароход там же стоял. Гиацинтов, казалось, говорил бы ещё и говорил, но тут в дверь деликатно постучали. Романов открыл. На пороге стоял Заноза, а рядом с ним — поддатый Василий Боговой. Заноза молча достал из кармана своей кожаной куртки полупустой шкалик и показал присутствующим, потом кивнул на Богового. Тот с виноватым видом глядел в пол.
-
— Иван Васильевич, вы ротным писарем служили, — устало обернулся из-за дальнего конца стола агроном Курицын.
-
За Анечкиного папу запоздалое
|
— Так, а куда мы сперва? — уже направившись прочь от Вики с Дедусенко, спросил у Ани Серж.
— Сперва к Теснанову, — ответила та.
Руководитель профсоюза транспортных рабочих Карл Иоганнович Теснанов жил в пригороде Архангельска Соломбале, туда нужно было добираться по мосту через Кузнечиху, и, должно быть, потому Аня решила, что именно к Теснанову надо отправиться в первую очередь: возможно, у заговорщиков хватит ума перекрыть мост, и Карла Иоганновича надо разбудить и привести в город как можно скорее; это если мост уже не перекрыт.
— Сейчас его будить-то… — хмуро заметил Серж. — Жена, небось, вой подымет.
— Ничего, — уже едва расслышала Вика голос Ани. — Он и так, говорил, по ночам не спит почти.
Вика действительно видела, что Карл Иоганнович не высыпается: сложно крепко спать по ночам, когда дома у тебя пятимесячный ребёнок. В отличие от большинства подпольщиков, Теснанов был семейный человек: жил с женой, с сыном-подростком Лёвой, а теперь вот и с младшеньким — но почему-то не Володей, а всего лишь Пашей.
Глядя на этого рыхловатого, одышливого, по-тюленьи выглядящего сорокалетнего портового крановщика с вислыми седеющими усами, пухлыми щеками — всегда плохо выбритыми, всегда с порезами, заклеенными кусочками газеты, — глядя на его мещанское жилище в Соломбале (занавески, слоники, вечернее пиво), зная, как быстро и крепко он поставил свой быт в Архангельске за два года, которые здесь прожил, сложно было заподозрить в Карле Иоганновиче большевика. Однако, он состоял в РСДРП ещё с 1904 года, организовывал стачки в родной Витебской губернии, потом в Латвии, и рижский Кровавый Четверг, 13 января 1905 года, видел своими глазами, сам убегал по льду Даугавы от солдатских пуль, а после и баронские поместья с «лесными братьями» сам жёг. Одним словом, Теснанов был воробьём стреляным — вероятно, самым опытным из архангелогородских подпольщиков.
В теоретических вопросах он, однако, заметно уступал Вике, и та видела, что это Теснанова раздражает. Нет, Карл Иоганнович не стал бы опускаться до каких-то мелких подлостей по отношению к ней, до какой-то жалкой провинциальной пародии на внутрифракционную свару, но Вика замечала: Карлу Иоганновичу неприятно, когда она — американская выскочка, малявка, которая и в России, и в Архангельске без году неделя, — принимается тут наводить свои порядки, подрывает его авторитет. Но что поделать, поправлять его приходилось: Теснанов был слабо подкован и имел отчётливый экономистский уклон, разоблачённый ещё Ильичом на Втором съезде: понимал стачки, понимал прибавки и требование обращаться к рабочим на «Вы», а вот красного террора и перманентной революции — не понимал и всё старался помириться с меньшевиками, а с Бечиным даже, кажется, приятельствовал. Потому-то, видела Вика, этот Теснанов, старый большевик, и оставался все эти годы если не пехотинцем, то сержантом партии, и ни на какой заграничный съезд его ни разу не направляли, и в прошлом году, и в этом во время Советской власти в городе его быстро обходили молодые, наглые и хорошо подкованные ребята.
Может быть, поэтому Дедусенко, услышав фамилию Теснанова, никак не отреагировал: вероятно, его он просто не знал — хотя главе отдела путей сообщения, возможно, и полагалось бы знать имя руководителя одного из основных отраслевых профсоюзов.
— Так пойдёмте уже, куда там вы собирались, — Дедусенко предложил Вике взять его под руку. Глупо, впрочем, выглядела эта галантность: проспект был пуст, серо и неясно шевелились под дождём облетающие кроны чахлых деревцев на обочинах, заваленные мокрой палой листвой мостки по тротуару были узкие, доски во многих местах отсутствовали или были проломлены, приходилось больше глядеть себе под ноги, переступать через лужи, обходить их: не до того, чтобы фланировать под ручку с кавалером. Почему-то, безотносительно к происходящему, случайно, как лотерейный билет из барабана, выудилось из памяти воспоминание — такая же дождливая ночь в Нью-Йорке на Бродвее: тёплый разноцветный свет отовсюду, переливающиеся, перемигивающие в темноте рекламы, серебряные струи дождя, дробная пляска капель по асфальту, вереница сверкающих фар, какофония гудков, сладко рыдающая из дверей дансинга негритянская музыка и — огни, огни, огни. Вот же, а ведь и то, и другое — город. Море чёрных зонтиков на тротуаре, а здесь вот — ни у Дедусенки этого нет зонта, ни у неё: иди и мокни под дождём, и не видно ни черта.
— Сказка про белого бычка какая-то, — пробурчал Дедусенко на ходу, сутулясь, с низко надвинутой на глаза кепкой. — Туда пришёл, пошли туда. Сюда пришёл, пошли ещё куда-то. А по улицам офицерьё уже рыскает, зуб даю. Чёрт возьми! — остановился он вдруг. — Куда это мы идём? Мы же обратно к общежитию идём! Вы что меня, в западню ведёте?
Он остановился, и даже в дождливой, беспросветной темноте Вика увидела, что Дедусенко крепко напуган. Путь к зданию Союза транспортных рабочих действительно проходил в опасной близости от правительственного общежития, всего в одном квартале от него, да и сам Союз был всего в паре сотен ярдов от общежития. Действительно, лучше было свернуть и пройти немного в обход, тем более что комендантский час никто не отменял: не было бы ничего глупее, чем попасться военному патрулю в ночь переворота в компании со свергнутым генерал-губернатором.
-
Теснанов, конечно, получился натурально. Архинатурально, я бы сказала)
|
Эта история начинается в 3 часа 13 минут 6 сентября 1918 года в съёмной комнате на первом этаже покосившегося деревянного дома по Петроградскому проспекту. Здесь живут две официантки кафе «Париж» — Аня Матисон и Вика Владимирова, и сейчас, в этот самый момент, они спят.  Селить большевиков-подпольщиков в разваливающейся халупе может показаться клише всех клише, но что я могу поделать, если архангельская подпольная организация действительно собиралась именно здесь (Петроградский проспект, 219)! ссылкаВика спала, и ей снилось странное: глубокое, детское воспоминание о жизни ещё в Европе — в Лондоне, в Париже ли, — будто выплыла на поверхность заброшенная столетья назад в болото деревяшка. Приснился Владимир Ильич: не такой, каким она его видела в этом году в Кремле, а ещё молодой, тридцати-с-чем-то-летний, с гладкой яйцеобразной, не совсем облысевшей ещё головой — Don’t even ask that! — с желчной усмешкой частил Владимир Ильич, обращаясь к отцу, ухватив того за пуговицу на пиджаке. — If I am ever to trust Martov once again, you may, and indeed must, submit me to a loony bin at once! И во сне совсем не странно казалось, что Ильич говорит всё это по-английски, с округлым бруклинским выговором, и, может, дело-то всё и происходило в Нью-Йорке, в редакции «Нового мира» в Ист-Сайде, тем более что отчётливо грохотало, стеклянно дребезжало что-то рядом— наверное, проезжал под улицей вагон подземки, и оттого тряслись темноватые грязные стёкла в свинцовой оплётке в окне, выходящем на краснокирпичную стену с ржавой пожарной лестницей, а в редколлегии о чём-то, как обычно, жарко спорили старшие товарищи, мешая через слово английский с немецким и русским. В той эмигрантской, социал-демократической России, в которой Вика выросла, спорить любили — носатые, бородатые, бедно одетые евреи спорили до хрипоты, с ветхозаветной яростью из-за запятой в резолюции, из-за мельчайшего программного вопроса, из-за места для крошечной заметки на полосе. Их комнаты в съёмных пансионах были чудовищно, до невозможности грязны — и завалены до потолка книгами; они проявляли дьявольскую изобретательность в том, чтобы придумывать своим политическим противникам хлёсткие оскорбительные прозвища — но никогда не вызвали бы самого ненавистного из них на дуэль; они со стороны походили на странненьких, неопасных чудаков, — но Вика знала, что один из них, Лев Григорьевич Дейч, милейший и обходительнейший старичок (в 17 лет все старше сорока кажутся стариками), в народовольческой молодости пырял человека ножом и плескал ему в лицо серной кислотой. Всё это происходило в мире, странно отделённом от окружающего: вокруг струился неоном Нью-Йорк, рекламы на Пятой авеню переливались голубыми, изумрудными огнями, дрожал длинными хвостами золотой фонарный свет в иконно-чёрной ряби Ист-Ривер, маслинно-чёрные форды стадами паслись на блестящем после дождя тюленьего цвета асфальте, — а растрёпанные, тощие, в стоптанных, Европу ещё видевших штиблетах, социалисты, их пучеглазые от базедовой болезни жёны не замечали этого, пропускали мимо себя как что-то постороннее, второстепенное, говоря лишь о безработных, о забастовках, о Циммервальде, Бунде, о предательстве Интернационала, и подводили к каждому наблюдению теоретическое обоснование — то было свидетельством прогрессивности капиталистического общества, это — знаком неразрешимых противоречий капиталистического способа производства. В такой России Вика и выросла, такую и знала, и когда отец, выправляя её детскую картавость, вместе с ней повторял скороговорку про украденные кораллы, восьмилетняя Вика спрашивала у него, неужели речь о том самом Карле, и отец строго отвечал, что если она хочет что-то у него спросить, задавать вопрос надо не по-английски, а по-русски. Перескакивало во сне всё с одного на другое, с Ленина на редакцию, с редакции на кораллы, и уже понималось, что это сон, потому что снаружи этого сна всё что-то настойчиво, дребезжаще стучало, чужой, глухой как из бочки голос скрёб в черепе, и вдруг вкатилась, как биллиардный шар, в сознание мысль: она в Архангельске. Это Архангельск, это её комната на Петроградском проспекте, в комнате холодно, сыро и темно, мерно тикают старые ходики на стене, за окном крупно и редко бьют по железному отливу окна падающие с крыши капли, и если посреди всего этого кто-то стучится в стекло — значит, что-то случилось. Вика открыла глаза. Темнота, белесые квадраты двух занавешенных окон, силуэт герани на подоконнике. С другой стороны, за смутной кубоватой тенью стола — постель Ани Матисон: её койка у противоположной от окон стены, Викина у окна — так было светлей читать, хоть и холодней. Поэтому Вика и проснулась первой от тихого, но настойчивого, всё не прекращающегося стука в окно над головой. Кто-то что-то глухо и настойчиво шептал оттуда, и поднявшись на кровати, Вика увидала в щёлку между занавесок лицо, сперва показавшееся незнакомым, жутким как в рассказе Леонида Андреева, и только когда человек за окном, увидев Вику, сам испуганно отпрянул от стекла, она узнала его — это был Серёжа Закемовский. — Аня! Аня, открывай! — разобрала Вика его голос. Видимо, Закемовский сам не понял, чьё лицо увидел в темноте по ту сторону стекла. — Что случилось? — сонно промычала Аня, приподнимаясь на локте на своей постели. — Впусти! — продолжал страшным голосом шептать Закемовский, показывая куда-то в сторону. — Дверь открой! — Кто там? — хрипло спросила Аня. — Кто-о? — переспросила она у Вики. — Он что, спятил? Который час вообще? Вика снова выглянула в щёлку между занавесками — в жирной грязи раскисшей обочины рядом с Закемовским с ноги на ногу переминался ещё какой-то человек, в надвинутой на глаза кепке и драповом пальто с поднятым воротом. Нет, Серж положительно должен был спятить от любви, чтобы припереться к своей Ане в такую глухую ночь, да ещё когда и Вика дома, да ещё и с каким-то приятелем, — такое было бы чересчур даже для самого ярого сторонника теории стакана воды. Ни Закемовский, ни Аня, впрочем, про подобные теории не слыхали и неизвестно, как бы ещё отнеслись, если бы узнали. У них всё было как-то очень обычно, — такие отношения, как у них, могли бы быть у счастливых и беззаботных ребят из Нью-Йорка, Аню с Сержем и иначе как girlfriend и boyfriend язык называть не поворачивался (да и есть ли в русском подходящие слова?) У них было всё как полагается: и идиотская фильма-комедия «Телеграф сосватал» в кинотеатре «Вулкан», и прогулки какие-то по парку вечерами, и букетик, и смущённая просьба Ани к Вике вечером домой часов до шести не заходить, потому что, ну ты понимаешь почему, и доверительный рассказ обо всём поздним вечером с восхищённым «Ты знаешь, он паровоз! Просто паровоз!» И как-то всё это очень странно сочеталось с дикой жизнью, которую теперь вели они оба, с тем, что они оба были большевики, оба участвовали в сходках группы Теснанова в мастерской Союза транспортных рабочих, оба рисковали свободой и жизнью, пытаясь восстановить в подполье разгромленную в августе организацию. Они и познакомились-то в подполье, хоть оба были архангелогородцы и сто раз могли бы перезнакомиться раньше. Аня была дочкой местного речного капитана, который уехал на пароходе «Шенкурск» с отрядом красноармейцев за пару недель до высадки интервентов и так и пропадал до сих пор где-то на Ваге. Отец её, Яков Иванович, был, Вика уже знала, латышом, но Аня родилась уже здесь, в Архангельске, и говорила по-русски без акцента, а язык своего народа хоть и понимала, но в разговоре с другими латышами-официантами в «Кафе-Париж» предпочитала отвечать на русском. Ане было двадцать два года, но Вика выглядела старше — вероятно, и в тридцать Аня бы выглядела старшеклассницей: маленькая, плоскогрудая и тощенькая, с забранными в две косички тёмными волосами и детским круглым личиком, она была похожа на Софью Перовскую со старых фотографий. Закемовский на её фоне выглядел если и Желябовым, то изрядно поистрепавшимся, — пускай Серж был и высоким статным парнем из тех, что играют в футбол квартербеками, но за тот месяц, который Вика с ним была знакома, Серж сильно осунулся. До того у него была отличная, не только прибыльная, но уважаемая в революции работа — печатник, авангард пролетариата, и если бы Вике довелось всё-таки поработать в «Архангельской правде», с какой целью она в свой родной город и приехала, она наверняка бы с ним и так познакомилась. Во время августовских событий Закемовскому поручили сжигать документы в редакции, а сделав это, он решил из города не бежать, а остаться в подполье. На квартире своих родителей он показываться опасался, жил у товарищей — пару дней там, пару дней здесь, — и нищенствовал. Кажется, за этот месяц он питался только тем, что Аня выносила ему с кухни «Парижа», благо это было одно из немногих мест в городе, где продовольствия было вдоволь. При этом Аню в кино он водил за свои деньги — хотя, ну, как свои? Условно свои: как оказалось, он раз за разом занимал по мелочи у профсоюзника Теснанова, главы подпольной группы. Закемовский думал, что об этой его нехитрой схеме никто не знает, и Теснанов-то впрямь считал, что деньги Закемовскому он даёт на конспиративные цели, а вот Аня с Викой давно уже выяснили, откуда Серж их берёт. Аня не возражала: «А что, пускай, — невинно говорила она Вике. — Не тысячи же он берёт? Десять, двадцать рублей. Пускай потешится». В таких вопросах она к Сержу относилась снисходительно: но, впрочем, тот действительно был простоват. — Да кто там с тобой? — спросила Аня, тоже подойдя к окну. — Впусти, говорю! Потом объясню! — продолжал своё Закемовский. — Да погоди же ты! Мы не одетые! — Ну быстрей! — прошипел Закемовский, оглядываясь по сторонам. Принялись второпях одеваться, дрожа от холода, — на дровах экономили, не топленная с вечера стенная печка была чуть тёплая. Чиркали спичками, зажигая керосинку на столе: когда заплясал под стеклом огонёк, разбрасывая по комнате рыжие тени, посмотрели, наконец, на часы на стене — четверть четвёртого, собачий час. Наконец, Аня раздвинула занавески, обратилась к стоящим за окном: — Через окно! Полезайте через окно! — Да ты открой… — начал было Закемовский, показывая на дверь. — Через окно, говорю! А то весь дом перебудите! Ну, живо! — и Аня принялась со стеклянным дребезгом открывать рассохшиеся деревянные рамы рядом с Викиной кроватью: в комнату хлынул сырой пробирающий до костей воздух с дождливой улицы. Серж спорить не стал: он вообще, замечала Вика, с Аней не спорил, когда та ему что-то указывала. — Осторожней, цветок! — только и успела сдавленно воскликнуть Аня, когда в окно полез Закемовский, — он повалил коленом тяжёлый горшок, герань грохнулась на пол, Закемовский зачертыхался. — А! Ну и хрен с ним, — оглянулся он на рассыпавшуюся по полу кучу чёрной земли, осколки горшка. — За мной! — вполголоса позвал он в окно. И вслед за Сержем в окно полез, марая вымазанными в грязи сапогами подоконник, незнакомый Вике человек — мужчина лет тридцати: Перебравшись в комнату, с чертыханьем наступив ногой на кучу земли на полу, он остановился и растерянно, испуганно оглядел стоявших перед ним девушек, ничего не говоря. Серж тоже выглядел растерянно. — Тут такое… — начал было он. — Окно-то закрой! — зябко обхватив себя руками, приказала Сержу Аня. — А, ну да. Сейчас! — Серж заторопился затворять раму. — Вы кто такой? — обратилась Аня к незнакомцу. — Я… — замялся тот. — Это Дедусенко, — плотно затворяя раму, не оборачиваясь, глухо сказал Серж. — Кто? — не поняла Аня. — Дедусенко, — повторил Серж. — Какой ещё к чёрту Дедусенко? — Я да. Я Дедусенко, — будто признаваясь в смертном грехе, с запинкой сказал незнакомец. — Отлично, вы Дедусенко. Поздравляю вас, вы Дедусенко, — нервно воскликнула Аня. — Это мне должно о чём-то сказать? — Ну, Аня… это же, — показал на Дедусенко Серж. — Я генерал-губернатор, — с неожиданной важностью сказал тот и горько добавил: — Нас свергли. Всё это было какой-то нелепицей, сумеречным бредом, фарсовой сценой, картиной из жизни обитателей loony bin, куда Ленин из сна предлагал себя отправить: перепуганный, жалкий человек с кепкой в руке, в мокром, капающем водой драповом пальто и замазанных грязью сапогах в три с четвертью часа ночи стоит над разбитым горшком с геранью, одной ногой в рассыпанной на полу земле, судорожно приглаживает чёрные волосы и заявляет, что он — генерал-губернатор и что его кто-то сверг.
-
Должен сказать, что действительно, это весьма забавно. =)
-
Уххх, лиха беда начало! Люблю, когда мастер тоже моего персонажа ^-^
-
Великолепнейшие, ярчайшие, и немного хтонические картины - и это прелестно!
-
|
—Не первый, — угрюмо согласился Фёдор и тем же тоном, не меняя принятого на лицо выражения, упрямо возразил своим же словам: — А то и первый? Сказано же, что последние станут первыми, а первые последними. Но не мне о том судить, ибо и об этом тоже сказано. План истребить целый свет, говоришь, есть? Что же нам бояться этого плана, ежели мы от этого света всю нашу жизнь одно лишь истребление нашего существа видели? Поделом такому миру, так я считаю: отречься от него надобно, отряхнуть прах его с наших ног, если остались у кого ещё ноги. Сжать ладонь нашу в кулак надо, если осталось ещё, что сжимать. А слов довольно. К деланью приступать надо: я так считаю.
И Фёдор оглядел народную массу, будто пытаясь проглядеть своё существование где-то в безвестном пространстве, и вдруг, повинуясь налетевшей на него умственной буре, надрывно воскликнул во весь человеческий голос:
— А и деланье какое лучшее из всех?! Говорили нам в раньшие времена, такие как ты, дядя Игнат, говорили, что лучшее деланье — давание: давай земля хлеба, давай мужик подать, давай мать солдат царю! А перевернулось всё, и не давание теперь лучшее делание, а давление! Дави землю, дави деньги, дави мать, дави детей: соком изойдут, и сладок тот сок! Уважение, говорили нам попы, наш вековечный долг: уважай царя, уважай отца, Россию уважай, Бога уважай! А перевернулось всё, и не уважение наш долг, а уничтожение! Нет Бога ныне, нет царя, России нет и отец из-под земли лишь вещает бесплотным гласом. Истребовали, истребовали с нас многое раньше, а перевернулось всё, и вместо истребования ныне истребления мы жаждем! Вот так я и скажу на Суде.
-
Я думал, что потерял тебя!
|
Пока Мухин разговаривал с Фрайденфельдсом, красноармейцы шумно разбредались по двору, по дому, подбирали у лежавших китайцев винтовки, обрезы, тащили их куда велено. Другие развязывали вещмешки, доставали миски с ложками, спешили к потухшему уже костру, к котлу с горячим варевом: там по-хозяйски уже расположился Седой с найденным подле котла половником.
— Да ты погуще, погуще накладывай, — говорил ему несостоявшийся мародёр Зотов, жадно принюхивающийся к густому мясному духу, поднимающемуся от котла.
— Не ссы, тут на всех хватит, — успокаивал его Седой.
— Братцы, а это… а оно не человечина тут? — беспокойно заглядывал за их спины Шестипал, тоже стоящий с миской.
— Да какая человечина? — возражал ему козлобородый Нефёд Артюхов. — Мясо, не видишь разве?
— Человечина тоже мясо, — недоверчиво замечал Шестипал.
— Не хошь, не ешь, — протягивал руку за его миской Седой. — Потчевать велено, неволить грех.
— Да вон, из консервов это мясо, — успокоил его Зотов и поддал ногой в беспорядке валяющиеся под ногами пустые банки из-под консервированных щей с кашею.
Шестипал ещё раз подозрительно оглядел красные мясные лохмотья, плавающие в густом крупяном вареве, но миску протянул.
Получившие нагоняй от командира калужане удалялись занимать посты в охранении вместе с Агеевыми. Ерошка Агеев неразборчиво на них ругался, оглядываясь и мотая головой в папахе в сторону оставшихся на дворе командира с комиссаром. «Червонцы-то», — донеслось до Фрайденфельдса. «Туда оба живо!» — сердито прикрикнул на них старший из Агеевых, показывая на поле: калужане понуро побрели, куда сказано.
— Лёшка, поди мне тоже пошамать принеси, — окликнул тащащего три винтовки на плече юнгу Петрова Живчик, снова присевший на завалинке.
— А ты у нас теперь прима-балерина, тебе всё в постель теперь, так, что ль? — остановился на крыльце Петров.
— Мне ходить больно, балда! — возмутился Живчик.
Тюльпанов всё так же стоял рядом с командиром и комиссаром, дожидаясь окончания их разговора. Невысокий, с немолодым лицом — нездорового серо-кирпичного цвета от многолетней работы в цеху — и седыми коротко стриженными волосами, он выглядел до абсурдности неуместно здесь — в своём рабочем картузе, добротном, хоть и поношенном уже сером подбитым ватой пиджаке с какой-то бесформенной накидкой сверху, в заляпанных жирной грязью сапогах. Было видно, что в отличие от остальных, в основном молодых красноармейцев, которых сейчас занимала лишь жратва, этому разменявшему уже шестой десяток слесарю с Путиловского здесь, в диких северных лесах, на разгромленном китайцами хуторе, неуютно: это у себя в цеху, где он был старшим мастером, было всё привычно и понятно, это там его все слушались и почтительно называли дядей Хрисанфом или Хрисанф Иванычем, — а здесь не то.
— Ваня, — снова обратился Тюльпанов к Мухину, с которым был знаком больше, чем с Фрайденфельдсом. — Они ж, — кивнул он на пленного ходяшку, скорчившегося у завалинки, — там трупов навалили в сарае том. Надо делать чего-то. Пойдём, покажу.
Втроём — Фрайденфельдс, Мухин и Тюльпанов, — направились к гумну, и уже на подходе почувствовали, как от приоткрытых тёмных дверей бревенчатой постройки несёт чем-то гадким, необъяснимой тошнотворной смесью запахов — тяжёлого, густого смрада гниения, помойки, падали, а вместе с тем — чем-то едким, известняковым, нашатырным, больничным, что ли.
Прикрывая лица руками, заглянули внутрь, в тяжёлый, перехватывающий дыхание смрад, в мушиное жужжание: тёмное широкое помещение со столбами, поддерживающими крышу, земляной пол с почернелой гниющей травой по углам, а в середине — макабрическая помойка, чудовищная свалка: разбросаны коровьи, овечьи, лошадиные костяки — ветчинного цвета рёбра, похожие на обхватывающие что-то огромные пальцы, облепленные жирными чёрными мухами тазовые кости с дырами под вывороченные суставы, на нежно-розовую гусеницу похожий кусок позвоночника с правильным рядом дырочек по боку, покрытая серой, как запекшаяся грязь, шерстью воловья башка с серыми рогами и почернелым носом, куски рыжих шкур, груды гнилой, чёрной требухи, склизкие груды кишок. Вперемешку — помоечный мусор: тряпьё, жестянки, битое стекло, консервные банки из-под щей с кашею. Сверху — неровно рассыпанный белый порошок, местами серой, будто коркой покрывающий кости, хлам, превращающий кособоко лежащую на полу овечью голову в подобие серой гипсовой фигуры.
И сразу не заметили, только через несколько мгновений взгляд отчётливо выхватил, как на детской картинке «найди спрятавшегося клоуна в лесу», из мешанины присыпанных серо-розовых костей, гнилья, хлама — чьи-то босые, с жёлтыми пергаментными пальцами ноги, повёрнутое вверх и вбок почернелое, глянцевитое, ни на что уже не похожее лицо, торчащую из-под гребёнки белесых коровьих рёбер угольную руку. Несколько тут таких трупов лежит, промеж костяков и помоев, — только и успели приметить, прежде чем отпрянуть от смрадного проёма, кривясь.
— Они поджечь хотели, — надсадно проскрипел из-за спины голос Поли: та, как оказалось, опасливо пошла следом за комиссаром с командиром, опасаясь удаляться от них. — Керосин весь извели, а не занялось. Дождь был, потухло всё.
Действительно, заметили Мухин с Фрайденфельдсом, один из углов здания был обуглен.
— Эй, эй, а ты куда намылился? — бодро забасил от крыльца Живчик. — Лёшка, лови ходюка! Ползёт куда-то! Стоп машина, тебе говорят! Лёшка, ну!
— Стой, стой! — весело наперебой закричали китайцу бойцы от костра.
-
Прекрасные в своей отвратительности картины разложения и гниения!
-
|
Строить бойцов пришлось не минуту и не две: скликали всех, разбредшихся по дому и двору, дожидались, пока с поля вернётся Илюха с консервами, Агеевы заканчивали с перевязкой Живчика, потом звали зачем-то полезшего на второй этаж юнгу Петрова. Наконец, собрались, неровно построились во дворе. Седой хотел было помочь Живчику подняться с завалинки, но Живчик раздражённо оттолкнул протянутую руку — сам, мол, встану, не в ногу ранен. Встал, с голым торсом и рукой на перевязи присоединился к строю сбоку, болезненно кривясь при каждом шаге. Рядом у завалинки безмолвно, оцепенело от ужаса скорчился пленный китаец, закрывая голову руками, боясь вскинуть взгляд на красноармейцев. Поля так и стояла поодаль, не вмешиваясь.
Отповедь Фрайденфельдса бойцы слушали хмуро и молча: вопросов и ценных мнений ни у кого не возникло. Стоявший рядом с командиром Мухин, однако, видел: на лицах троих калужан, обнаруживших золото, читалось неприкрытое недовольство. Открыто перед всеми, латышу, однако, возражать никто не стал. А вот когда Фрайденфельдс после окончания речи подозвал к себе троих калужан, нервы у одного не выдержали.
— Ценности, говоришь? — язвительно, с глумцой обратился к Фрайденфельдсу один из калужан, косоносый, с диковатой заросшей рожей Клим Кузнецов, когда после окончания речи командир подозвал их троих — Кузнецова, Цыганкова и Ульянина. — А что ж, можно и сдать! Ясно дело, порядок нужен, учёт, куда годится, когда у бойца ценности есть? Вот мои ценности, держи, командир!
Кузнецов полез в карман шинели, достал оттуда горсть мелочи — пятаков с гривенниками, потом судорожно полез за пазуху.
— Рубль-то наберётся, а то и с полтиной, за это тоже расстрел полагается, а? Ложка тож есть, кисет с махрой! — нервно и зло зачастил было он, но его товарищи, видя, что Кузнецов принялся юродствовать, дёрнули его за плечо, шикнули — молчи, мол, дурак.
— Как же ж это получается, товарищ командир? — перебив и оттеснив Кузнецова, вмешался в разговор второй калужанин, Ульянин. — Мы вчера за тебя голосовали, а теперь на нас все шишки? И было б по делу, — с горькой обидой воскликнул он, — мы б ничево, кабы было б за что! А мы ж вон крысу вашу, — коротко бросил взгляд он на Мухина, — споймали! За нашими спинами за пазухой у ходяшки рылся, себе всё присвоить хотел! Мы его остановили, мы ж и виноватые таперича? А деньги вам с комиссаром? А ежель завтра мы к своим выйдем, кому всё останется? Несправедливо выходит, командир! Поделить нужно, такое моё мнение: так честно будет. Все под пулю шли, всем и причитается.
— Да вон бабе хоть отдать! — надсаженным голосом вмешался третий, Цыганков, показывая на стоявшую в сторонке Полю. — Она ж тут из местных одна живая осталась? Натерпелась, небось, баба. Уж раз не нам, то хоть ей.
Братья Агеевы, собиравшие вокруг себя калужан, чтобы выставлять охранение, сейчас с расстояния нескольких шагов прислушивались к разговору, пока не вмешиваясь. А ещё рядом с Фрайденфельдсом, Мухиным и тремя калужанами с ноги на ногу переминался Тюльпанов, терпеливо дожидавшийся окончания разговора.
— Ваня, — во время разговора Фрайденфельдса с калужанами, вполголоса обратился он к Мухину, встретившись с ним взглядами. — Там это… трупы в сарае, — Тюльпанов головой показал на овин. — Местные, кажется.
-
За реакцию солдат, все такое.
-
А страсти-то опять накаляются!
|
Вынужденная тянуться за передовыми странами отсталая страна не соблюдает очередей: привилегия исторической запоздалости — а такая привилегия существует — позволяет или, вернее, вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через ряд промежуточных этапов. Дикари сменяют лук на винтовку сразу, не проделывая пути, который пролегал между этими орудиями в прошлом. Лев Троцкий, «История русской революции»Сформулированный Львом Троцким закон неравномерного и комбинированного развития нигде не проявляется ярче, чем в Шанхае. Человек, прибывающий в Шанхай на океанском лайнере, видит на одном берегу протекающей через город реки Хуанпу нагромождение рыбацких хибар, чудовищную грязь, какая только в Азии возможна, зато на другом он видит строй европейских четырёх-пятиэтажных зданий, портовые склады, нефтяные резервуары, пристани, трубы открытых в последние годы фабрик. На реке его лайнер проходит мимо утлых сампанов и джонок с перепончатыми парусами, но также мимо новейших пароходов, чадящих буксиров, огромных грузовых барж, в которых из Индии везут опиум.  Бунд, главная набережная Шанхая   Здание Русско-китайского банка на Бунде На берегу путешественника встречают рикши, ссадившие очередного седока и утоляющие жажду из большого жестяного самовара, закреплённого за спиной разносчика воды, украшенные бахромой паланкины местных чиновников, запряжённые монгольскими пони повозки, навьюченные верблюды, а вместе с тем — новые электрические трамваи, с дребезжанием движущиеся по набережной, автомобили и фаэтоны иностранных консульств. На главной улице Международного сеттльмента, Нанкин-роуд, сияют широкие витрины универсальных магазинов с европейскими товарами, и тут же — трепещут на ветру бахромистые жёлтые флаги с иероглифами, мелко семенят перебинтованными ступнями китаянки в цветастых ципао, важно вышагивают китайцы-тайпины в долгополых юбках, с длинными чёрными косицами на выбритых головах, и здесь же сотрудники иностранных фирм и консульств играют в лаун-теннис, наблюдают за скачками на городском ипподроме, прогуливаются по разбитому у северной оконечности Бунда парку, куда запрещён вход собакам и китайцам. У путешественника разбегаются глаза, он ошалело таращится по сторонам — на тёмные, за резными ставнями чайные домики, на китайские лавки с нефритом и фарфором, со статуэтками будд и медными курительницами, на полуподвальные едальни, из которых за версту несёт неслыханными пряными запахами, и непонятно, как всё это может сосуществовать рядом, вперемешку с европейскими особнячками и платанами Французской концессии, с иезуитским храмом и колледжами католического района Цзыкавэй, с фабриками района Янцзыпу, с новейшим железнодорожным вокзалом нанкинской линии и международным морским портом. Конечно, путешественник не может всего этого понять — он всего лишь гриффин. Так в Шанхае называют новоприбывших иностранцев или случайных посетителей города, в отличие от уже давно живущих здесь шанхайлэндеров. Чтобы стать шанхайлэндером, иностранец должен прожить здесь один год, один месяц и один день: только по истечению этого срока он приноравливается к жизни в этом городе, начинает понимать пиджин-инлиш, жаргон, на котором общаются с иностранцами местные, знает, сколько чаевых нужно дать бою или рикше, почему не стоит заезжать без проводника за низки средневековые стены Китайского города и как спасаться от пронизывающего сырого холода шанхайской бесснежной зимы и удушливой оранжерейной жары шанхайского лета. Виктор Константинович Трапезников был шанхайлэндером и всё это уже знал: в Шанхае он жил уже три года. Он знал, например, что один серебряный мексиканский доллар стоит не сто, как по номиналу, а около 140 медных местных монет, что одного такого доллара должно хватить на то, чтобы нанять рикшу на целый день, а не на одну поездку, как платил бы гриффин, что вечно вывешенное на верёвках в каждом дворе (в том числе и дворе Русско-китайского банка) бельё — вовсе не бескультурное пренебрежение к благообразию города, а неизбежная необходимость — лишь так в шанхайской сырости можно сохранить ткань от плесени. Трапезников знал и китайский язык — точнее, теперь уже два китайских языка: в Пекине, где он служил до того, говорили на одном языке, на том, который он ещё по книгам о. Палладия учил в Петербурге, а в Шанхае — на совсем ином, похожим на пекинский лишь приблизительно, как русский на польский. Пришлось учить всё заново, приноравливаться приветствовать китайцев не «нихао», а «нонхо», говорить «спасибо» не как «сесе», а как «я-я» и цифру 5 произносить не «у», а как носовое «н». И только с китайским именем повезло: иероглифы 塔维克читались как на мандаринском пекинском языке, так и на шанхайском одинаково — Та Вэйкэ («Та» от фамилии, «Вэйкэ» — от Виктора).  Городской сад на стрелке Хуанпу и Сучжоу-крик (собакам и китайцам вход воспрещён)
Шанхай, Международный сеттльмент,
Набережная Бунд, теннисный корт во дворе Русско-Китайского банка,
Солнечно, +30 °С, Rh 100 %
Счёт по сетам 2:2, счёт по геймам Вышнеградский 6:5 ТрапезниковИграть в теннис в жару — изощрённый вид самоистязания, которому шанхайлэндеры самозабвенно предаются всё долгое субтропическое лето, за вычетом сезона дождей. Бизнесы (этим английским словом здесь называют дела) заканчиваются вскоре после обеда, и к четырём часам всё деловое общество Шанхая отправляется на корты — общественные, внутри дорожки ипподрома в конце Нанкин-роуд, или частные, какой есть и во дворе конторы РКБ на Бунде. Не играть в теннис для шанхайлэндера считается неприличным, чем-то вроде отсутствия интереса к женщинам. В теннис играют все, и особенно сейчас, в мае — до сезона дождей, который должен начаться в июле, осталось совсем мало времени, и сейчас в теннис играют каждый день, несмотря на висящую над городом ватным одеялом влажную духоту, — а может, и благодаря ей: не каждый выдержит пять сетов в такую погоду, а до двух побед играть ещё неприличней, чем вовсе не играть. Александр Иванович Вышнеградский, однако, к концу пятого сета ещё мотается по корту, как бешеный маятник, и глядя на расплывающуюся в щиплющих потом глазах белую фигуру с ракеткой на другом конце корта, можно было бы поверить, что Вышнеградский и не устал ничуть — но Трапезников знает, что сейчас и у Вышнеградского на спине давно расплылся тёмный мокрый клин, и катится по телу жгучий банный пот, и как в парилке огненно отдаётся каждый частый хриплый вдох, и лицо покрыто плёнкой липкого, солёного пота, который можно лишь смыть, а вытирать бессмысленно, и сердце надрывается в груди, и в голове звенит, грохочет кровяная колотьба, сжимая мир до пределов одной красно-бурой грунтовой площадки, по которой хрустят белые туфли, и только когда Вышнеградский с пустотелым деревянным звуком отбивает форхэндом поданный в угол мяч, по нутряному хэканью противника становится ясно — Вышнеградский тоже вымотан до предела. Мяч перелетает через сетку и, уже инстинктивно подавшись вправо за мячом, Трапезников понимает, что будет аут, — мяч зелёной стрелкой проносится мимо и падает далеко за меловой линией, у краснокирпичной стены, отделяющей корт от узкой, но оживлённой, как и все улицы здесь, Цзюцзян-роуд. Плакал эдвентейдж Вышнеградского, счёт снова ровный, и игра продолжается. Из-за стены слышны неразборчивые, по-вороньи крикливые китайские голоса, цоканье копыт, стук деревянных колёс по брусчатке. Над головой монотонно гудят электрические провода, по диагонали пересекающие палящее пустое небо, печной ветерок шевелит белыми занавесками заднего фасада здания РКБ, с ленивым любопытством наблюдает за игрой заморских дьяволов из окна первого этажа здания китайский бой в белой шапочке. Другой китаец, с остроносым, вороньим лицом, сидит на вышке у сетки — это Чжуань шифу («шифу» — мастер), один из лучших в Шанхае игроков в теннис. Сейчас он судит матч. — Аут! Дьюс! — горланно выкрикивает Чжуань шифу с таким выражением, будто не аут со счётом объявляет, а бранными словами игроков кроет. — Ту сёлф — Тлапезникофф! Ему не очень нравится судить здесь, понимает Трапезников. Никому теперь не очень нравится иметь дело с русскими. Ещё пару лет назад всем нравилось: Русско-китайский банк скупал предприятия и недвижимость в Шанхае, держал на хранении казну шанхайской таможни, успешно конкурировал с британским Гонконгско-Шанхайским банком, русские миноносцы и канонерки заходили в Шанхай наравне с британскими, французскими, японскими — и всё посыпалось прахом с началом войны. Эпопею с интернированием канонерки «Манджур» иначе как позорной было не назвать: начало войны застало корабль в Шанхае, прямо в центре города у пристани; два японских крейсера стерегли её у устья Хуанпу. Командир канонерки, как безумный, мотался между банком, консульством и своим кораблём, собираясь то повторять подвиг «Варяга», то склоняясь к тому, чтобы торчать в Шанхае как можно дольше, сковывая японские силы. Муниципальный совет Сеттльмента и китайский губернатор требовали от «Манджура» либо выходить в море, либо разоружаться. В банке и консульстве все стояли на ушах, отсылая в Порт-Артур одну за другой телеграммы — но адмиралу Алексееву, видимо, самому было не до того, чтобы разбираться с тем, что происходит там в Шанхае. У пристани собирались китайцы, крикливо требуя от русских убираться вон. Неопределённость положения давила на матросов: один из них сошёл с ума — выскочил перед китайцами в тельняшке, пустился плясать камаринскую, горланя частушку дурным голосом, потом принялся кататься по дощатому настилу пристани, называя себя свиньёй. Китайцы хохотали, показывая на русского пальцами. На палубу выскочил один из офицеров, белый от бешенства, вытащил было револьвер, чтобы стрелять в толпу, — его еле успели оттащить, и это тоже как шапито какое-то выглядело. Трапезников был всему этому свидетель. «Манджура» разоружили и интернировали в марте прошлого года, сумасшедшего отправили под конвоем в Одессу через пол-мира, а командир уехал в Порт-Артур, где вскоре и погиб. Так до сих пор и стоял «Манджур» у пристани в центре города, с десятком матросов скучающей охраны. А дальше было только хуже: русскую армию били в Маньчжурии, русский флот под Порт-Артуром, а отношение к русским в Шанхае менялось от настороженного — как-то там война повернётся? — всё больше до отчуждённого, презрительного: мы-то полагали, вы белые люди, а вы, оказывается… Летом прошлого года к «Манджуру» присоединились крейсер «Аскольд» и миноносец «Грозовой»: пытались прорваться из Порт-Артура, были побиты японцами, укрылись в Шанхае. Тут уж китайцы церемониться, как с «Манджуром», не стали: китайский губернатор сразу заявил — три дня на починку и убирайтесь либо разоружайтесь. Выбор был ясен: половина орудий на крейсере была разбита, корабль зиял дырами от снятой обшивки, а к Шанхаю уже снова подходили японские крейсера. Спустили флаг, сняли замки орудий, сдались. Китайцы приняли это уже как должное. Как в музыке, постепенно усиливаясь, нарастает до грома какая-то тема, так и в этой войне нарастали одна за другой новости одна хуже другой: гибель Макарова, поражение при Ляояне, разгром в Жёлтом море, поражение при Мукдене, падение Порт-Артура — и вот, пару недель назад грянуло финальным мощным аккордом, трагическим крещендо: Цусима. Не то, чтобы все уж от эскадры Рожественского ждали какой-то блистательной победы — всем уж, в общем, было ясно, чего стоит наш доблестный флот, но такого не ждали. Первым телеграммам из Японии просто не поверили, и только когда в Хуанпу появились миноносец «Бодрый» с двумя пароходами, когда на берег сошли офицеры, на которых было жутко смотреть, только тогда поняли, какая катастрофа произошла. «Манджур» долго отказывался сдаваться, «Аскольду» хотя бы дали выбор — сдаваться или выходить в море на верную гибель, здесь все поняли сразу: русские — значит, флаг спускать, корабли интернировать, с этими только так. Русские не сопротивлялись, флаг спустили, орудийные замки сдали. Консульство и банк уже не пытались этому как-то помешать, выторговать лучше условия: все уже относились ко всему с усталым отвращением, желая лишь, чтобы этот кошмар поскорей закончился: так, должно быть, относится к происходящему насилуемая женщина. «Норт Чайна Дэйли Ньюс» писала о Того, как о японском Нельсоне. Англичане в разговорах с русскими сменили холодно-враждебный тон на снисходительно-насмешливый. Французы преувеличенно искренне сочувствовали. Американцы по-детски радовались победе японцев, болея за андердога, как в боксёрском поединке. Какие-то невесть как оказавшиеся в Шанхае поляки закатили в одном из ресторанов на Бабблинг-велл-роуд пирушку в честь победоносных японцев: поднимали тосты в честь Того и Костюшко, грозились взять Москву как в 1612 году, разбили зеркало. Китайцы, и те уж радовались успехам своих недавних врагов японцев: и азиаты, стало быть, могут бить белых. Русские офицеры спускались на берег с каким-то растерянным видом, будто не веря, что произошло. Приходили сообщения о том, что рассеянные русские корабли укрывались в Маниле, выбрасывались на корейский берег, сдавались в плен. Всему этому уже не удивлялись. «Я не осуждаю Небогатова, — говорил за обедом в консульстве командир «Бодрого» Иванов, — вы должны были видеть, что там творилось». На него смотрели с жалостью, переходящей у многих в злость, в самобичевание. Вот она, цена всему этому вашему, думали многие: цена вашим белым кителям, кантам, орденам, аксельбантам, кортикам: красиво-то как всё было, дамы в «Аквариуме» млели от восхищения. И сами-то млели, сами от себя были в восторге: кильватерные колонны, главные калибры, оливково-чёрные борта, чищенная медь, рында и вымпелы — а бюджет великий князь Алексей на побрякушки балеринам спустил, а вместо заклёпок деревяшки, а на камбузе мясо тухлое, а офицер с матросом зуботычинами разговаривает. А те ничего: строй в бескозырках, грудь колесом, за Веру, Царя и Отечество как один умрём, ура, ребятки — а пришло время, умирать-то не захотели: сдаваться побежали, разоружаться побежали. «Где флаг русский раз поднялся, там спускаться он не должен», так Николай I говорил? Спускают, спускают гордый наш Андреевский флаг, даже с облегчением каким-то спускают, торопятся: побыстрей бы уж, пока не побили. Стыдно смотреть: хуже того сумасшедшего матроса, который катался по пристани, крича «я свинья!»: он хотя бы это понял и честно всем объявил. Флот русских свиней, флот сумасшедших, из побед которого — только разгром английских траулеров: показали силушку Русскаго Флота супостату, Ушаков бы гордился. Флот русских свиней, флот вороватых обезьян: на заклёпках воровали, на мясе, на снарядах, на броне — раздолбали вас к чертям, и поделом: сами опозорились на весь мир, и нас подвели: мы-то здесь работали на совесть, дело своё, в отличие от некоторых, знали крепко, такого успеха добились, столько выгодных сделок заключили, а из-за вас, бездарей и трусов, всё потеряли и теперь как прокажённые. И только этого, только презрительной, снисходительной жалости вы и достойны. Никто, конечно, не говорит это вслух, но это понятно из всего. Из того, каким тоном сотрудники консульства и банка общаются с офицерами, из того, с какой презрительной смешливостью разговаривают с сотрудниками банка англичане с таможни и Муниципального совета, из того, что Чжуань шифу опоздал прийти к началу матча, хотя раньше всегда приходил вовремя, из его каркающего, надменного тона, каким он объявляет счёт — и даже из того, как Вышнеградский с досады от аута грохает ракеткой о рыжую землю, измождённо сгибается, упирая руки в колена. — One minute! — оборачивает он к судье голову с мокрыми, липко падающими на лицо волосами. — Уан минэт блэйкхэ, — безразлично соглашается Чжуань шифу. Отдышавшись, Вышнеградский проверяет натяжение струн на ракетке, откидывает волосы со лба, поднимает руку, показывая судье — можем продолжать. — Ту сёлф: Тлапезникофф! — каркает Чжуань шифу со своей вышки. — Подавайте, Виктор Константинович! Давайте уже добьём этот матч! — бодрясь, кричит Вышнеградский Трапезникову, с ракеткой в руках стоя за линией аута на середине площадки. Палящее солнце висит над головой, плывут в глазах красные кирпичные стены по бокам, мелкая сетка закрывает торец корта от заднего фасада банка.
-
Восторг, просто восторг! Город как живой, отношение к русским, да и мысли соотечественников о войне, великолепно соотносятся с тем, что я знаю.
А еще сразу захотелось сказать слово в защиту г.г. офицеров, ставших объектом столь ярого осуждения.
-
Как раз ждал, что так или иначе, но должна быть игра в теннис! Ну и атмосферно, атмосферно весьма.
А ещё внезапно очень порадовало описание жаркой погоды.
|
|
— Земля и воля! За землю! — согласно разразились криками рабочие, собравшиеся вокруг бугра. Однако, с той стороны, где в углу двора расположилась «больница», в ответ донеслось злое:
— Долой с бугра!
— Это провокаторша, товарищи!
— Её здесь никто не знает! Гоните её в шею!
Кучка эсдеков и во время того, как Гера говорила, то и дело принималась гудеть, пытаясь зажечь своим негодованием публику, но безуспешно — дебаты собравшимся на маёвку рабочим были по душе, и просто так прогонять ораторшу они не собирались. Кто-то даже махал на эсдеков руками, потише, мол, но в основном рабочие принимали эти выкрики как должное — все к такому были привычны: эсдекам полагается закрикивать эсеров, ничего нового.
— Вот она, эсеровская дем… эсеровское пустословие, товарищи, вот оно! — несколько нервно выкрикнул Лопата в ответ на слова Геры, указывая на неё мясистым коротким пальцем. — Что ж мы, не знаем, как сейчас по волостям помещичьи усадьбы полыхают? Знаем это, и поддерживаем! А ваша партия — поддерживает? Ну, поддерживает? А отчего же тогда ваша партия открыто не призовёт к аграрному террору? — Лопата очевидно распалялся, пулемётно разнося букву «р», энергично, с обвиняющим тоном тыкал в Геру пальцем, брызгал на неё капельками слюны. — Как же это так, товарищи рабочие, получается? Эсеры у нас на словах за крестьянство, вон как барышня соловьём поёт, а как до дела доходит — помещика не тронь, так, что ли?! Усадьбу не тронь?! И фабрику не тронь?! Под дудку капитала пляшете, господа эсеры! Сладкий яд в уши пролетарьяту льёте!
Гера видела, как через толпу в сторону бугра протискиваются двое эсдеков — шкет в кожаной куртке, спрашивавший у неё с Варей пароль в переулке, и ещё какой-то рабочего вида нескладный парень в картузе. Пробившись через толпу, эсдеки подошли к Шаховскому, который сразу их остановил, и принялись ему что-то объяснять, наседая. «Ваших двое, наших двое! — расслышала Гера. — Здесь стоим, не пускаем никого».
— Товарищ Трапезников, я вам говорю, потом выступите… — полушёпотом продолжал выговаривать пучеглазому господину Колосов, оглядываясь на подошедших эсдеков. Трапезников что-то сердито спрашивал, ухватив Колосова за пуговицу: тот терпеливо отвечал, но к бугру Трапезникова не подпускал.
— А почему ж так происходит, товарищи рабочие? — продолжал тем временем Лопата, обращаясь к рабочим, уже не басовито громыхая, а вкрадчиво, задушевно спрашивая. — А вот как раз потому, что барышня эсерка тут говорила, за «особый путь» для русского народа ратовала. Смешно, с одной-то стороны! — Лопата усмехнулся. — Эстонка нам, русским, рассказывает, что нам хорошо, а что нет. «Благовест», видите ли, несёт нам, слово-то какое — того и гляди, поклоны земные бить начнёт! Смешно! А с другой-то стороны, и не смешно отнюдь, а грустно. Грустно потому, что слышим мы такое уже не первый раз, да и не только от тех, кто себя «друзьями народа» называет. Разве немцы при дворе да в министерствах всяких не то же самое нам рассказывают уже сколько лет? Что у России, де, свой путь, своя стезя: неча вам, косорылым, де, на Европу смотреть, у вас здесь никогда так не будет! А по-моему, товарищи, они так нарочно нам и говорят, чтоб мы все и думать забыли, что иначе может быть! А по-моему, товарищи, если есть немец-пролетарий на заводе где-нибудь в Берлине, он от тебя, товарищ, — Лопата указал на рабочего в толпе, — только тем отличается, что говорит по-немецки. А капиталист его точно так же, как тебя, эксплоатирует, точно так же штрафами и вычетами гнобит! Только в том и разница, что ты, когда на стачку выходишь, по-русски инженера кроешь, а он своего — доннерветтером да аршлохом по матушке! Только в том и отличие, а интерес у вас всех общий, потому вы и есть единый мировой пролетарьят. Вот почему социал-демократицькие партии во всех странах есть! Вот почему и великая наука Маркса всем миром признана! И нам не в дремучую нашу дикость уходить надо, а вместе с миром в ногу идти! Потому и лозунг нашей партии такой — пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Стоявшие в углу двора эсдеки послушно, дисциплинированно заколотили ладонями так, будто ковёр выбивали. А среди группки эсеров, стоявших с другой стороны, было видно какое-то шевеление, движение, но пока ничего определённого.
-
Хорошо эсдек сказал, умело. Ну да и у нас есть еще пара козырей в рукаве!
|
|
Май 1865 г.
Санкт-Петербург,
Веха 34
— Ты что же, вообще не веришь ни во что? — с некоторым удивлением спросил Игнат.
— Ни во что, — мотнул головой студент Зуевич. — Ни в чёрта, ни в бога.
Игнат покосился на торчащий из-под стола рыжий сапог Зуевича с крокодильей пастью отваливающейся подошвы, на побитую молью чересчур тёплую по погоде шинель, на манжеты в серых разводах грязи, пятнах чернил. На лежащую рядом на столе шляпу Игнату даже и смотреть было неловко. Зуевич, однако, был не опустившимся бродягой, а студентом: это становилось ясно с первого взгляда — об этом говорили и длинные немытые чёрные волосы на прямой пробор, и на сапожную щётку похожая бородка на худом, впалом, будто натянутом на череп пучеглазом лице, и очки на остреньком носу — нигилистские, с продолговатыми синими стёклышками. Игнат уже знал кое-что о Зуевиче: он приехал в Питер откуда-то из центральных губерний, жил на деньги, которые присылала матушка, провинциальная помещица, и по случаю переводил что-то с немецкого: впрочем, этого не хватало на оплату обучения в университете, да и вообще ни на что не хватало, и уже почти год Зуевич жил так, чёрт-те как. Конечно, он и чахоткой был болен, и кровью уже кашлял. Товарищей у него не было: были раньше, все куда-то делись. Он, ещё когда ходил в университет, распространял было прокламации «Молодой России», но и с этим у него не задалось: то ли жандармов испугался, то ли товарищи сами не доверяли такому ненадёжному типу. Зуевич жил в тёмной заваленной разбухающими от сырости книгами каморке, писал матушке чувствительные письма, неизбежно завершающиеся просьбой денег, был в кого-то безнадёжно влюблён и часто напивался. Здесь-то, в том самом трактире в переулке у Сенной, он с Игнатом и познакомился. В последнее время они начали часто видеться.
— Ну а как же наше с тобой дело? — спросил Игнат. — Как же на него идти, не веря в него?
— Я мыслю рационально, — сказал Зуевич, обоими локтями опираясь о жирную столешницу трактирного стола. Чёрные сальные его волосы свесились, закрывая лицо: Зуевич привычным жестом откинул их. «Сейчас опять заведёт шарманку», — недовольно подумал Игнат. — Ты говоришь, что тебе тысяча лет и ты жив оттого, что пьёшь кровь. Это бред сумасшедшего: возможно, ты и есть сумасшедший. Я видел, как ты пьёшь кровь, но доказать своё бессмертие ты мне не можешь. Кровь может пить кто угодно, могу и я.
— Пробовал, что ль? — быстро спросил Игнат.
— Да. Не в том дело. А дело в том, — задумался Зуевич, — дело в том, что я умираю и сам знаю это, а ты предлагаешь мне бессмертие. Это звучит как бред, вероятно, это и есть бред, но что я теряю, соглашаясь? Остаток жизни в нищете и несчастье? Нет, уволь: это я готов поставить на карту.
— Тяжело будет, Веня, — честно предупредил Игнат. — Под землёй надо будет полежать.
— Ты говорил, — дрогнувшим голосом ответил Зуевич.
Игнат сам не понимал, зачем он предложил Зуевичу это. Мысль закопать кого-нибудь в морильне появилась у него сама собой, много лет росла в нём неясным желанием, смутным очертанием носилась в голове и окончательно оформилась в ту декабрьскую ночь в баньке, когда он это предложил Фёдору Михайловичу. Он тогда сам удивился, зачем он это предложил, но тут же понял, что именно этого — сделать человека подобным себе, закопать в морильню, потом раскопать, бледного, хватающего ртом воздух, упоительно смердящего землёй, калом, трупом — он уже долгое время и жаждал. С тех пор эта мысль не отпускала Игната: он убивал бродяжку у дегтярных бараков на берегу Карповки и, глядя на растерзанный, жалко скрюченный у разбитых бочек труп, понимал — как было бы славно, если бы этот тип полежал в морильне. Он заманивал ребёнка в сырую чащу заброшенного леса на Елагине и, напившись горячей, живо бегущей по жилам крови, думал — а ведь мог бы этот малец по улице бегать: синюшно-серый, холодный, кровь бы пил. Как-то само это в Игнате проявлялось.
—
— Ну что, готов? — спросил Игнат, пригибаясь и заходя в подчердачную каморку Зуевича.
— Что? — испуганно, пучеглазо обернулся Зуевич. — А, это ты, Игнат. Уже пора?
Зуевич сидел в накинутой на плечи шинели за маленьким обшарпанным столом и что-то корявым, разбегающимся почерком писал на листе серой почтовой бумаги. Перед студентом в залитом воском щербатом блюдце стоял жёлтый огарок свечи, — хоть мог бы и не зажигать: день был светлый, тёплый, безоблачный, и света даже из маленького грязного окна хватало бы для письма. Занимающая половину каморки постель была смята, на полу лежали увязанные бечёвкой стопки книг.
— Пора, — ласково сказал Игнат. — Пойдём-ка, Венечка.
Зуевич со скрипом отодвинулся на стуле, придерживаясь за край стола, поднялся, пошатнувшись. «Напился, — отметил Игнат. — Как бы не заартачился».
— Что с собой брать надо? — покорно спросил Зуевич. — Ты не говорил.
Игнат задумался: а что, действительно, надо брать? Как-то не приходило ему это в голову. Он пожал плечами.
— А что хошь, — наконец, сказал он. — Вреда не будет.
— Я револьвер возьму, — сказал студент. — У меня есть.
— Э нет, этого нельзя, — быстро возразил Игнат.
— А ты говорил, что угодно можно? — по-детски капризно возмутился Зуевич.
— Этого нельзя.
Помолчали.
— А водку?
— Водку? — задумался Игнат. — Водку что ж, бери. Собирайся, Венечка. Пойдём.
— Я допишу только, — показал студент на свой листок.
—
— Мне сюда? — спросил Зуевич, оглядываясь на Игната.
— Сюда, Венечка, — ласково сказал Игнат.
Они стояли в светлом, просторном бору недалеко от Лисьего Носа: серебристо просвечивал сквозь лес залив, свежо пахло морем, смоляным лесным духом. Серый песок был весь усеян жёлтыми иглами, пепельного цвета шишками, тянулись под песком узловатые, корявые корни, и чернел в серой земле продолговатый, на нору похожий, лаз в морильню. Игнат долго копал эту морильню — весь прошлый год потратил на это дело, да и получилось-то с третьего раза: первый раз копал слишком близко к деревне, и его оттуда выгнали, приняв за контрабандиста, второй раз всё осыпалось — не умел он толком укреплять стены, потолок, а с третьего раза кое-как вышло: место выбрал глухое — три версты до ближайшей финской деревушки, а на всякий случай ещё сунул уряднику взятку. Морильня, конечно, получилась тесной — едва помещался там сам Игнат, не мог в ней разогнуться и едва мог улечься, скрючившись: не морильня, а могила. Но так выходило, кажется, ещё правильней.
— Ты будешь рядом? — спросил Зуевич, нерешительно глядя на Игната, стоя рядом с большим зеленоватым штофом в руке.
— А как же, Венечка, — откликнулся тот.
— Как же я там должен буду?… — одними губами спросил студент.
— А кто ж скажет? — философски сказал Игнат. — Задохнёшься, вестимо.
Зуевич замолчал. Игнат поднял голову, рассматривая шумящие над головой сосны, пронзительно синее небо, ярко бьющее из-за тёмных крон солнце, серые по низу и рыжие выше прямые стволы, в просторных промежутках между которыми проблескивал залив. Было тихо особой лесной тишиной, сквозь которую постоянно что-то потрескивает, просвистывает, скрипит. Мирно было, славно, подходяще.
«Как в тот день», — подумал Игнат, и тут же спросил себя: в какой тот день? Он нахмурился, пытаясь вспомнить, что было перед тем, перед морильней. Не вспоминалось — скользили, как солнечные пятна перед глазами, какие-то даже не воспоминания, а тени воспоминаний, не связанные ни с чем обрывки образов — зелёная гора свежего сена, ласточка под потолочными балками: потолочными балками чего? Не вспоминалось, утонуло всё будто в тёмном непроглядном омуте, лишь смутным очертанием просвечивало из глубины. «И это тоже я когда-нибудь забуду, и это уйдёт», — с внезапным прозрением сказал себе Игнат. И ещё повторится, как всё всегда повторяется, и представится мне этот летний день, и может быть, я вспомню, что тогда, то есть сегодня, я вспомнил что-то, но что — не получится восстановить уже никак. Зуевич достал из кармана жестяной портсигар, вытащил папироску, присел на поваленный ствол у лаза, отложив в сторону котомочку с бутылкой, принялся закуривать.
— А это зачем же? — выпустив дым, спросил он, показывая на сваленные рядом с лазом брёвна, корявые ветки, сосновые лапы, старую лопату.
— А как же без этого? — ответил Игнат, не сводя взгляда со студента. — Залезешь, а вход привалить?
— Ну да, ну да, — протянул Зуевич и вдруг зашёлся хрипающим, рвущим лёгкие надрывным кашлем, скрючившись на бревне, выронив папиросу, зажимая ладонью рот. Когда он отнял руку ото рта, на ладони в белесых потёках мокроты краснели разводы алой крови, и Игнат не выдержал — упал на колени перед Зуевичем, прижался губами к его ладони, принялся, как собака, слизывать кровь с мокротой с руки студента.
— Ты что, ты зачем? — ошарашенно воскликнул Зуевич.
— Полезай, полезай, Венечка! Полезай, прошу тебя, полезай! В норушку-то полезай! — оторвавшись от ладони Зуевича, безумно зачастил Игнат, стоя на коленях, показывая студенту на лаз.
—
Небо было бело от звёзд, светлая майская ночь висела над бором, тихо зыбился в лунном свете залив, одиноко полз по чёрной морской глади одинокий жёлтый огонёк рыбацкой шхуны, мерно шуршал по песку прибой. Игнат сидел на берегу, бездумно глядя в космическую непроглядную черноту моря, сливающегося по горизонту с небом. Долго он сидел так: сначала, привалив лаз за спустившимся в морильню Зуевичем брёвнами, валежником, ветками, находился рядом, успокаивал устроившегося в норе студента, говорил ему что-то, объяснял о вечной жизни, о том, как славно им будет вместе пить кровь. Потом студент затих, и Игнат отошёл к морю, бессмысленно глядя в него. «Надо бы проведать», — подумал он, поднялся с колен и, скрипя по мокрому, чёрному в ночи песку направился в лес.
— Венечка? — позвал Игнат, склоняясь над наваленной над лазом грудой. Зуевич не отвечал. Игнат позвал ещё раз, громче, потом ещё.
— А? Игнат? — глухо раздался из-под земли пьяный голос Зуевича. «Пьёт свою водку», — с нежностью подумал Игнат.
— Живой ещё? — нетерпеливо спросил Игнат.
— Что мне сделается, — вальяжно протянул Зуевич.
—
Игнат сидел у норы уже третий день. Вчера, на второй день, пошёл мелкий, серый дождь: лился из низко занавесивших небо облаков, крупными набухающими каплями валился с веток, задувал между сосен промозглый ветерок. Игнат недвижно сидел под деревом, тупо глядя на наваленную над лазом кучу. Вчера Зуевич блевал там в норе, это Игнат отчётливо слышал, потом долго жаловался на то, что сверху затекает вода, что ему холодно и мокро, потом принялся орать что-то про Бога, чертей, святых и социализм, про то, что ему жрать хочется, что ему холодно, душно и что сил у него больше нет. Игнат его успокаивал, ходил вокруг, приговаривая, что нужно терпеть. Потом, кажется, Зуевич снова принялся пить свою водку — целого штофа на его птичий организм было много, на два дня хватило. Потом он уснул. Игнат сидел рядом в моросящей сырой ночи.
— Выпусти, Игнат! — вдруг захрипело из-под земли. — Выпусти, прошу тебя!
Наваленная над лазом куча затряслась, зашевелилась: Зуевич принялся отпихивать брёвна, ветки, пытаясь разобрать завал над головой. Игнат сорвался с места, бросился на кучу, обхватив её руками, навалившись сверху. Царапало что-то снизу, рвало, трясло завал: косо открылась чёрная дыра в переплетении веток, и Игнат увидел в провале бледное, безумное, перемазанное жидкой грязью лицо студента. Игнат быстро подгрёб разлапистую сосновую ветку, закрыл ей провал.
— Сиди! Сиди! — визгливо закричал Игнат, а Зуевич снова принялся трясти ветки, шевелить брёвна, колотить. Куча шевелилась, как живая, начала проседать внутрь, обваливаться. Студент кричал, заходился кашлем, выл, плакал, хрипел, умолял. Игнат соскочил с кучи, нашёл лопату, принялся быстро закидывать оседающую внутрь кучу песком.
—
Зуевич молчал. Молчал и Игнат, сидя рядом с похожей на муравейник закиданной мокрым песком кучей над входом в морильню. Иногда оглядывался: тихо. Игнату, в общем, не скучно было сидеть так — уже пятый день — но всё-таки из интереса он снял с шеи кожаный мешочек, в котором хранил свистелку Умгу. Он иногда в часы бессонного досуга в подвале близ Сенной, где обретался, доставал эту свистелку, брал её в ладони и смотрел, какие картины ему открываются: странные, непохожие на русские города с плосколицыми узкоглазыми людьми в халатах, с выбритыми макушками и тугими смоляными косицами на затылке. Загнутые уголки черепичных крыш, трепещущие на ветру жёлтые флаги с непонятными замысловатыми знаками, двуколки, в которых один человек вёз другого — и иногда он видел среди этих людей Иннокентия, тоже в халате, с косицей на затылке, совсем местного по виду. Иннокентий куда-то ходил с Умгу, разговаривал с другими людьми на их мяукающем языке. Один раз он видел, как они с Умгу пьют кровь: тёмный загаженный переулок между серых кирпичных стен, зарезанный ребёнок с хохолком на круглом лбу, в красных штанишках с вырезом на заду — эта деталь показалась Игнату очень смешной, — и склонившиеся над ним два упыря. Любопытно было так понаблюдать за чужой жизнью.
Сейчас Игнат тоже достал свистульку, и как обычно, возникла перед глазами световая прорезь, в которой нестерпимо ярко заблестело тысячами искр пронзительно-синее море, забелел перепончатый парус над головой, различил Игнат тёмные борта какого-то корабля, деревянную палубу, протянувшийся по ней толстый канат. Умгу и Иннокентий сидели на палубе, разговаривая о чём-то на том иноземном языке — Игната немного раздражало, что он не мог понять их слов. В голубой дымке виднелся гористый берег с белыми скалами: Умгу что-то спросила у Иннокентия, показывая на берег; тот ответил. «День у них там, — сделал вывод Игнат. — А у меня вот ночь».
—
Шестой день подходил к концу. Дождь давно прошёл, лес высох, ссохлась и провалившаяся куча над морильней. Ни звука не доносилось оттуда. Игнат в нерешительности бродил вокруг, с нетерпением посматривая то на кучу, то на лежащую рядом лопату. Должно, пора, — решил было он и вдруг подумал: а ну ещё не пора? Может, стоит ещё подождать?
— Веня? Венечка? — позвал он, низко наклоняясь к куче, будто обращаясь к ней, а не к закопанному студенту. Никто не отвечал. «Нет, ещё не пора», — подумал Игнат.
Он загадал себе начать раскапывать студента под вечер — но майский день был долгим, вечер никак не наступал. Игнат бродил по лесу туда-сюда, возвращался к морильне, поглядывал на кучу, на лопату. Один раз он уж принялся разгребать землю и еле смог остановить себя: а ну рано? Можно было всё испортить. Не понимал Игнат, сколько нужно было пролежать в земле студенту, и боялся за него, как за пирог в печке: не то недопечёным вынешь, не то пережжённым. Нет, всё-таки пора, — сказал он себе, но тут же посмотрел на небо за соснами: ещё ведь высоко солнце, а он зарекался только вечером. Нет, нет, остановил себя Игнат. До вечера, до вечера буду ждать.
До вечера он не дотерпел: сил уж не было ждать. А и чёрт с ним, — сказал себе Игнат, принявшись руками разгребать рыхлую землю, оттаскивать в стороны присыпанные ветки, сосновые лапы, зарывшееся глубоко в песок бревно.
— Ну, ну, где же ты? — повторял он, вдыхая влажный, родной земляной смрад открывающегося провала.
Студент был там: скрючившись, лежал в тесной яме, полуприсыпанный обвалившейся землёй, в луже чёрной застойной воды, скопившейся за время дождя, с тускло поблескивающим штофом под боком, с разодранными в кровь ногтями, мертво скособочивший голову с налипшими на длинные чёрные волосы комьями грязи. Игнат вытащил его под мышки из ямы, уложил на песок, принялся трясти, хлопать по белым, уже покрывающимся зеленоватой патиной разложения коже, и уже сейчас, видя, что не разгибаются у него ноги, что не выпускает он из окоченелых пальцев горлышко штофа, не спешит он раскрывать залепленные грязью веки, Игнат видел — нет, не получилось: Зуевич был мёртв, просто мёртв. Игнат орал на Зуевича, колотил его кулаками, рвал с его головы волосы, пинал его, вопя на весь лес «Вставай, вставай, гадина!» — но не мог ничего добиться от коченелого недвижного трупа.
Всё оказалось впустую: месяцы уговоров, труд выбора места, рытья морильни, многодневное бдение над ямой — всё оказалось напрасно! Игнат визжал, катался по песку, больно прокатываясь по шишкам, лупил по стволу сосны лопатой, как топором, оставляя длинные свежие засеки, потом принялся рубить лопатой по шее Зуевича, наконец отсёк голову, пинал эту голову, закатывая её в кусты, доставал из кустов, снова принимался пинать по лесу, закатил на самый берег, а там схватил с песка за волосы и принялся орать в мёртвое, застывшее лицо с поджатыми зеленовато-белыми губами:
— Ушёл? Ушёл от меня, гадёныш?! Ушёл от меня? Укатился от меня? Куда прыгнул? Куда ускакал? На тот свет ускакал? Отвечай, скубент! На тот свет ускакал? Спрятался?! Лыбишься теперь? Чего глазёнки-то зажмурил? Отвечай! Чего, смешно тебе? Смешно? Не получилось у меня? А почему не получилося-то? У Иннокентия получилося, а у меня нет? Почему? Отвечай! Отвечай, скубент! Ууу, гадина! — и, широко размахнувшись, запустил голову студента в безразлично плескавшееся море, а потом, в застилающем глаза кровавом беспамятстве, визжа, сорвал с себя мешочек со свистулькой Умгу и далеко зашвырнул его в воду, а вслед за ним — и крест с шеи.
-
Игнат с возрастом, кажется, умнеет и становится более relatable. Вот он даже ничего чудовищного не делает, только пробует приобрести товарища для себя.
-
И впрямь обидно получилось
-
Каждый раз читаешь и думаешь: "Вот ты какой, кромешный ад", а потом оказывается, что есть ад еще кромешнее.
Что-то заставляет вдруг задуматься, что, при всей гениальности этой ветки вызывать к жизни такие вещи - это...как бы... вредит здоровью и создает карму на тысячу лет вперед.
|
На втором этаже китайцев не обнаружили — только Расчёскина на сеновале: калужанин бродил в пыльном полумраке между примятых куч зелёного свежего сена, тыкал в них штыком, распинывал сено сапогами, но никого не нашёл. Пуста была и верхняя комната: здесь нашли пару длинных медных трубок, больше на флейты похожих, — сперва и не поняли, зачем они нужны, потом сообразили: и блюдечко с горкой серого пепла тут было, и на лавки были навалены грязные подушки, перины, и в воздухе ещё витал застоявшийся сладковатый перегар. Загажено тут было: узорчатый коврик на дощатом полу был заляпан грязью, по углам — тряпьё, мусор, консервные банки, поваленная прялка, спиртовка с грязной, с чёрными разводами пригоревшей каши кастрюлей, щербатые эмалированные кружки, разодранная религиозная книга полуставом на полу. Нефёд Артюхов заглянул в одну из боковых комнаток за дощатой перегородкой и скривился — оттуда резко несло калом. Выдранные страницы из книжки тоже там нашлись.
Пока искали наверху, на первом этаже разбирались с китайцами, засевшими на печке. Сперва им кричали из сеней: те не отвечали и не стреляли. Вышедший наружу Шестипал, единственный последовавший указанию Фрайденфельдса, принялся было целиться через окно, но никого не видел. Затем Седой с Петровым и Илюхой осторожно, пригнувшись, прошли в горницу, прокрались под продырявленными десятком выстрелов полатями, выглянули наверх — на них с печки по-совиному таращился белый от ужаса, ничего не соображающий безоружный ходяшка. Его товарищ, с которым они переругивались, сидел рядом, скрючившись, с бритым черепом, раскрывшимся на макушке как цветок: китаец выстрелил себе из обреза в рот. Обрез так и остался у мертвеца в руках, второй ходяшка даже забрать оружие не попытался. Седой с Петровым принялись стаскивать китайца с печки и только тогда увидели, что нога у того ранена, перевязана на ступне грязным уже бинтом. Выволокли его во двор, вопящего от боли, с разматывающимся, волочащемся по полу бинтом, бросили у крыльца.
— Чего с ним делать-то? — оглядывался по сторонам Илюха.
— Да списывайте падлу! — гаркнул с завалинки очухавшийся уже Живчик, которому Агеевы бинтовали торс, устраивали перевязь для правой руки.
— Братишка, ты как? — подошёл к нему Седой.
— Амба! — страдальчески мотал чернявой кудрявой головой Живчик. — Небо с овчинку показалось!
— Вольно ж тебе было под пулю лезть, — ухмылялся Ерошка. — Терпи таперича.
— Ты ж Живчик, жить, стал быть, будешь, — добавлял наблюдавший за перевязкой Дорошка. — Не зря ж тебе такую кликуху дали.
— Это от фамилии, — кривясь от боли, когда Ерошка трогал его руку, отвечал Живчик. — Живчинский моя фамилия.
— Поляк, что ль? — настороженно спросил Ерошка.
— Сам ты поляк! Русский я!
— А мабуть, из жидков? — с глумцой поинтересовался Дорошка. — Что-то я русаков с такими фамилиями не знаю.
— В морду б тебе съездить, вша окопная! — к наслаждению обоих братьев огрызался Живчик.
— В морду ты, мил друг, не скоро ещё кому-то съездишь, — философски заметил Ерошка. — У тебя, кажись, лопатка сломана, аж хрустит. Я хоть не фершал, но такое на фронте видал. Славь ещё Бога, что кровь изо рта не идёт. Погодь, под локтём пропущу, сейчас больно будет.
— Давай, сыпь на весь двугривенный, — обречённо выдыхал Живчик.
Ходяшка, трясясь от ужаса, лежал под ногами красноармейцев, скрючившись: Шестипал походя пнул его сапогом под рёбра. Поля стояла поодаль, зябко обхватив себя руками, дрожа. К красноармейцам приближаться она опасалась.
— Барышня, а барышня, — несмело подошёл к ней юнга Петров, — вы б в дом, что ли, зашли-то, чего на ветру стоять.
Поля не отвечала, странно глядя, как по двору разбредаются красноармейцы, как со стороны поля тащат пулемёт латыши, собирающиеся занять позицию за домом. «Да нет там никого, не торопись ты так, надорвёшься!» — кричали им. Латыши, однако, прилежно тащили пулемёт, куда велено: за дом, мимо трупов ходяшек, раскиданного по двору хлама.
В доме тем временем продолжали спорить из-за денег. Мухина, который завладел червонцами, калужане просто так отпускать не собирались, окружив и галдя. Мухин выяснил их имена.
— Ты хучь и комиссар, а казначеем мы тя не выбирали! — заявлял моряку косоносый калужанин, Клим Кузнецов.
— По справедливости надо делить! Законный трофей! — добавлял рыжий и рябой Влас Цыганков, грозно зыркая на Мухина.
— Ты свово Федьку не выгораживай, потому он крыса! — частил третий, Терёшка Ульянин, с костлявым, пучеглазым лицом и впалыми щеками. — Крыса и есть! Мы ходяшку закололи, за второго взялись, а он ему за нашей спиной за пазуху полез!
В загаженной и захламлённой как притон горнице, у входа в которую и разворачивался спор, на полу действительно лежали два мёртвых китайца, с разбитой головой и штыковыми ранами в груди.
— А вы второму за пазуху не лазали? Я вообще червонцы отдать хотел! — оправдывался Зотов из-за спины Мухина. — Что я, вас, махру, не знаю? Прикарманили бы, никто про эти деньги вообще не узнал бы!
— Варежку закрой, крыса! Не с тобой разговор! — кричали на него калужане.
Из двери кладовой в сени вывалился ещё один калужанин, с вощёной головой сыра в руках.
— Там жрачка, братцы! — довольно объявил он, обходя распластавшегося на полу мёртвого ходяшку с лежащей подле него иконой.
-
Как книгу читаешь. Хорошую.
|
Но ему очень хотелось кушать.
«Мальчик у Христа на ёлке», Ф. М. Достоевский
23.12.1863,
Санкт-Петербург,
Веха 36 (2)
Целый день сегодня Игнат бродил по Питеру, вышел с утра: свадебно-белые сутаны дыма дыбились из печных труб в стеклянное небо, инеем были покрыты чёрные перила набережной, здания за белоснежной, неживой равниной Невы в мутной морозной дымке были как выписанные. Мороз стягивал грудь тисками: проходили мимо люди с брусничными щеками, с поднятыми шинельными воротами, проезжали краснорожие ямщики на исходящих едким паром лошадях, со щенячьем поскуливанием скользили по укатанному снегу санки на высоких полозьях. Вынырнул и ухнул обратно короткий, слепяще-яркий зимний день: солнце прокатилось бронзовым шаром между огненно-чёрных гробов, коробов, кораблей домов, небо густо засиневело, потом почернело. Керосинно-жёлтые углы, жаркий парной дух из дверей полуподвальных харчевен, замотанные разносчицы на обложенных тряпками коробах с пирогами, окоченевшие красные руки торговцев, принимающих медяки, — а Игнат всё никак не мог найти, что искал.
Искал и на паперти церкви Спаса на Сенной, где, как собаки у забора, жались друг к другу нищие, и в подвалах знакомых халатников искал, и уже вечером долго бродил между покосившихся, унылых деревянных домишек на Песках, где через один тускло горели скипидарные фонари, и толкался среди столпотворения в Гостином дворе, где в банном, надышанном воздухе толкались плечами покупатели, дожидаясь, пока приказчик завернёт в цветастую с искрой бумагу подарочную игрушку, и только выйдя на широкий, радужными дугами газовых фонарей лучащийся Невский — наконец, нашёл.
Девочка стояла у широкой, ярко освещённой витрины магазина игрушек, зачарованно глядя в красную бархатистую её глубину. Одета девочка была в старенькое, не по погоде лёгкое пальтишко, на голову была накинута ворсистая серая шаль. Лет одиннадцать-двенадцать, — определил Игнат, — личико красивенькое, ангельское, с крупным румянцем по белым, с яблочной круглинкой щекам, и румянец-то ещё скорей от мороза, не от чахотки. Пойдёт, пойдёт. Игнат подошёл, встал рядом. Девочка, зябко обхватив себя руками, переступала ногами в стоптанных ботиночках, вглядываясь в витрину. А там было на что посмотреть — в середине ёлка в огоньках, разноцветных бумажках, яблоках, а вокруг ёлки, в обтянутом муаром вертепе целое представление: механически движущиеся куколки на ниточках, в нарядных платьях со всамделишными, только очень маленькими рукавами, оборочками, кружевными воротничками — и движутся они по кругу, плавно переступая затянутыми в крошечные чулочки деревянными шарнирными ножками, и в блестящей цветной бумаге вокруг коробочки на блёстками засыпанном полу, и со сладким томлением тренькает музыкальная шкатулка…
— Нравится вертепчик? — спросил Игнат. Девочка обернулась, тоскливо посмотрела на Игната.
— Дядя, дай копеечку, — попросила она.
— Я тебе пряничек куплю, — сказал Игнат. — Не холодно так-то стоять?
— А я и не стою, — деловито ответила девочка. — Я по улицам хожу. Меня мамуля выгнала. У ней сейчас человек, ей комната нужна.
— А, — догадался Игнат. — Гулящая твоя мамка?
— Гуляет, — важно согласилась девочка. — Раньше дворовой была, меня от барчука прижила, а как волю-то дали, нас из усадьбы и выгнали, — говорила она это всё легко, будто по заученному тексту рассказывая жалостливую историю. — Теперь вот здесь, в Коломне живём, у немки комнату снимаем. Только она всё меня на улицу выгоняет, как кого приводит. Летом-то ничего было, а теперь вот тяжело, холодно шибко. Так ты мне пряничек-то где купишь?
— А вот пойдём, — Игнат взял девочку за руку, — в трактир зайдём. И чаем угощу. Чаю хочешь?
— Хочу, — согласилась девочка. — Только, дядь, я ведь сама не гуляю пока.
— А чего ж так? — спросил Игнат.
— Да вот уж так, не гуляю, — с несмелым, но уже отчётливо женским лукавством ответила она, косо посматривая на Игната, примолкла было, но тут же принялась объяснять: — Мне мамуля пока гулять не велит, говорит, надо годок ещё подождать. Пока, говорит, за первый раз немного дадут, а то и вовсе обманут. А как подрасту, можно будет с первого-то раза и тридцать, и пятьдесят целковых принести. А это ой как много: у меня мамуля по пяти, по три приносит. И то: приставу отдай, дворнику отдай, немке-злюке отдай, дяде Семёну тож отдай, а он всё пьёт, пьёт и пьёт, только и знает, что пить. Эдак ничего и не остаётся…
— Тебя как звать-то? — спросил Игнат.
— Матрёша, — ответила девочка.
—
— Нет, ну это я и не знаю… — нечленораздельно, перекатывая во рту карамельку, протянула Матрёша, сыто развалившись на стуле. Они сидели в трактире в маленьком переулке, коленом шедшем от Сенной площади к Садовой улице: на липком столе стояла пустая тарелка с остатками свиной рульки с нетронутым глазком горчицы, два полупустые стакана пива, корзинка с серым хлебом, а рядом — несколько карамельных конфеток и смятых фантиков. Матрёша уже объелась — начала голодно, бойко, навалившись локотками на стол, жадно прихлёбывая тёмное пиво, тарелку наваристых, с кружками масла, щей уплела в момент, а рульку доедала уже через силу. — Нет, не знаю… — повторила она, маслянисто глядя на сводчатый потолок трактира, на спины извозчиков в поддёвках, с руганью режущихся в карты за соседним столом. От тепла, еды, пива Матрёша разомлела, и теперь говорила тянуто, сонно. — То есть ты, дядя, не сам хочешь, а к барину какому-то меня поведёшь? А то ты-то сам на барина при деньгах непохож. А за первый раз много денег полагается.
— К барину, к барину, — подтвердил Игнат. — Ты же видела, я гонца с бумажкой отправил? Вот, это к барину. Он меня послал искать, вот я тебя и нашёл. Скоро придёт.
— А барин-то из себя каковский? — с любопытством спросила Матрёша.
— А тебе какая нужда знать, каковский? — усмехнулся Игнат.
— Ну как, — пьяно склонила голову набок Матрёша. — Всё же нужно знать. Вдруг он злой больно? Мамуля говорила, есть такие злые, бьют…
— Нет, — покачал головой Игнат. — Этого барина я хорошо знаю, он не бьёт. Добрый барин, жалостливый.
— А денег много даст?
— Я ж говорил уже. Сто рублей даст.
— Точно даст?
— Точно, точно, — заверил Игнат. — Не первый раз я уж для этого барина девочек ищу. Сто рублей даёт каждой. Богатый барин, щедрый.
— Не знаю… — повторила Матрёша, сонно приваливаясь к желтоватым обоям. — Мамуля говорила, чтоб хорошо платили, нужно платье хорошее иметь, помадочку тоже обязательно. Капот, бельё чистое, кринолин какой-никакой, чтоб на вид — ну не барышня, а вроде как барышня. Иначе совсем мелко платят…
— Сто рублей тебе мелко, что ли? Ишь, королевишна! А мамка по три рубля берёт.
— Когда и по пять, — разлепив глаза, деловито заметила Матрёша. — Но у ней ведь и кринолина нет.
— У ней нет, а у тебя появится? Ничё, ничё, Матрёша, не волнуйся. Что одёжа грязная, это не беда, это тебе мамка наврала всё, что мужики баб за одёжу любят. Что одёжа? В баню пойдём, там одёжа ни к чему.
— Баня — это хорошо, — протянула Матрёна. — Я уж, почитай, сколько в бане-то не была, чешуся вся… Дядя Игнат, а купи мне папироску. Поела, и так подыми-ить сразу хочется… Мне мамуля говорит, что мне курить вредно, потому что бывает чахотка. У нас комната-то, ну в Коломне, сырая больно: я-то пока ещё не болею, а вот мамуля болеет, Ванечка маленький тоже болеет… Да, Ванечке-то надо хоть хлебушка завернуть, и вот карамелек ещё, — Матрёша принялась искать по карманам повешенного на спинку стула пальтишка, вытащила замызганный носовой платок. — А пиво это, дядя Игнат, гадость, фу! Только и пила, чтоб не всухомятку, а горечь-то, ну чисто лекарство! Как его только пьют? И в голове сейчас всё крутит, крутит…
Матрёша всё говорила что-то, а Игнат не отвечал — он уже приметил, как с лесенки в полуподвальный зальчик со сводчатыми закопчёнными потолками спустился средних лет скромно одетый господин в штатском сером пальто, с мятым цилиндром и кожаным портфельчиком в руках, с большим шишковатым лбом, жидковатыми светлыми волосами и неряшливой рыжей бородой, переходящей в баки. Сейчас этот господин ищуще оглядывался по сторонам: Игнат поднялся, взмахнул рукой, привлекая внимание вошедшего, и показал ему на Матрёшу. Господин окинул девочку взглядом, коротко кивнул и торопливо вышел.
— Одевайся, — сказал Игнат Матрёше. — Пошли.
—
— Ну как, Фёдор Михалыч? Подходит? — бодро спросил Игнат, вместе с Матрёшей проходя в раздевалку отдельного нумера Ямских бань. Фёдор Михайлович уже дожидался, сидя на лавке без сюртука, в белой штопаной сорочке, со спущенными помочами. Сейчас он разувался и, увидев прибывших, торопливо вскочил в одном сапоге.
— Что? Что ты говоришь, Игнат? — застревающим голосом переспросил Фёдор Михайлович.
— Подходит, спрашиваю? А ты, Матрёша, проходи, не бойся… — Игнат подтолкнул через порог обомлевшую, прижимающую узелок к груди девочку.
— Матрёша, значит? — торопливо переспросил Фёдор Михайлович и, валко переступая одним сапогом, направился к вошедшим. — Матрёша, стало быть? Какая же ты маленькая, Матрёша… Что ты говоришь, Игнат? Подходит, да, очень подходит. Матрёша… Ну-ка дай я тебе помогу твоё пальтишко снять, ну-ка. А худенькая-то какая! Лепесток, травинка тоненькая… Сколько же тебе лет, Матрёша?
— Двенадцать… будет, — пролепетала Матрёша, со страхом глядя, как суетится вокруг неё барин, помогая снять пальто.
— Двенадцать будет? — задыхаясь, повторил Фёдор Михайлович. — Боже мой, какое платьишко-то у тебя грязное, какое бедное всё! А когда ж тебе двенадцать будет, Матрёша?
— З-завтра, — выдавила Матрёша, как на магните поворачивая голову за барином, который всё обходил её то с одной стороны, то с другой.
— Завтра? — удивился Фёдор Михайлович. — В Рождество твой день рождения?
Матрёша только оцепенело кивнула головой.
— Кулёчек-то сюда свой дай, — часто дыша, нервно приговаривал Фёдор Михайлович. — Вот сюда положим, никуда он не денется. Я тебе и ещё еды куплю потом, половому скажу.
— Мне дядя Игнат, — беспокойно оглянулась Матрёша, — говорил, вы сто рублей дадите.
— Дам, дам! — поспешно подтвердил Фёдор Михайлович и сел на лавку. — Что сто? Двести дам! Двести дам, Матрёша, за красоту-то такую, как куколка, чисто куколка. Ну садись, садись сюда, — он похлопал себя по ляжкам в полосатых брюках. — Не бойся, я не укушу же! Лёгонькая ты какая, чисто лепесточек! Замухрышечка! Бедненькая, сироточка, да? Сироточка… Снимай, снимай скорей своё платьице, в баньку сейчас пойдём! Пойдём, пойдём. Хочешь, не хочешь, а теперь уж пойдём. В Рождество, в один день с Христом народилась, надо же, и так бывает! А почему бы не бывать? Всякое бывает, — приговаривая это, он водил большими, желтоватыми руками по бокам, ногам онемелой, от страха боявшейся шевельнуться девочки, задирал серый льняной подол, отстёгивал толстый вязаный чулок, водил пальцами по оставшемуся на коже рифлёному следу от чулочной манжеты, щекотал бородой тонкую шею с выступающей косточкой позвонка. Держа девочку за плечи, Фёдор Михайлович склонился, прикоснулся губами к вздрогнувшей грязной коже на шее девочки, но тут же вскинул голову, подтолкнул Матрёшу. — Вставай, вставай, ну же! Иди, иди туда! — показал он на дверь в помывочную.
— Фёдор Михалыч, а моя-то комиссия как же? — спросил Игнат, всё так и стоявший всё это время у двери.
— Дам, дам! — раздражённо откликнулся Фёдор Михайлович, наклоняясь, чтобы наконец снять второй сапог. — После, после дам, Игнат, подожди пока тут!
—
Фёдор Михайлович, голый, наскоро вытершийся, с мокрыми липнущими ко лбу волосами, некрасивым на тощем теле животиком, впалой, покрытой редкими волосами грудью, сидел за столом у окна в полутёмной раздевалке: оплывший огарок в бронзовом подсвечнике стоял между ним и сидящим напротив Игнатом, остывал четвертьвёдерный самоварчик с сизой окалиной по донцу, напротив каждого стояли стаканы с нетронутым рубиновым чаем. Матрёша из помывочной не возвращалось: серое платье её, ботики, пальтишко, шаль, кулёчек — всё в беспорядке, смешанное с одеждой Фёдора Михайловича, лежало по лавкам.
— Вот, растлил я ребёнка, дитя растоптал, — сказал, наконец, Фёдор Михайлович. — Противен я тебе, Игнат? Скажи.
Игнат подумал, что бы сказать, но не придумал и промолчал.
— А себе я противен, мерзок, — горько сказал Фёдор Михайлович. — И ведь в день-то какой. В Рождество Христово, и в её собственный день рожденья… Вот уж сделал подарок, нечего сказать. У меня жена больная в Москве, мне при ней бы быть — а не могу, гадко! Лекарства вокруг, баночки, микстурки, и всё будто смерть, смерть в каждом углу сидит! Испугался я смерти, убежал я от неё. Слышишь, Игнат? Вот ведь как ничтожен я: жену в Москву отвёз, а сам от неё назад в Питер сбежал! Может, последнее для неё Рождество, каково там ей сейчас? А я тут вот по девочкам бегаю. Да и по каким! Мне курицы не надо, мне цыплёночка подавай! Свежатинки! Понимаешь?
— Что ж не понять? Понимаю. Всякому своя нужда, — медленно сказал Игнат, молча глядя в окно, где за сдвоенным огоньком отражения свечи пергаментно желтела снежная ночь, очень светлая, как всегда, когда смотришь на зимнюю ночь из тёмной комнаты. Был уже первый час ночи, но окно в доме напротив всё не гасло, светило жёлтой прорезью из-за малиновых портьер, и не виделась, но угадывалась зелёным просветом в прорези рождественская ёлка там.
— Жалок я, Игнат? — вкрадчиво спросил Фёдор Михайлович.
— Пожалуй, и жалок, — вежливо согласился Игнат.
— Да нет! — вдруг истерично возопил, гулко разнося голос по пустой раздевалке, Фёдор Михайлович. — Жалеть-то меня не за что! Вон её пожалей, а меня не за что жалеть! Голенькая девочка изнасилованная в баньке лежит, кого же жалеть, как не её? А меня распять, распять на кресте надо, а не жалеть!
Он вскочил из-за стола, полотенце спало с бёдер, Игнат увидел напряжённый, торчащий из зарослей волос член, и тут же Фёдор Михайлович, по-лягушачьи шлёпая босыми ногами, бросился обратно в помывочную, бахнул дверью. Игнат, проводив Фёдора Михайловича взглядом, остался один. Тонули во мраке ореховые панели, дрожал огонёк свечи над столом, прошлёпали по коридору шаги полового, глухо хлопнула где-то дверь. И в баньке шумели, с надрывом этак.
—
— Ты ведь кровь пьёшь, Игнат? — нарушил молчание Фёдор Михайлович, вернувшись.
— Пью, — равнодушно ответил Игнат.
— А у меня пить будешь?
— Не… — лениво протянул Игнат. — Я сегодня напился уж. Бабу у нужника подстерёг. Чего на каждого-то кидаться? — усмехнулся он. — Город большой, место хлебное. Всем хватит.
Помолчали немного. С глухим цоканьем копыт о мостовую через снег проехал ночной извозчик, забирая припозднившегося гостя из бани. Игнат, бессмысленно глядя в окно, проследил, как в рыжем фонарном свете медленно удаляются по пустой улице санки с седоком в толстом тулупе с поднятым овчинным воротником.
— Ты, когда убиваешь, чувствуешь потом что-нибудь? — тихо спросил Фёдор Михайлович.
— Как не чувствовать? Конечно, чувствую. Упоение. Хорошо так потом, тепло, радостно. Только это не от убийства зависит, это крови напиться надо.
— А в Бога ты веришь? — шёпотом спросил Фёдор Михайлович. — Страх Божий чувствуешь?
— Нет никакого страха божьего, — скучно ответил Игнат. — Бога нет, что хошь, то и делай. И души нет. Человека вскроешь, что там? Сердце, кости, требуха всякая. А души я там не видел.
— И жизни вечной тоже, выходит, нет?
Тут Игнат призадумался, глядя в тёмный угол раздевалки.
— Жизнь вечная-то есть, — наконец, ответил он.
— Ага! А как же может быть жизнь вечная без души?
— Как это может быть, я не знаю, — со вздохом сказал Игнат. — А есть. Под землёй полежать надо только.
— Не понимаю.
— А понимать-то и не надо, — сказал Игнат. — Это не от ума идти должно, умом ты только к тому придёшь, что в тени собственной начнёшь сомневаться. В это верить, Федя, надо. Про Лазаря историю знаешь? Там всё сказано. Спроси-ка вон у полового Новый Завет, у него, чай, есть. Прочитай.
— Что же спрашивать, у меня и при себе есть, — сказал Фёдор Михайлович. — Вон в портфельчике. Достань-ка, Игнат, прочти мне.
Книгу достали, раскрыли на столе. Игнат нашёл нужное место, принялся мерно и медленно, без выражения, читать, водя пальцем по строчкам:
— Исус же, опять скорбя внутренно, проходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Исус говорит: отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: господи! уже смердит; ибо четыре дни, как он во гробе.
Он энергично ударил на слово: смердит.
— Исус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу божию? Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Исус же возвел очи к небу и сказал: отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Исус говорит им: развяжите его; пусть идет. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Исус, уверовали в него.
— Всё об воскресении Лазаря, — отрывисто и сурово прошептал он и замер, прямо и неподвижно глядя на Фёдора Михайловича. Тот не смотрел на Игната, отвернувшись в сторону, дрожа и холодея, будто сам всё это видел. В раздевалке было натоплено, стойким жаром несло от выступающего кафельного угла, за которым была печка, но Фёдора Михайловича трясло, как в лихорадке: он сидел сгорбившись, зажав слабые, тонкие руки между голыми коленями, глядя под стол, боясь встретиться взглядом с холодным водянистым взглядом Игната. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в пустой раздевалке упыря и развратника, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут пять или более.
— Так что же ты, новым Лазарем себя считаешь? — наконец, разлепил губы Фёдор Михайлович.
— Такого не скажу, а описано похоже, — уклончиво ответил Игнат. — Вечной жизни ищешь? Вот к ней дорога. Вот ты человек, скажем. Человек?
— Предположим, — опасливо согласился Фёдор Михайлович, не поднимая головы.
— А я вот уже и не человек. Был когда-то, вестимо, а ей-богу, не могу представить, как так я человеком был. Если и был когда, то давно, не грех и забыть. А перестал — и жизнь вечную обрёл, да такую, сударь мой, что живу не тужу вот уж, может, тысячу лет. Выходит что? Выходит, человек — это то, через что надобно переступить.
— Кому надобно-то?
— Тебе же, — непонимающе сказал Игнат. — Другому бы не предложил, а тебе предлагаю. Нравишься ты мне, Федя. Давай я тебя в землю закопаю?
— Ты чёрт, — вдруг Фёдор Михайлович вскинул взгляд на Игната, весь напряжённо выпрямившись за столом. — Смотрю на тебя и чёрта вижу. С чёртом говорю.
— В зеркало посмотри, Исусик недоделанный, — оскалился Игнат. — Я, может, и чёрт, а ты скотоложец. Сам же к ней, — кивнул он на дверь, — как к скоту отнёсся, сам покаялся потом, слёзками умылся, а назавтра то же самое. Тьфу! Только мучаешь себя! Слабый ты, ну так и будь сильнее: я и способ знаю. Спрашивал ты меня, жалко мне тебя или нет? Жалко, Федя! Потому и предлагаю. Пойдём! Вырою тебе морильню на Лисьем Носу, полежишь там с месяцок…
Игнат говорил, очевидно увлекаясь своим красноречием, всё более и более возвышая голос и насмешливо поглядывая на Фёдора Михайловича; но ему не удалось докончить: Фёдор Михайлович вдруг схватил со стола стакан чаю и с размаху пустил его в Игната: не попал — стакан ударился о стену, разлетелся на куски, глухо брякнулся об пол подстаканник.
— Ты чего кидаешься-то?! — воскликнул Игнат, вскочив со стула, весь в брызгах. — Вот дурак! Ей-богу, как баба! Я для смеху предлагал, а ты обиделся! Ну, ты обиделся, а я в ответ обижусь. Деньги давай. Засиделся я с тобой.
— Поди прочь, — отчётливо произнёс Фёдор Михайлович.
— Деньги давай, — тупо повторил Игнат.
— Нет денег, — тихо сказал Фёдор Михайлович, опустив взгляд. — Ни тебе, ни ей нет. Давеча всё в карты просадил.
— То-то номер, — удивился Игнат. — Чаем кидается, чёртом обзывается, а у самого даже ста рублей, которых девочке обещал, нет. А коль найду?
— Да нет у меня денег! Всё, всё проиграл, в прах! — воскликнул Фёдор Михайлович.
— А вот поищу, поищу! — настаивал Игнат, расхаживая по тёмной раздевалке. — Гнилой ты человек, Федька: думается мне, врёшь ты всё опять!
Игнат схватил пальто Фёдора Михайловича с вешалки, порылся в карманах, нашёл горсть медяков, не глядя, сунул их себе в карман, затем поднял с лавки сюртук, достал портмоне.
— Ага, — сказал Игнат, заглядывая в портмоне. — Сотни и верно нет, но всё-таки соврал ты, Фёдор, а другого я от тебя и не чаял. Четвертная-то имеется, и серебром что-то… ну-ка… — Игнат выложил деньги на стол под затухающий, дрожащий красноватый огонёк свечи, принялся считать, — Четверная ассигнациями и двенадцать рублей серебром, ещё и с полтиной. Беру.
— Хоть бумажку-то оставь, — жалобно попросил Фёдор Михайлович, потянувшись к деньгам. — Всех средств не лишай. Мне же жить на что-то надо.
— Унижаешься опять? — насмешливо сказал Игнат, забирая деньги. — Вот уж я за тобой эту черту давно приметил. Сладко тебе унижаться передо мной? Ты ж знаешь, что не дам, а умоляешь — чисто девка, те тоже всё «нет, не надо», а сама-то уж зад приподняла, чтоб подол ловчей задрать. А вот возьму я сейчас, деньги твои в окошко выкину, полезешь по снегу собирать?
— Не надо! — взвизгнул Фёдор Михайлович, вскочил, схватил было Игната за руки, но Игнат оттолкнул его.
— Выкину, выкину! — крикнул Игнат, подходя к окну. — Сиганёшь за деньгами вниз? Второй этаж всего, а снежок мягонький! Будешь ползать по снегу, собирать?
Игнат влез на подоконник, с силой дёрнул дребезжащую стеклами раму, рвя бумагу со щелей: Фёдор Михайлович кинулся к нему, схватил за спину, останавливая, но Игнат с силой отшвырнул его, распахнул и внешнюю раму — в натопленную комнату ворвался морозный, перехватывающий дыхание воздух: трепыхнулся и погас свечной огонёк, пустив тонкую сизую струйку дыма.
— Ладно, ладно! — истерично закричал Фёдор Михайлович с пола. — Только я пальто накину!
— Нет, дружок, дудки! В пальто-то каждый может, а ты голенький по снегу поползай! Ничё, минута, всё соберёшь, и назад в тепло, а? Швейцар над тобой посмеётся, конечно, как ты мудями трясёшь, ну да тебе ж только в сладость это, да? А, погоди, — вдруг остановился Игнат во внезапном прозрении, — я тебе лучше удовольствие приготовлю: не стану кидать, а Матрёше эти деньги отдам, а ты у неё в коленках ползай, выпрашивай. Ох, сладкое тебе унижение будет! Готов на такое?
— Отдай, отдай ей всё! Но хоть рубль мне оставь! Хоть полтину! — взмолился Фёдор Михайлович.
— Ни копейки не оставлю, и на извозчика не оставлю, сам домой шлёпай, и пальто заберу, — сказал Игнат, слезая с подоконника.
— Пальто не бери! — Фёдор Михайлович, весь в гусиной коже, с мокрыми, вислыми волосами бухнулся на колени перед Игнатом.
— А вот возьму и пальто: Матрёша заложит, ещё копеечку выручит. Ой, простудишься, ой, заболеешь, Федя, после баньки-то! Ну поползай, пресмыкайся передо мной, ещё попроси, не стесняйся! Мне-то деньги что? Забава! — приговаривал Игнат, глядя, как Фёдор Михайлович ползёт к его ногам — голый, жалкий, скрюченный. — Сапоги разве обновить, ну да ничего, не в таких хаживал. А вот поглядеть, как ты у Матрёши будешь денежку просить — это забава капитальная, на это поглядеть любопытно! Эх, Федя, предлагал я тебе через себя переступить, а ты червяком оказался… Радуйся, гниль! Тьфу на тебя! Матрёша! Матрёша, иди сюда!
Фёдор Михайлович вдруг вскочил, бросился к выходу из номера, но Игнат опередил его, загородил дверь, сильно толкнул в грудь.
— Куда, куда, сволочь?! — заорал Игнат.
— Пусти, Игнат, Христом-богом заклинаю! — заливаясь слезами, запричитал Фёдор Михайлович. — Не смогу в глаза ей смотреть, хоть так пусти, без всего!
— Не сможешь смотреть? А давеча-то вон как вокруг неё плясал! Матрёша! Матрёша! Где ты там?!
И тут Фёдор Михайлович закатил глаза, пошатнулся и спиной повалился на пол. Худое, тощее его тело выгнулось дугой, голова мелко затряслась, стукаясь затылком о пол, судорожно дёргались веки, рот косо раскрылся на искажённом лице, на губах выступила пена, и вместе с тем и на Игната напал припадок яростного безумия — он рухнул на колени перед корчащимся Фёдором Михайловичем и, схватив его за голову, впился, вгрызся зубами в холодную, трепещущую шею, рвал хрящи, жилы, глотал горячую, живую кровь, и сам не хотел, но зажмурился.
Когда Игнат зажмуривался, он сразу будто валился в колодец с чёрными склизкими стенами, и обычно это было невыносимо, скорей стремился Игнат раскрыть глаза, чтобы избавиться от этого кружащего, несущего вниз чёрного водопада, но в этот раз водопад был из крови, и в ледяном, нестерпимом ужасе пробивалось болезненное, чудовищное наслаждение, как от того, чтобы резать себя, жарить себя, жрать себя, и Игнат не открывал глаз, глотая кровь, чувствуя, что этот поток его тащит и тащит, лишая воли, не давая вынырнуть, и из последних уже сил Игнат закричал «Не так, не так!» — и оторвался от тела, раскрыл глаза.
Всё было тихо. Привычные к буянствам гостей половые не обращали внимания на крики из номера, стыло дуло из распахнутого окна, в рыжем фонарном свете из-за окна чернели на столе погасший огарок свечи, самовар, Библия. Лежали по углам сапоги Фёдора Михайловича, бледнело по лавкам бельё, лежали по полу осколки разбитого стакана, подстаканник, бесформенный чёрный ком пальто.
— Матрёша? Матрёша? — измождённо, хрипло позвал Игнат, откинувшись на лавку. Никто не отвечал. Игнат посидел немного, потом встал и пошёл в помывочную.
Помывочная была темна, выложенный мелово сизовеющим во мраке кафелем бассейн был пуст, в унылом порядке стояли шайки на полках, смутно проглядывалась цветочная мозаика мелкой плиткой по стенам. Девочки не было. Игнат озадаченно прошёл в один конец зальца, в другой, заглянул по углам — никого. В парилке было так же холодно, темно и пусто. Сбежать не могла — окна были целы, а другого выхода из номера не имелось. «Очень странно», — сказал себе Игнат и вернулся в раздевалку.
Фёдор Михайлович лежал там, в луже тёмной крови на полу, с перегрызенной глоткой. Матрёши нигде не было. Игнат осмотрел вещи, лежащие по лавкам: сапог, брюки, сорочка, нижнее бельё, полотенце, сюртук, ещё сапог. Вещей Матрёши не было. Что-то произошло, — понял Игнат, растерянно присев на лавку. Нет, нет, не было тут, в бане, никакой Матрёши. И разговора с Фёдором Михайловичем, видимо, никакого не было, а просто — Игнат пришёл один, нашёл его здесь, бьющимся в припадке, убил. А с Матрёшей-то что случилось?
—
— А вы мне папироску-то купите, а, дядя Игнат? — широко, беззастенчиво зевнув, снова заговорила Матрёша, не глядя на Игната. Она лениво покачивалась на двух ножках скрипящего стула, упершись затылком запрокинутой головы в стенку и скучно глядела на закопчённый сводчатый потолок трактира.
Ей вообще было очень скучно тут: сидели уже битые два часа. Хозяин, ражий, бычьего сложенья мужик в смазных сапогах, прошёл мимо них раз, другой, наконец, грубо объявил, чтобы не засиживались, раз доели. Пришлось спросить ещё чаю, а к нему и пряник. Чай Матрёша с удовольствием выпила, а пряник вместе с оставшимися кусочками фруктового сахара завернула вместе с хлебом и карамельками в свой платочек. Всё тараторила она что-то, а Игнат отбрехивался, то и дело оборачиваясь на вход, когда хлопала дверь. Посетителей в этот вечер сочельника было много: подходили к лоснящейся стойке извозчики в толстых тулупах, с кнутами за кушаком, выпивали по рюмке, клали в рот бутерброд, утирая усы, шли обратно; вваливались шумные галдящие компании, со стуком ставил им на стол хозяин кубоватый штоф, приказчик в замызганном переднике носил дымящиеся, пряно пахнущие блюда; за соседним столом краснорожий бритый чиновник с аппетитом резал и клал в рот сочащиеся жиром и маслом блины. Дрожали керосиновые лампы, черно растекалась под низким сводчатым потолком струйка дыма из одной, чадящей. Галдел и гудел трактир.
— Уж пятый раз просишь, — так же лениво ответил Игнат. — Хватит с тебя и еды, чай, два двугривенных на тебя истратил, и за чайник алтын, и за пряник пятак. Всего объела, обжора. У меня, знаешь, в кармане неразменного рубля нет. И что-то ты обнаглела больно. Я тебе что, жених, папироски покупать?
— А я бы ничего, пошла бы за вас, — лукаво ответила Матрёша. — Всяко лучше, чем гулять-то.
— Эх ты, пигалица, не знаешь, с кем связываешься, — усмехнулся Игнат.
— Спать уж охота… — проныла Матрёша, потёрла глаза и со стуком опустила передние ножки стула, размашисто бухнула локтями о жирную, лоснящуюся столешницу, и преувеличенно строго и бодро спросила: — Ну что, дядя, до утра будем барина ждать?
— Да, долговато его нет… — согласился Игнат. — Может, дело какое. Эй, хозяин! — приподнявшись со стула, крикнул он в сторону стойки. — Который час уже?
— Первый уже! — через головы собравшихся у стойки выпивох крикнул приказчик. — Христос уж народился!
— И то верно… — недовольно протянул Игнат. — Не придёт уже, только зря сидели. У твоей мамки, Матрёша, уже ушли все?
— Да уж давно! — возмутилась Матрёша. — Мамуля по ночам сейчас не работает, холодно больно, а у неё одёжка-то лёгонькая, ну вот она по ночам-то дома, а вот уж с утра, ну с полудня, выходит, да, а ещё…
— А ещё иди-ка ты уже домой, — устало сказал Игнат. — Поздно, чай. Засиделся я с тобой. И надоела ты мне своей птичьей болтовнёй уже хуже горькой редьки.
— Можно подумать, вы мне не надоели! Сидите, как истукан, вам то-сё, а вы ни бе, ни ме, только бурчите, как бука, пигалицей обзываетесь. Беседу поддерживать совсем не умеете, вовсе с вами невозможно! А что барин-то не пришёл?
— А бес его весть. Может, в баню раньше ушёл, чем записка моя пришла.
— Ну и ладно, вот и пойду тогда! А вы, дядя, кстати, почему не ели-то ничего? Я вон сколько слопала, аж живот трещит, а вы даже пиво своё не выпили.
— Сыт я, — лениво сказал Игнат. — Иди, иди, пока я не передумал и тебя не сожрал. И я тоже пойду уж, чего мне тут торчать.
— А вы, дядя Игнат, где живёте? — придерживая поднятый воротник пальтишка, спросила Матрёша, когда они с Игнатом поднялись по лесенке из натопленного, душного подвальчика в сразу очень тёмный, обжигающе морозный переулок.
— Тут, недалече, у Сенной, — показал Игнат.
— А, а я в Коломне. Ну, мне туда, значит. Прощайте, дядя Игнат! Спасибо за угощенье! С Рождеством Христовым вас!
— С Рождеством, — машинально откликнулся Игнат.
Но не успел он сделать несколько шагов по скрипящему, искристому снегу, как Матрёша его окликнула:
— Дядя Игнат! Погодите! А как барина-то звали?
— А тебе какая нужда? — недовольно обернулся Игнат.
— Ну так… мало ли! Вдруг встречу?
— Ну, Фёдором Михалычем…
— А фамилия какая? Фёдоров Михалычей-то много!
— А фамилия… — Игнат почесал в затылке. — Он говорил как-то, да у меня из головы вылетело. Не помню… То ли на «рцы», то ли на «твердо»… Нет, не упомню.
-
Не идёт Игнату на пользу долголетие, вот совсем
-
-
С возвращением! Чем дальше, тем ужасней и гадостней, но шедеврально же. Вот Федор Михайлыч аж в гробу завертелся, такое подполье, что снизу уж, кажется, не постучать.
-
Этот пост настолько отвратителен, что он даже отвратительнее всей ветки в целом. Я даже сделал паузу и пока не стал читать следующий.
|
-
-
Он уже знал, что Кажеция — это место боли, страданий и унижений, этатистский концлагерь для вольных духом, пыточное подземелье, где из человека методично выбивают всё прекрасное, чтобы оставить бездумно выполняющую приказы оболочку — в общем, Кажеция была обычной школой.
|
Первый удар — в шинельное сукно над хлястиком, по боку того калужанина, что нависал над Зотовым: красноармеец с нутряным оханьем повалился, цепляясь за края ящика, под ноги своему товарищу, которому тут же прилетел второй удар — снизу вверх, по выставленным в попытке закрыться рукам; из двери справа высунулась чья-то бородатая рожа, и этому тоже, не думая, в застилающей глаза и ум пелене гнева, треснул было прикладом латыш, — но тот ухватился за приклад, потянул на себя, вырывая, дико зыркая разбойничей, косоносой рожей из-под сдвинутой на затылок папахи, и показалось, что вот сейчас-то на Фрайденфельдса эти калужане, озверевшие не меньше командира, и набросятся, навалятся, как на корчившегося Зотова, примутся втроём метелить сапогами — куда лезешь, мол, сука, — но тут Фрайденфельдса схватили сзади, принялись оттаскивать, и сразу в сенях стало очень тесно.
— Ты чаво, командир?! — и совсем уже не по-звериному, а обиженно вскинул на Фрайденфельдса заросшую рыжим волосом рябую мужицкую рожу лежащий на полу калужанин, которому пришёлся первый удар. — Он червонцы спёр! — калужанин раскрыл перед латышом грубую ладонь, на которой лежали несколько царских золотых монет, пяти- и десятирублёвых, стоивших сейчас, конечно, куда больше номинала.
Озираясь, Фрайденфельдс видел, что вокруг его, как в трамвае, — в таком трамвае, где все бы ехали с винтовками вместо билетов, — окружает, толкаясь и галдя, набежавший народ — Мухин, Шестипал, Седой, Артюхов, бросившийся за ними безоружный Илюха, споткнувшийся о ходяшку Петров, выскочивший обратно в сени Тюльпанов.
— Я отдать хотел! — вопил скрючившийся у консервного ящика Зотов, по-собачьи оглядываясь на Фрайденфельдса.
— У него ещё в кармане! Припрятал, гнида! — тыкал пальцем в Зотова второй калужанин.
— Да что там такое? — заглядывал за спины столпившимся Тюльпанов.
В комнате, где засели китайцы, одиноко грохнул выстрел.
-
А внутренние проблемы у красных растут как снежный ком, однако.
|
-
Проникновения не было. Проникнет тебя мечом - будет считаться
-
А это уже считается за первый раз?Неожиданная развязка
-
|
Шумно всосав остатки колы через трубочку, Никита довольно отставил от себя шуршащий льдом пластиковый стакан и поднялся из-за обеденного стола. Кто-то объявил ему, что по расписанию у них теперь магия палочки и нужно направляться в 234 кабинет, — Никита не понял, кто, как он это узнал: как-то само собой это в голове проявилось вместе со звоном колокольчика, перед глазами возникло расписание: все квадратики были нечёткие, размытые, будто смотрел на них Никита из-под воды, и лишь на одном смог прочесть надпись «Магия палочки. 234 кабинет». Впрочем, таким вещам Никита уже не удивлялся: после пережитого в Столовой экзистенциального кризиса его уже вряд ли что-то могло поразить. Бигмак вернул ему прежнюю непоколебимую уверенность в устройстве Вселенной — поднявшись из-за стола, Никита решительно пошёл к выходу из столовой, оставив поднос с остатками еды на столе.
— Сам убирай, тебе за это деньги платят, — надменно бросил он ближайшему карлану. В такие моменты он чувствовал себя барином.
Только тут он заметил, что Недуся идёт под руку с Грам Матеем. «А почему не со мной???» — возмущённо подумал Никита, чувствуя, как глаза застилает красная волна ревности. Пытливый ум юноши сразу же стал искать объяснение этому явлению. Мысли быстро выстраивались в привычную, стройную логическую цепочку. Всё потому, что Грам Матей пишет жалобы, — теоретизировал Никита. — Жалобы невозможны без бюрократии. Бюрократия невозможна без государства. Государство виновато!
Но очередное подтверждение правоты своих стойких анархо-капиталистических убеждений не развеяло гнетущего, щемящего чувства. Никита был оскорблён до глубины души. «Ууу, небось, и левак ещё, — зло думал он о Грам Матее, исподлобья зыркая в его сторону. — Ничего, вот рыночек-то тебя порешает, поглядим, как ты запоёшь». Никита принялся размышлять о том, как запустит стартап, который зделоет его миллиардером, как Илона Маска, после чего все увидят, чего он, мистер Утюг, на самом деле стоит. Мысли крутились в основном вокруг того, как он разорит всех карланов и будет забирать их в долговое рабство, а Грам Матея посадит в зверинец и будет с удовольствием хохотать над его беспомощными жалобами. «Вы ещё узнаете Никиту Утюга, я тут переверну игру», — насупившись, сжимая кулаки, думал он.
Лелея эти злобные, мстительные мысли, Никита отправился в 234 кабинет. Он понятия не имел, где этот кабинет находится, но был уверен, что выйдет прямо к нему.
|
ФрайденфельдсТрижды ходяшке повторять не пришлось: увидев жест латыша, тот немедленно рухнул на колени и, — даром что был с иконой — как мусульманин в намаз, ткнулся перетянутой бинтом головой в пол. Икону он при этом так и держал в обеих руках, закрывая ей голову. Тюльпанов диковато оглянулся на командира, затем по сторонам, будто соображая, где это «сзади», и скрылся в коридоре, ведущем в скотную часть. — А? Чево? — оглохший от пальбы в тесных стенах крестьянского дома, Илюха не сразу расслышал, что спрашивает командир. — Расчёскин! — наконец, гаркнул он, заканчивая забивать патроны в мосинку. — Zamen liangge xianzai yao zisha! (Нам только застрелиться остаётся!)— Ni shenme? Fengle ma? (Ты что, с ума сошёл?)— Zamen yao zisha, tamen ba zamen yao oubi, zamen yinggai jiu zijin ba! (Надо застрелиться! Они нас будут пытать, надо стреляться!)— истерично частили китайцы с полатей, обращаясь, по-видимому, не к Фрайденфельдсу, а друг к другу. Из дальней ко входу низенькой двери, как из парной бани, вывалился красноармеец — васильеостровец Федя Зотов, толстогубый, щекастый и лопоухий, в распахнутой шинельке и мушкетёрских болотных сапогах до колена, — а вслед за ним два бойца-калужанина, имён которых Фрайденфельдс не знал: первый наотмашь ударил Зотова в лицо, толкнул, с грохотом повалил спиной на ящик с консервами; второй подбежал, нависая, вцепился Зотову пятернёй в лицо. — Братцы! — петушино, визгливо вопил Зотов, отталкивая калужан, выворачиваясь от залепляющей рот ладони, бестолково лягаясь. — Питер! Спасайте! — Золото где, рыло?! — рычали калужане, шаря у него за пазухой. Всё это происходило одновременно, мешалось друг с другом, вертелось мясорубкой, скакало бешеной каруселью, — закрывал голову иконой ходяшка, орали по-китайски с полатей в горнице, кричал командиру, пучеглазо пялясь, соломенноволосый Илюха с патронами в руке, калужане били Зотова, гулко валилось что-то за стенкой, грохали сапоги на втором этаже — и тут, будто всего прочего было мало, с улицы донёсся надрывный, животный рёв, как у быка на скотобойне. МухинНа хуторе стреляли, орали, шумели, и бойцы сбивались на бег, оглядываясь на Полю — как бы та не отстала. Но Поля быстро шлёпала босыми, перемазанными грязью ногами по траве, потом по ломкому сухому жнивью, теперь, кажется, уже и сама опасаясь отстать от красноармейцев. Мухин издалека увидел, как на двор выбежал Фрайденфельдс, как он метнулся к крыльцу дома, и как навстречу ему, словно пьяная компания, на крыльцо высыпали трое — Живчик, Шестипал и Рахимка. — С-собачья свадьба! Сучья кровина, в утробу мать! — доносились до бегущих мимо огорода красноармейцев ругательства Живчика. Шестипал и Рахимка усадили его на завалинку, принялись копошиться вокруг него, но сами, похоже, не понимали, что нужно делать. Живчик, кривясь от боли, скособочившись, щупал левой рукой у себя под правой мышкой; правую руку он прижимал к боку. В доме грохнул выстрел, за ним ещё один, а Шестипал с Рахимкой принялись стаскивать с Живчика чёрный матросский бушлат. Тот, задрав вверх лицо с зажмуренными глазами, дурным голосом заблажил: «На горе стоит ольха, под оооооаааа!» — и сорвался в истошный вопль, когда Шестипал бесцеремонно поднял безвольно висящую правую руку матроса, неловко, трясущимися руками пытаясь выпростать её из рукава бушлата. Когда красноармейцы, наконец, подбежали к крыльцу, Живчик уже перестал орать, кособоко лёжа на завалинке без сознания. — Куда его? — задыхаясь от бега, сходу спросил Седой. — С печки! — невпопад ответил Шестипал, обалдело стоящий с бушлатом Живчика в руках. Рахимка, стоя над матросом, тормошил его. — Да отойди ты, татарва! — оттолкнул Рахимку Ерошка Агеев. Вместе с братом и бестолково помогающими Петровым и Седым они повернули бесчувственного матроса спиной в чернеющей двумя дырами тельняшке к себе; Дорошка торопливо полез в рукав шинели за перевязочным пакетом, Ерошка, достав из-за голенища сапожный ножик, начал с треском вспарывать толстую, плотно облегающую могучий торс Живчика тельняшку от горловины вниз: на широкой белой спине матроса взгляду открылись две раны:  Именно такие, специалисты (см. ниже) подтверждают. 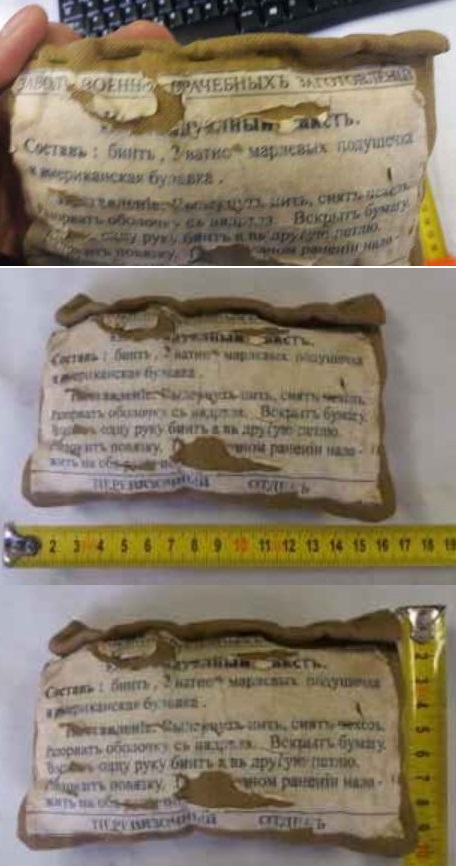 — Питерских бьют! — донесся из дома сдавленный крик Федьки Зотова, и вслед за тем снова совсем близко, за стенкой, грохнула трёхлинейка — это Илюха опять принялся палить из дверного проёма горницы в нависающие за порогом палати.
-
Натуральная сумятица боя иррегулярных подразделений!
|
— Ну куда, куда она полезла? — Лазарев вскочил с ящика, досадливо протянул руку вслед удаляющейся к месту выступления Гертруде.
— Может, остановить её, Вениамин Егорович? — спросил Колосов.
— Да куда уж там! Пускай уж теперь!
Гертруда видела, что компания эсеров, сидевшая до того кружком в углу двора, поднялась с ящиков и травы, внимательно следила за её речью. Так же внимательно следила за выступлением и другая группа — рабочих, интеллигентного вида молодых людей и барышень, — стоявшая в другом углу: видимо, это и была больница. Составлявшие же основную аудиторию рабочие Гертруду слушали доброжелательно, согласно кивали, хотя — видела она, — и не все спешили соглашаться с её критикой большевиков: всё-таки в рабочей среде позиции эсдеков были сильны. Однако, общей внимательной доброжелательности слушателей это не изменило.
— Правильно!
— Земля и воля!
— За землю! — закричали рабочие, провожая Геру аплодисментами и приветственными возгласами. А Гера, выступая, краем глаза видела, как Лопата, отошедший было от бугра по завершении своей речи, коротко посоветовавшись о чём-то с товарищами, вернулся обратно.
— Ваня, погоди, — говорил он за спиной Геры, пока та кидала в толпу последние лозунги. — Потом выступишь, здесь была критика нашей платформы, я буду отвечать.
И не успела Гера договорить, как рядом с ней на бугре появился Лопата, вежливо присоединившийся к аплодисментам толпы с таким видом, будто показывал рабочим — ну давайте ей похлопаем, разве вам жалко? Лопата жестом показал Гертруде — не уходите, давайте поговорим. Эсдек прокашлялся, поправил на носу очки и начал, говоря размеренно, глубоким поставленным голосом, с отчётливыми снисходительными нотками:
— Вот товарищ эсерка тут выступала. Я её, конечно, не знаю, и никто здесь не знает, но ничего плохого сказать не могу, товарищ, видно сразу, бойкая. Огня в глазах много, и на вид, — Лопата смерил Гертруду взглядом, — ничего: сразу видно, с такой защитницей партия Эс-Эр не пропадёт. А вот с теорией, однако, беда, ну да это для эсеров как обычно. Вот товарищ за крестьянство выступала, говорила, что революцию должны рабочие вместе с крестьянами делать. Да кто ж спорит, барышня, милая? — Лопата, со снисходительным выражением улыбаясь, приложил руку к груди. — Конечно, в союзе! Только любой союз, он ведь, товарищи, как поезд: есть паровоз, а есть вагоны, которые за ним бегут. За ним, понимаете? Вот вы понимаете, а наши товарищи эсеры этого понять не могут, как им ни толкуй, что единственный по-настоящему революцьонный класс — это ваш, товарищи, класс, пролетарьят, рабочие люди. Кто на забастовки выходит? Кто в декабре на баррикадах боролся? Кто сейчас на маёвку собрался? А отчего же так происходит? — эта манера Лопаты задавать слушателям вопросы, как по катехизису, выдавала в нём семинариста. — А оттого, что у каждого крестьянина интерес свой личный, а у рабочих личные интересы в общий интерес слиты. Скажем, есть у крестьянина земелька. Ну есть, так, если ему довольно, ему и трава не расти, что там у соседа делается, а будет случай, он и соседскую земельку к рукам приберёт, а самого его батрачить заставит. У рабочего же не так. Если у одного из вас есть интерес получить прибавку, так это у каждого вашего товарища тот же интерес. А это, в свою очередь, что значит? Что вы можете организовываться, сообща действовать — и разве вы так не действуете? Конечно же, действуете! А как снова поднимется рабочее движение, как захлестнёт могучей неостановимой волною Россию, как в прошлом году, тут уж за вами и крестьянин пойдёт, и интеллигент, и даже вот барышня эсерка пойдёт! Вы ей, главное, красный флаг покрасивше сделать не забудьте, — со смехом заключил он.
Слушая Лопату, рабочие повставали с мест, потянулись поближе к бугру, но Гера видела — это не оттого, что они все так уж поддерживали большевиков, а потому что дебаты привлекли общее внимание — посмотреть, как будут спорить учёные революционеры, хотелось всем. Над хамоватыми выпадами эсдека в сторону Геры рабочие посмеивались, но в то же время подначивающе поглядывали на эстляндку — мол, ну что, ответишь?
— Вениамин Егорович, спасайте положение! — Панафигина потянула Лазарева за рукав.
— Лиза, вы не видите момента, — вполголоса бросил он, не оборачиваясь.
Вокруг Лазарева сейчас собрались все эсеры: тот стоял, напряжённо следя за выступлением, изредка бросая взгляд на группку эсдеков в другом углу двора, о чём-то напряжённо размышляя.
— Женя, пойдите к ним, — показал он Колосову на бугор, — проследите, чтобы их дебатам никто не мешал. Жорж, помогите ему, — обернулся он на Шаховского.
Странно было видеть, как преобразился этот седобородый, худощавый невзрачный пожилой человек: добродушно расслабленный ранее, сейчас он сразу подобрался, сосредоточился и походил на боксёра перед боем или актёра, ждущего за кулисами выхода на сцену. Глядя, как неотрывно следит за речью Лопаты, как с надеждой смотрит на него Панафигина, как повелительно распоряжается он товарищами, становилось понятно, зачем Вениамину Егоровичу всё это — постоянная опасность ареста, тюрьмы, ссылки, типография в собственном доме, маёвки с рабочими: это в другой, обычной жизни он был неприметным владельцем цветочной лавки, одиноким пожилым вдовцом, живущим в пыльном тёмном доме со скрипящими половицами и подтекающей крышей; здесь же он был маленьким Дантоном, человеком, которого слушают, которому готовы подчиняться, от которого ждут указания, что делать.
— Женя, — остановил он Колосова. — Вы знаете, что делать, когда я пойду?
Колосов коротко кивнул.
— Как в Народном доме в декабре. В позапрошлом, — напомнил Лазарев и отпустил Колосова. А Лопата тем временем упоенно продолжал:
— Про догматизм также товарищ говорила. Догматизм, я объясню, это значит узколобость. Тоже не новое обвинение: говорят товарищи эсеры про нас, что мы, де, одну себе цель наметили и прём к ней, ничего вокруг не видя. Ну, во-первых, видим-то мы получше прочих, — Лопата поправил очки на носу, — а что к цели напрямик идём, в том ничего дурного нет. Если знать, куда идти, зачем кругаля писать? А мы знаем, куда идти, потому что действуем по науке, изложенной великим Карлом Марксом, и по той же науке действуют социал-демократицькие партии и в Германии, и во Франции, и в других странах. А вот товарищи эсеры так и стыдно сказать, сами не знают, куда идут, чего хотят, — Лопата комично развёл руками. — То они хотят всех бомбами взрывать, то уж не хотят. То они за то, чтобы всем землю раздать, но общину, которая по рукам и ногам крестьянина связала, не трожь. То они за вас, рабочих, а то за капиталиста. Вот, товарищи, и всё у них так, — печально закончил он.
Группа большевиков, стоявших в углу двора, немедленно захлопала в ладоши — дисциплинированно, громко, бойко, — закричала в поддержку Лопаты. В возбуждённой, заинтересованно стягивающейся к месту спора народ также нестройно разразился возгласами «Правильно!», «Большаки за рабочее дело!», «Долой фабрикантов!». Но и Гере свистеть не спешили: масса серых кепок, платочков, круглых короткостриженных голов сейчас выжидательно, с любопытством смотрела на неё, ожидая продолжения спора.
Гера видела, как через толпу протискиваются Колосов с несколько растерянным Шаховским и как первый что-то торопливо объясняет второму. Протиснувшись, они по-телохранительски встали у бугра с разных сторон спинами к выступающим, и очень вовремя: не успели стихнуть аплодисменты Лопате, как на бугор собрался подняться третий оратор — интеллигентного, но слегка затюханного вида тощий пучеглазый мужчина. Крепкий и высокий Шаховской легко его остановил, но что сказать, кажется, не знал.
— Пустите же! — говорил мужчина. — У нас свобода слова!
Колосов, оглянувшись, увидел это и сам подошёл к ним, принявшись что-то полушёпотом объяснять. «Товарищ Трапезников, потом выступите!» — разобрала Гера.
Увидев Колосова с Шаховским, Лопата поднял руку, привлекая внимание своих товарищей, показал им на эсеров, а затем призывно помахал и показал два пальца. Выполнив эту пантомиму, он с со своей издевательской самоуверенной улыбочкой ожидающе обернулся к Гере.
-
Хар-рошие доводы, сильные и убедительные! Ну да мы тоже не лаптем консоме хлебаем!
|
Бессонов13:00Когда Бессонов, Заноза и конвоируемый ими Проурзин (притихший после пары оплеух Занозы) уже возвращались к пристани, с крутого взвоза они приметили, во-первых, что на пароходе играет, невнятно разнося по реке протяжную печальную мелодию, граммофон, а во-вторых, что на скамейке у дебаркадера рядом с пулемётным постом понуро сидит седобородый старичок с покрытой белым платочком корзинкой на коленях. Подойдя ближе, они узнали Серафима Лавровича Викентьева, отца молодого телеграфиста. Заметив чекистов, он встал со скамейки и пошёл к ним. — Милостивые товарищи чекисты, — начал он, прижимая к груди корзиночку, умоляюще заглядывая в глаза Бессонову. — Вот возьмите, не откажите, покорнейше прошу. Для Лаврушки пирожочки сготовил, передать хотел, а товарищ красноармеец, — показал он на пулемётчиков в проёме дебаркадера, — не принимают, говорят, не велено. Передайте ему, не откажите в любезности, покорнейше прошу… Решив, что делать с передачей и просителем, чекисты прошли на пароход. Заноза повёл Проурзина в каморку, а Бессонов отправился искать Глебушку. Салон был пуст, между раскрытыми окнами в сером прозрачном сумраке гулял свежий речной ветерок. Судя по заставленному посудой столу, обед состоялся: правда, одна из тарелок осталась чистой и нетронутая варёная картошка с зеленью рассыпчато желтела под мельхиоровым ребристым колпаком, но стояли там и две початые бутылки остро пахнущего кваса, и темно поблескивал чуть тёплый ещё самовар с двумя стаканами, в которых чернели остатки чая. По потолку салона бежала тонкая прозрачная речная рябь, а откуда-то сверху по сонному пароходу граммофон жестяно раскатывал гнусавый тенор Вертинского: «Тихо вылез карлик маленький и часы остановил…» Бессонов и Заноза, присоединившийся к поискам, нашли Глебушку на крыше парохода, на прогулочной площадке между рубкой и трубой. Молодой чекист развлекался, запуская бумажные самолётики. Без пиджака, в белой штопанной сорочке с закатанными рукавами и брюках на подтяжках, он с разбегу, подпрыгнув, высоко запустил сложенный из ракитинской листовки самолётик — тот, подхваченный ветром, белой стрелкой взмыл над васильковым зыбистым полотном Ваги, клюнул носом, пролетел по длинной пологой траектории и упал в воду, медленно потянувшись по течению. Глебушка, стоя у покрытых лупящейся чёрной краской перил, длинно и тонко просвистел, следя за полётом. Старый капитан и матрос с любопытством наблюдали из рубки за забавами чекиста. Тот не обращал на них внимания и, кажется, превосходно себя чувствовал, наслаждаясь нежарким, застенчиво появляющимся из-за облаков солнцем, ветреным речным простором, послеполуденной дремотной обстановкой, когда почти все на пароходе дрыхли. «Потому что карлик маленький держит маятник рукой…» — сквозь трески и шипение выводил стоящий рядом на скамейке граммофон. — А, вернулись! — радостно воскликнул Глебушка, заметив поднимающихся на площадку товарищей. — У меня всё славно прошло! Просто очень славно, вы не поверите! — весь светясь от счастья, подлетел он к товарищам и взахлёб начал рассказывать. — Чёрт побери, почему в этот момент я был не на сцене, я бы Гамлета мог играть! Андрей, Валерьян, это было потрясающе! — Да ты погоди! — перебил его Заноза. — Может, по порядку расскажешь? — Сейчас, сейчас! — нетерпеливо затряс руками Глебушка, улыбаясь до ушей. — В общем, я сначала хотел просто с ним устроить политические дебаты, но он оказался жутко подозрительным, и тут, и тут, товарищи, это было такое прозрение, такой, я не знаю, как сказать, творческий момент! В общем, я решил импровизировать, и как я импровизировал! И Глебушка принялся рассказывать. Что происходило на пароходе в отсутствие Бессонова и Занозы
— А, вот вы на какие трюки пошли. Задобрить пытаетесь? — желчно усмехнулся Кузнецов, оглядывая накрытый в салоне первого класса стол: исходящая паром варёная картошка с маслом и зеленью, фарфоровая супница с ухой из трески, блюдо с залежалыми толстыми ломтиками чёрного хлеба, горка рассыпчатого творога на блюдце, две бутылки брусничного квасу. Такой обед собрал Глебушка для своего пленника: картошки и трески в кладовых «Шенкурска» было хоть отбавляй, а за творогом и квасом — не поленился, сбегал на базарную площадь. Хотел купить и чего-нибудь мясного, но не нашёл — другому, может, и продали бы, но молодого чекиста местные спекулянты уже знали в лицо и шарахались от него, как от огня.
— А где же ваш злой полисмен? — спросил Кузнецов, присаживаясь за стол и с гримасой боли вытягивая перетянутую бинтом ногу в разрезанной штанине. — Я читал в «Пинкертоне», что за границей так делают, один полисмен изображает доброго, другой…
— Знаю, знаю, — перебил его Глебушка. — Вы кого под злым-то имеете в виду, Бессонова или Занозу?
— Вы думаете, я помню, как там вас зовут? Вы мне все одинаково омерзительны, — дерзко ответил Кузнецов, не притрагиваясь к еде.
— Вы, разумеется, помните, как нас зовут, — спокойно сказал Глебушка. — И конечно, мы вам омерзительны по-разному. Очевидно, что я или Бессонов вам омерзительны, ну, с идеологической точки зрения, а Заноза вам неприятен ещё и с личной. Кстати, вы знаете, что Заноза — это его не настоящая фамилия?
— Догадывался. А какая настоящая?
— Подушкин, — просто ответил Глебушка. Кузнецов презрительно фыркнул. — Вот-вот. Нет, правда, я не шучу. Валерьян Подушкин, хорошенькое имя для чекиста, да? Вот он и выбрал себе ревпсевдоним, как у Каменева или Сталина, звучный такой.
— Смешно, — настороженно сказал Кузнецов. — Только зачем вы мне всё это сейчас рассказываете? Расположить к себе хотите, вербовать собираетесь?
— Да какая там вербовка… — устало протянул Глебушка, прикрыв глаза и откинувшись на спинку стула. Немного помолчал. — Кому нужно вас сейчас вербовать? Бессонов от вас уже всё, что нужно, получил. Вы же согласились на обмен.
Кузнецов молчал, внимательно глядя на собеседника.
— Вы согласились на обмен, — тянуто повторил Глебушка. — Вы приведёте своих товарищей в чекистскую западню.
— В какую ещё западню? Место и время обмена будет назначать Ракитин, — быстро возразил Кузнецов.
— А это не важно, — отмахнулся Глебушка. — Там нет никакого сложного плана, всё просто как мычание. Обмен назначат в лесу, так? Там рядом соберётся взвод этого дуболома Романова, выскочит из леса и всех положат разом.
— Чушь какая-то, — недоверчиво сказал Кузнецов. — Во-первых, Ракитин тоже может привести людей в лес, на всякий случай.
— Так тем лучше! — хлопнул ладонью по столу Глебушка. — Бессонов с Романовым только и ищут, что открытого столкновения, чтобы не пришлось драться разом с вами и с интервентами, которые уже идут вам на помощь. А у красноармейцев будет преимущество, ведь они пойдут с заведомой целью устроить стрельбу, а ваши пойдут, рассчитывая, что обмен будет честным, и первые стрелять не начнут. К тому же красноармейцы лучше подготовлены к бою, да и людей у вас меньше.
— Но Иванову, который у нас в заложниках, в этом случае гарантированно крышка.
— Именно так, — подтвердил Глебушка. — А вы думаете, Бессонову так важна жизнь Иванова?
— Это чушь, нет, это точно чушь, — нахмурился Кузнецов, соображая. — Виноградов оставлял вам приказ освободить Иванова, я это точно знаю.
— Виноградов! Я думал, вы умнее, Василий Петрович! — раздражённо бросил Глебушка. — Вы с кем сегодня утром разговаривали, с Виноградовым или всё-таки с Бессоновым? Вы глаза Бессонова видели? У него же мёртвые глаза. Вы знаете, как он в Вологде ураганил, скольких расстрелял, в том числе, кстати, и чекистов-эсеров? Иванов ведь тоже нашей с вами партии?
— Нашей с вами? — не понял Кузнецов.
— А я думал, вы давно догадались, — грустно сказал Глебушка. — Скажите, неужели я правда похож на большевика? Да, я тоже член ПСР. Удивлены?
— Удивлён, — кивнул Кузнецов. — Удивлён наглостью, с которой вы, юноша, втираете мне очки, хотя в очках-то вы тут. С чего бы мне верить, что вы эсер?
— Да не хотите, не верьте, чёрт с вами! — возмутился Глебушка, вскочил из-за стола, порывисто прошагал к широкому окну на палубу. — Погибайте, если вам такая охота! Но мне не хочется погибать с вами! Ладно, может быть, я многого от вас требую, давайте я расскажу прямо, как будет дело: на обмен вас должен повести пойти кто-то из чекистов. Как думаете, кто? — Глебушка обернулся от окна на Кузнецова, блеснув стёклышками очков. — Может быть, твердокаменный ленинец, пролетарий до мозга костей Подушкин? Или под пулемёт героически пойдёт сам Бессонов? Нет, конечно, они пошлют левого эсера Глебушку Мартынова, которого не жалко, которому они и так не доверяют. Мне они, конечно, говорят, что придумают для меня способ, как укрыться, когда начнётся стрельба, но у меня, знаете, кое-какие мозги в голове есть. Если им наплевать на жизнь Иванова, почему им не должно быть наплевать на мою, мою жизнь?!
— Не орите, — тихо сказал Кузнецов, сгорбившийся за столом, заставленным нетронутой, исходящей белым паром едой. — Как вы можете доказать, что вы эсер?
— Ну как я вам это докажу? — с болью воскликнул Глебушка, всплеснув руками. — Я бы дал вам рекомендации Спиридоновой, Фондаминского, Бунакова, да где их взять? — Глебушка замялся, нервно заходил по салону. — Может, мне закричать «В борьбе обретёшь ты право своё»? Извольте, только вас это не убедит. Партбилета у меня, конечно, нет, я сжёг его в Москве после июльских событий. Может, мне связаться по прямому проводу с Москвой и запросить подтверждение у Марьи Александровны, которая принимала меня в партию? Так и провода нет, и Марья Александровна арестована, а может, уже и расстреляна. Может, мне рассказать вам, как в июле она кричала со стола на сцене Большого «Слушай, Земля! Слушай, весь мир»? Я ведь был там.
— Сколько ярусов лож в Большом театре? — вдруг спросил Кузнецов, обернувшись к Глебушке.
— Шесть! — немедленно ответил Глебушка, бахнув ладонями о стол и вперившись прямым, испытующим взглядом в лицо Кузнецова. — В тот день было очень жарко. На сцене там было большое кумачовое полотно с золотыми буквами «Пятый съезд Советов», ещё три красных знамени, поменьше, стояли слева от президиума, а справа был такой большой библиотечный глобус, на который Спиридонова и показывала, когда кричала со стола. На Спиридоновой было белое платье, в волосах был тяжёлый шиньон. Когда она кричала, пенсне у неё слетело с носа! Сходится?
— Я не знаю, меня там не было, — пробормотал Кузнецов, опуская голову.
— Тогда какого чёрта вы мне морочите голову этими расспросами? — запальчиво воскликнул Глебушка, снова принявшись ходить по салону. — В конце концов, что я тут перед вами распространяюсь? Не хотите — не верьте, тогда я вас просто пристрелю здесь и сейчас, а объясню, что вы на меня напали, как на Занозу утром.
— Стрелять-то зачем? — усмехнулся Кузнецов.
— Ну как, чтобы вы не доложили Бессонову о моих тут перед вами откровенностях.
— Вы думаете, он поверит моему слову перед вашим?
— Такому рассказу поверит, — печально сказал Глебушка. — Я же говорю, что эти двое, Бессонов и Подушкин, мне не доверяют.
— Не доверяют, и поэтому оставили вас со мной?
— Было бы у них десять человек, не оставили бы, — пожал плечами Глебушка. — Скорее всего, расстреляли бы уже давно. Я ведь поэтому-то к вам и хочу перебежать.
— Левые эсеры нам не товарищи.
— Перестаньте… Не товарищи мы были месяц назад, сейчас другое дело.
— Вот как вы теперь запели, значит…
— Вам нужно моё аутодафе? Извольте. Это правда: мы, левые эсеры, сделали ужасную ошибку, заключив союз с большевиками. Но мы хотя бы нашли в себе силы восстать против них, а не сдались без боя, как Керенский!
— Мы тоже не сдались без боя! Мы тоже восстали! — истово воскликнул Кузнецов.
— Вот что. Давайте-ка поедим, — после паузы сказал Глебушка. — Уж и мне жрать хочется, а вам тем паче. Если вы помрёте с голоду, от этого не будет хорошо ни мне, ни вам.
Кузнецов не отвечал, напряжённо глядя в скатерть, двумя руками держась за раненую ногу.
— Вы знаете, мне на самом-то деле не очень хочется, — наконец, сказал он. — У меня, кажется, жар, и нога дико болит. У вас есть какая-нибудь таблетка?
— Я спрошу, — кивнул Глебушка. — Пирамидон в аптечке должен быть. Но вы всё-таки поешьте, хотя бы полтарелки ухи.
— Я вот творога лучше, — сказал Кузнецов. — Я вот так его ем, — он взял ломоть хлеба, посыпал его солью и чайной ложечкой принялся накладывать сверху творог. Глебушка с хлопком открыл бутылку кваса, поставил её перед Кузнецовым, потом принялся накладывать половником себе ухи в тарелку, положил себе салфетку на колени. Некоторое время ели молча.
— Всё-таки что-то не сходится, — сказал Кузнецов, прикончив кусок хлеба. — На большевика вы действительно не похожи, это верно. Если всё, что вы говорили мне, правда, то как объяснить этот роскошный обед, которым вы меня потчуете? Зуб даю, это какая-то уловка вашего начальника.
— Конечно, уловка, — легко согласился Глебушка, отложив ложку. — И довольно очевидная: Бессонов мне поручил вас разговорить за едой, разузнать, в частности, диспозицию ваших отрядов.
— И что вы, после сказанного вами, хотите от меня? — с хитрецой спросил Кузнецов.
— Ну, придумайте какую-нибудь дезинформацию, — пожал плечами Глебушка. — Я бы придумал за вас, но у вас лучше получится: вы ведь знаете, где ваши отряды.
— Конечно, знаю, — настороженно сказал Кузнецов. — Но вам говорить не стану.
— И не говорите, ради Бога, — согласился Глебушка. — Я понимаю, конечно: вы скажете, а я убегу без вас, так вы думаете. Только это тоже глупо: мне нужны вы как доказательство моих намерений. Но чёрт с вами, не хотите говорить, не говорите, потом сами покажете. Скажите только, где их нет, чтобы направить Бессонова по ложному следу.
— Ну, скажите, например, что они в Шеговарах.
— Шеговары — это вниз по реке? А на самом деле Ракитин, я так понимаю, где-то вверх?
— В Усть-Паденьге, — вдруг сказал Кузнецов. — Это тридцать вёрст отсюда. Но вы правы, если вы перебежите один, Ракитин вас не примет.
— Конечно, — согласился Глебушка. — Я бы тоже не поверил. Мою чекистскую рожу тут каждая собака уже знает. Расстреляют без лишних разговоров. Так что побежим вместе.
— Прямо сейчас. Выводите меня сейчас.
— Вы смеётесь? С вашей ногой вы версты не прошлёпаете. Нужно искать подводу. Или вы предлагаете нам сейчас вместе её искать, бегать по площади на виду патрулей? Нет, бежать мы будем этой или следующей ночью.
— Нет, — жёстко сказал Кузнецов, глядя Глебушке в глаза. — Если так, то просто бежать вдвоём мало. Вы должны будете убить Бессонова.
— Идёт, — быстро согласился Глебушка.
Кузнецов медленно отхлебнул кваса из горлышка бутылки, взял с блюда ещё кусок хлеба, принялся накладывать на него творог. И уже жуя, лениво сказал:
— Вы выбрали хорошее время, чтобы бежать. Большевистской власти скоро конец.
— В Москве они крепко сидят, — вздохнул Глебушка. — В Питере, как я понимаю, тоже. А здесь, — задумался он, — да и здесь ещё неизвестно, чья возьмёт.
— Сомневаетесь, а хотите перебегать? — недоверчиво спросил Кузнецов.
— Я же объясняю: это вопрос моей личной безопасности. А в ваших перспективах, конечно, сомневаюсь. Мне как эсеру, тоже хотелось бы верить, что весь народ вот-вот восстанет против большевиков, но я же вижу, что это не так. Посмотрите на Москву…
— Мы не в Москве, господин Мартынов, если вы ещё не заметили!
— Да заметил я, заметил, — устало сказал Глебушка. — И вижу, что здесь в Шенкурске большинство населения Ленина не поддерживает. А в Москве, по-вашему, поддерживает? Не в том же дело! Не поддерживают они его, и что? Большевикам и не нужно, чтобы их поддерживал каждый: достаточно, чтобы сидели по домам и не бунтовали.
— Вы нашего восстания тоже не заметили?
— И восстание я ваше заметил, и как все ваши повстанцы по домам разошлись, тоже заметил. Вы, просто, как бы мне помягче сказать… со своими листовками, ну, с которыми мы вас взяли, слишком восторжены. Вы правда собираетесь нападать на Шенкурск? А, впрочем, я плана баталии от вас не требую, да он и так из листовки очевиден. Но, опять же, — Глебушка озабоченно поджал губы, беспокойно вздохнул, — речь ведь о моей шкуре. Предположим, мы с вами перебежим к Ракитину. А завтра он поведёт свой отряд на штурм Шенкурска, а тут пятьдесят красноармейцев с пулемётами. Он-то, понятно, на восстание в городе рассчитывает, а восстания никакого не будет. И что тогда будет со мной? Нет, вы слишком оптимистичны…
— За это не переживайте, — решительно сказал Кузнецов. — Большевикам здесь остались последние дни. У них полсотни, у нас до сотни человек.
— «До сотни» — это вы ловко сказали, — усмехнулся Глебушка. — Десять человек — это тоже до сотни.
— Софистика! У нас не десять, далеко не десять. Я бы сказал вам точно, но сам не знаю, потому что люди прибывают. У нас два отряда — один формируется в Благовещенском, другой, уже готовый к приступу, в Усть-Паденьге. Общее число — примерно сто человек. Когда я уезжал, было записано девяносто три. Есть пулемёты, хватает и винтовок. Размажем ваших большевиков.
— Потом мы ещё о земле и воле поболтали, больше ничего интересного я из него не выудил. Пирамидона я ему дал и назад в каморку отправил. Да, представиться эсером — это изначально у меня было в плане, а вот что я фактически ему предложу к ракитинцам переметнуться — этого вообще у меня в плане не было, само выскочило! Говорю же, гениальное прозрение! Кстати, я на самом деле вообще не помню, сколько там ярусов в Большом театре, — со смехом сказал Глебушка. — Я и был-то там раз в жизни. И на съезде том не был, конечно. Вы в курсе, я уж в Вологде давно был. Но Кузнецову-то откуда знать? — А ты правда сказал ему, что меня зовут Подушкин? — мрачно спросил Заноза. — Ну да, — с гордостью ответил Глебушка. — Это изначально в плане было. Надо же было как-то его к себе расположить? Я долго придумывал, но здорово же получилось, скажи? А всё-таки, какая у тебя настоящая фамилия? Я ж знаю, что Заноза — это псевдоним. — Глебка, не начинай, — нахмурился Заноза. — Ладно-ладно, — Глебушка поднял ладони в примирительном жесте. — Заноза так Заноза, мне всё равно. Кстати о фамилиях, я ведь чуть не прокололся. Сказал, что знаю Фондаминского и Бунакова, — просто наобум фамилии называл и только потом понял, что Бунаков — это и есть Фондаминский, это его псевдоним. Хорошо, что наш щелкопёр этого не знал. Романов13:00— Что с Проурзиным? — Куда Якова Петровича повели? — В чём он виноват? — Почему без разрешенья съезда? Он делегат, у него мандат есть! Такими криками разразились делегаты после возвращения Романова, Богового и Гиацинтова в зал — но не ранее, чем за беспомощно глядящим по сторонам Проурзиным и широкой спиной Занозы закрылась дверь: в присутствии чекистов делегаты возражать опасались. А Иван Боговой уже чувствовал за собой силу, видел, какой эффект на всех произвёл арест Проурзина, и потому уже не уговаривать делегатов собирался, а командовать ими, как своими подчинёнными. — К порядку, товарищи, к порядку! — встав со своего председательского места, возглашал он. — Гражданин Проурзин был арестован Чека по обвинению в саботаже, в предательской деятельности, и тем самым автоматически лишился своего мандата! Предателем не место в наших рядах, товарищи, прошу иметь это в виду. Каждый должен иметь это в виду! Делегаты примолкли: оказаться на месте Проурзина не хотелось никому. — А теперь по порядку ведения, — с мстительным наслаждением, с оттяжечкой произнёс председатель. — Ввиду последних событий, ввиду общей напряжённости обстановки я предлагаю, товарищи. Я настоятельно предлагаю провести оставшиеся на повестке дня резолюции в сокращённом порядке, собрав единую комиссию для выработки всех их проектов и сократив до минимума обсуждение проектов. Я бы очень хотел, чтобы вы поддержали это безусловно необходимое требование, так как у членов исполкома сейчас очень много дел, и надо завершить съезд раньше. Возражений не возникло. 13:30— Представляю ходатайство перед губисполкомом о скорейшем выяснении причин ареста и освобождении делегата съезда Проурзина, — зачитывал с трибуны один из делегатов, близоруко всматриваясь в свою бумажку через очки. Иван Боговой безразлично глядел перед собой, постукивая карандашом по столу. Наконец, он обернулся к брату: — Вася, всё-таки сходи найди Шатрову. Она тут нужна. — Уездная чрезвычайная комиссия в лице председателя Бессонова А. не представила удовлетворительных объяснений… — продолжал читать делегат, оглядываясь то на Романова, то на председателя съезда. 14:00— Сведение о количестве обмундирования, постельной принадлежности, материала для починки мундирной одежды, провианта и оружия, похищенных в Шенкурском уездном военном комиссариате при выступлении белогвардейцев, — скучно зачитывал земской статистик Щипунов отчёт ревизионной комиссии, которую возглавлял. — Подсчитана пропажа следующего: рубах новых защитного цвета — шесть; сапог новых — три пары; ботинок старых — двенадцать пар… 14:30— Ты куда пропала, Катюха?! — ругался Иван Боговой во время перерыва в библиотеке на растерянную, заплаканную Шатрову, которую его брат всё-таки нашёл и привёл на съезд. — Ты меня подставить хочешь, сука? Бери карандаш, пиши, чтобы ни одного слова не пропустила! — Не буду я писать, — сквозь слёзы выдавила Шатрова, вся сжавшись, глядя в пол. — Не буду я для вас ничего делать, — жалобно сказала она. — Так, значит? — грозно нависал над ней Боговой. — Что же получается, тебе на Кузнецова наплевать? Смотри, Катька, от тебя сейчас зависит, что с ним будет. Простенографируешь, как надо, замолвлю за него перед чекистами, а кочевряжиться начнёшь — пиздец твоему Васечке. Поняла? Ну, поняла? 15:00— Безумный акт действия против трудящихся в пользу капиталистам, банкирам и помещикам… — излагал с трибуны Романов проект резолюции по отношению к мятежу. — …немедленный арест главарей восстания мобилизованных… — Надо было заменить на «мятежа», — буркнул про себя беспокойно перебиравший карандаш в руках Иван Боговой. Шатрова прилежно записывала. 15:30— И я всё-таки ещё раз хочу заявить, что преступно… просто преступно неправы те, кто говорят, что лучше хоть с чортом, лишь бы против большевиков! — голосил с трибуны Гиацинтов. Ему выступать, кажется, понравилось, теперь он при обсуждении каждого вопроса со словом лез, и даже менее косноязычен стал, начал говорить глаже, уверенней. Боговому, видел Романов, это уже не нравилось: он хотел, чтобы выступали другие, чтобы в стенограмме были их заявления о поддержке советской власти. Боговой недовольно посмотрел на Гиацинтова. — Товарищ Гиацинтов, вы закругляйтесь уже, — перебил он оратора. — А то я лимит на выступления установлю. — А… — сразу смутился Гиацинтов. — Да я… конечно, конечно. — У нас песочных часов нет, — шепнул ему через стол Щипунов. — Были же! — так же шёпотом возмутился председатель. — Посеяли… — развёл руками Щипунов. 16:00— Усть-Вага пала! Березник пал! — Романов не видел, кто принёс эту весть в зал заседаний: он как раз выходил, а когда вернулся, зал уже бушевал: несколько делегатов подскочили к президиуму, крикливо наседали на председателя. Боговой, вскочив с места, вытащил из кармана пиджака наган, высоко выпростав руку, бахнул в потолок. — Все по местам! По местам, сукины дети! — грозно закричал он. Мимо стоявшего в дверях Романова попытался выскользнуть наружу кто-то из смолокуров. — Держи его, Андрей! — закричал военкому Боговой. — Вася, помоги! Пришлось и отталкивать беглецов, и хватать их, затаскивая обратно в зал, и самому стрелять в осыпающийся штукатуркой потолок. Наконец, делегатов более-менее удалось утихомирить. — Никто отсюда до окончания съезда не уйдёт! — коршуном оглядывая зал, охрипло орал председатель. — Никаких больше перерывов! Если кому нужно ссать, ссыте в угол! Шатрова испуганно озиралась на Богового, не понимая, записывать ли ей и эти его слова в стенограмму. 16:30У закрытых на ключ широких белых дверей зала стояли двое красноармейцев, снятые Романовым с поста у входа в здание. Это помогло: при виде бойцов делегаты снова присмирели, из помещения уже не рвались, сидели как заключённые, понуро слушая бубнёж Богового из президиума, послушно поднимали руки за. В дверь постучали — сначала деликатно, потом настойчивей, потом из-за двери глухо донёсся чей-то требовательный голос. — Говорит, какой-то Сибирцев, — сообщил Романову красноармеец Федотов, подойдя к президиуму. — Сибирцев — это телеграфист, — пояснил Василий Боговой. — Я узнаю, в чём дело. Он поговорил с Сибирцевым через дверь и, вернувшись, сообщил, что телеграф не работает: нет связи ни с Березником, ни теперь уже и с Вельском. — Похер, пляшем дальше, — решительно сказал Иван Боговой. Всё это уже напоминало дурной сон: превратившийся в пародию на самое себя съезд, мечтающие удрать с него делегаты, запуганная стенографистка, ценное время, уходящее на то, чтобы бесцельно сидеть в президиуме вместо того, чтобы готовиться к ночному бою, исступлённые крики Богового, который пёр к завершению съезда как бегун-марафонец, ничего вокруг себя уже не видя и не соображая, и во всём этом сквозила какая-то чудовищная бессмыслица, особенно если подумать, что за окном этой палаты умалишённых — мирно занимающийся своими очень осмысленными будничными делами городок, что под окнами проезжают возы, что на лугах за городом крестьяне выходят на сенокос, что торгуют где-то лавки, открыты трактиры, проходит служба в монастырской церкви — а тут орут друг на друга буйнопомешанные. Но смысл в этой дикой комедии всё же был — нельзя было уйти со съезда сейчас, распустить всех по домам, не приняв резолюций, — такое бы показало всему городу, сидящим в лесу ракитинцам, плывущим вверх по Ваге интервентам, что советская власть в панике, что она, бросая всё, бежит, не завершив даже собственный съезд; и потому нужно было сохранять лицо и довести съезд до конца, пусть хоть такой, превратившийся в чёрт-те что. — Приступаем к поимённому голосованию, — ледяным голосом произнёс председатель. — Все помнят процедуру: сначала президиум, потом первый ряд… 17:00Всё. Завершили. Двери открыли, делегаты облегчённо расходились. В голове чугунно гудело, как после попойки, в ушах плясали не связанные друг с другом обрывки чужих фраз, тупо и противно ныло в области сердца — опять давала знать рана. Зал почти опустел: красноармейцы Федотов и Тимонин, уставшие весь день стоять на посту, расселись на делегатских стульях. Щипунов собирал бумаги с покинутого стола президиума, Василий Боговой убежал на телеграф. Иван Боговой стоял над Шатровой. — Всё это надо будет перебелить к вечеру, — показывал он на кипу исписанных стенографическими загогулинами листков. — К сегодняшнему? — оторопело переспросила та. — Нет, после дождика в четверг! Конечно, к сегодняшнему! — Я не успею, Ваня… — подняла она на председателя умоляющий взгляд. — Успеешь, Катенька, успеешь, — с ласковой угрозой отвечал Боговой. — Сейчас мы с тобой здесь сядем, и ты всё это перебелишь, а я скажу, где что поправить. А за дверьми зала Романова уже нетерпеливо поджидал Гиацинтов. — Товарищ военком, — начал он, — а мне-то как? Мне-то что теперь делать?
-
Всё это уже напоминало дурной сон: превратившийся в пародию на самое себя съезд, мечтающие удрать с него делегаты, запуганная стенографистка, ценное время, уходящее на то, чтобы бесцельно сидеть в президиуме вместо того, чтобы готовиться к ночному бою, исступлённые крики Богового, который пёр к завершению съезда как бегун-марафонец
Абсолютный реализм происходящего и прекрасные эпитеты. Настоящее мастерство слова!
-
Ну да, Гамлет неплохо вышел.
|
-
никита ещё в чате блюма сидел , наверное
|
Долго уговаривать товарищей завернуть на лесничий кордон не пришлось — крюк был небольшой, а мысль о том, что там можно разжиться едой, всех сразу вдохновила. Только Фима заметил, что к кордону лучше бы подойти не по тракту, а со стороны леса — мало ли, кого там можно встретить. Так и решили.
— Значится, так, братва, — деловито принялся раздавать указания Фима. — Василич, Ивановы, Саня, Захарка, — вы с этой стороны тракта подходите: по лесу, на дорогу не вылазьте. Остальные с другой. Ежель там англичане, смотри, сколько. Коли много — не суёмся, отходим обратно к мосту. Коли мало — атакуем. Ежель пошла стрельба, наваливаемся все. Ежель нас погонят оттуда, собираемся тут, под мостом. А ты, Гришань, вперёд не лезь, за ходяшкой своим следи в оба глаза, раз взялся.
Разделились, попёрли через еловую чащобу по разные стороны тракта. Непроницаемым покровом темнели над головой своды высоких, старых елей, кажется, до самых облаков доходящих. Ельник был дремучим, сумрачным, — удалились от тракта лишь шагов на двадцать, и то бурая раскисшая в грязи дорога едва проглядывалась за чересполосицей серых мшистых стволов, за тёмно-сизыми лапами, в тенистых сплетеньях которых взгляд мгновенно выхватывал тут же исчезающие очертания — то человеческое лицо, то отчего-то тёмный валун или печку. Шли молча, придерживая омертвелые и ломкие пупырчатые ветви с остатками жёлтой хвои так, чтобы они не били в лицо следующему, обходили косые стволы валежника в бурой шубе из плесени, шелестел под ногами рыжий ковёр завядающего папоротника, свечками торчали из-под стволов мохнатые огуречного цвета плауны. Трепетно, резко захлопало что-то в стороне, тень птицы промелькнула между стволов, и шедший перед Смирновым ходяшка испуганно обернулся; пришлось его подтолкнуть в спину.
Мрачная густота леса впереди чуть поредела, показался просвет: они подходили к небольшой полянке, на которой, как Смирнов помнил, и стояла избушка. Прислушались: тихо. Фима показал Григорию с ходяшкой следовать сзади, а с остальными пошёл вперёд, с хрустами и тресками, с винтовками наготовке. Григорий уже различал за спинами товарищей светло-золотую, из свежих брёвен сложенную избушку с кирпичной белёной трубой, сарай, серый дощатый нужник, грядки небольшого огорода и на грядках две фигуры — и только Смирнов успел их приметить, как сбоку резко, сдавленно выкрикнул, вскинув винтовку, Прошка Рязанцев:
— Стуй!
— Стой! — в ответ раздалось ему.
Снова подтолкнув примолкшего, вместе со всеми настороженно глядящего вперёд китайца, Григорий теперь и сам мог различить, кому это кричат: двум русским бойцам, в перемазанных грязью серо-бурых шинелях, в папахах. Один, пожилой, с клочковатой бородой, сидел на коленях на грядке и копал пехотной лопаткой картошку: оклик Рязанцева застиг его как раз в тот момент, как он, отложив лопатку, чёрными пальцами торопливо вытаскивал из рыхлой мокрой земли клубни и складывал в лежащий у ног холщовый мешок. Другой, помоложе, заросший неряшливой щетиной, с вещмешком за спиной, стоял с винтовкой на стрёме, глядя, впрочем, больше не в лес, а на дорогу. Сейчас оба обернулись на лес, откуда уже нацелили на них винтовки рязанцы. Молодой тоже вскинул винтовку на рязанцев, но, оглядываясь по сторонам, уже и сам понял, что они с товарищем в меньшинстве.
— Русские? — зачем-то спросил Фима, хотя ни на англичан, ни на китайцев эти огородные воры похожи не были.
Молодой настороженно и молча закивал, не опуская винтовки.
— Красная Армия? — ни звёздочек, ни ленточек, ни бантов на этих двоих не было.
— Калужский полк, родные, — скрипуче протянул пожилой, не повышая голоса. — Вы кричите-то потише, тут интервенты кругом.
— Где, рядом? — вполголоса спросил Семён, вслед за Фимой и остальными выходя из леса на опушку.
— По тракту ездят, — спокойно ответил пожилой. Молодой, кажется, понял, что бояться нечего, и опустил винтовку. То же сделали и рязанцы. — А вы-то сами какого полка?
— Рязанского, — ответил Фима. — Вас тоже вчера раздолбали?
— И-и, ещё как… — проскрипел пожилой. — В лесу вон с Борькой, — кивнул он на молодого, — просидели ночь, товарища раненого схоронили, сейчас вот картоху копаем. Вы б помогли, что ль? Тут всем хватит.
— А в избе чего, есть припасы? — спросил Фима.
— Там уж разграбили всё… — печально ответил пожилой.
— Н-н-ничего нет, — с трудом через заикание выдавил молодой Борька. — И х-хозяина нет.
— Тебя звать-то как, дядя? — спросил, подходя к ним, Семён.
— Алфей Иваныч, можно как раз дядя Алфей, — сказал пожилой. — Вы давайте помогите лучше копать, потом побалакаем, в лесу.
Рязанцы давно уже приметили вылезающих из леса по другую сторону тракта Языкова, Ивановых и остальных, а заикающийся Борька увидел их только сейчас, краем глаза, и немедленно обернулся, лихо, но как-то бестолково крутанув винтовку, вскидывая её к плечу.
— Тихо, тихо! — закричали ему рязанцы. — Это наши, наши, тоже рязанские.
— Чего тут у вас происходит? — опасливо перебежав дорогу, спросил Захарка Языков.
— Картоху воровать собираемся, — ответили ему. — Давай свою лопатку.
А ходяшка, в покорном оцепенении следующий за Смирновым, тут деликатно потянул его за рукав.
— Wo zhidao zhetao fangzi, (Я знаю этот дом)— дрожащим голосом, посиневшими от холода губами сказал он, показывая на дом. — Fangzi, (Дом)— снова показал он на дом, — wo zhidao, (я знаю)— показал он на себя и утвердительно закивал. — Nabien zhu de ren, laoren, tamen, (Здесь жил человек, старик. Они) — показал он куда-то в лес, — shasile. Shasi, dasi, gesha, mingbai ma? (…его убили. Убили, прикончили, шлёпнули, понимаешь?) — он с очевидным смыслом провёл рукой себе по горлу. — Womende zhongguoren, nabiende, (Наши, китайцы, оттуда)— показал он на себя, потом на лес, — shale, (убили)— и снова рукой по горлу.
— А это что с вами за чудо в перьях? — спросил дядя Алфей.
— А… ходяшка. Долго рассказывать, — ответил Андрюха Макаров, забрав у Захарки лопату и подходя к грядке. — Давай копать, пока не застукали.
-
Потрясно! Тут тебе и еловая чащоба, и чересполосица мшистых стволов, и ломкие пупырчатые ветки, и бурая шуба из плесени. Прямо как в хорошей сказке! Мистическую картину дополняет загадочный ходяшка, непонятный говор (зато понятные, но скупые жесты) которого интригует и пугает одновременно. Чувствуешь себя эдаким Русланом, пробирающемся к своей Людмиле. Простой солдатский люд как всегда живо и выпукло прописанный. Ну а симулятор копания картошки это вообще гениально!)
|
|
-
Хорошая школа и уроки интересные
Особенно если учитель - это Дэвушка по имени ВагЭн
|
— Чего «отставить»-то? — обиделся Лёшка. — Я ж ничего такого… Лёшка встал рядом, наклонив голову, рассматривая сидящую на траве девушку. А ты что, по-ихнему знаешь?— Откуда? — глухо ответила Поля. — У них там двое по-русски умеют. То есть были двое: одного вы сегодня утром застрелили, а второй… — Погоди, утром? — перебил Нефёд. — Это в котором же часу? — Да вот на часы поглядеть забыла! — огрызнулась Поля. — Утром, точней не скажу. — Ну, это не мы были, — сказал Нефёд. — Мы только пришли. — Значит, не вы. Не знаю я, кто это был! — раздражённо дёрнула она головой. — Стреляли, гранату в дом кинули, кричали по-русски, потом ушли. Я позвать хотела, а голос-то… — она с ненавистью ткнула себе пальцами в горло. — А второй, говоришь, тоже по-русски умеет? — спросил Нефёд. — Надо б его расспросить. — Умеет, пока япьяни не накурится. А он только и знает трубку свою сосать. — Япьянь — это что, опиум? — заинтересованно подал голос Лёшка. — Должно так… Не знаю. Они говорили «япьянь». Нас курить заставляли. Сперва-то каждый день, а потом уж у них мало стало… — Во гады, — покачал головой Нефёд. — Ты сколько ж там с ними сидела? — Я уж и сама не знаю… — выдохнула Поля и, зажмурившись, некрасиво скривившись, поднесла руку к лицу, хотела было разрыдаться — не получилось, только сухо шмыгнула носом. — Какой сейчас день? — откинув с избитого лица волосы, порывисто спросила она. — Пятое, кажется. Или шестое уж? — задумался Нефёд. — Сентября? А они после Преображенья* пришли. — Дела… — длинно протянул Лёшка. Нефёд ничего не сказал. Помолчали. - Да ты с ума сошла, что ли? Куда ты пойдешь тут, одна, по лесу, в рубахе одной. Вон как дохаешь. Подхватишь жар и оверкиль. Тебе одеться надо? Надо. Ну хочешь за околицей подожди. Сейчас с этой бандой управимся быстро, накормим тебя, покажешь дорогу и иди куда хочешь. Никто тебя не тронет. А тронет - от меня лично такой балласт получит, полные цистерны!.. А тебе куда? Местная?— Ну ладно… — подумав, настороженно согласилась Поля. Нефёд подошёл было, чтобы помочь ей подняться, но девушка опять сердито отмахнулась от него — сама, мол, встану. — Емецкие мы, — поднявшись, ответила она Мухину. — Из Емецка, не Емцы. Батрачить к Крестовниковым приехали, на сенокос да на жатву. Пятый год уж ездили, всё хорошо было, а теперь вот… Не, еды не надо: с собой разве взять. Они хорошо кормили, жри не хочу. Весь скот перестреляли, ещё и консервов у них было… Какой-то эшелон на железке они разграбили. Они вышли на плёс, где Агеевы и Седой, сидя на корточках, деловито обыскивали ходяшку, повёрнутого уже бумажным, с разинутым ртом лицом вверх. — А, это рыбачок ихний, — показала на китайца Поля, зябко обхватив себя за плечи. Напряжение первого момента встречи проходило, и под свежим, отдающим речным холодком ветром девушка начинала дрожать, постукивать зубами. — Ничего был, тихий, много не лез. Пожилой уж, ясно дело. Вот молодые, те… А этот ничего, всё по утрам рыбачить ходил. Как снасть нашёл, так радовался, — она криво усмехнулась, без выражения глядя на труп. — Вот она, снасть-то, — сказал Седой, показывая на лежащую в траве удочку. — Под ним была. А порыбачить не успел, — Седой показал на лежащую рядом мятую жёлтую бумажку. — Вот тут его наживка была. На мёртвую рыбку ловил. — А что написано? — поинтересовался Лёшка. — А чёрт его… церковное что-то, полуставом, — Седой протянул мокрую бумагу Мухину. Там действительно был какой-то церковный текст на старославянском: — Это Карп Палыча, — просипела Поля. — Они староверы, у них таких книг много. Эти-то, — кивнула она на мертвеца, — иконы не трогали, побаивались. А книги брали.
-
— А, это рыбачок ихний
Я так понимаю, пепельницу слепили с него.
|
Фрайденфельдс уже подбежал к крыльцу дома, обогнул сваленного первым из пулемёта и сейчас распластавшегося в грязи двора китайца, как дверь на крыльцо распахнулась, и оттуда вывалились, как пьяные, трое — скособоченный, кривящийся от боли Живчик, поддерживающий его Максим Шестипал и поспешающий за ними Рахимка.
— Ай, бля! Ай, штык те в глотку, полный ход и лапти кверху! — сквозь зубы ругался Живчик, зажимая рукой бок чёрного бушлата.
— Шапка, шапка забыл! — за его спиной верещал Рахимка с бескозыркой в руке.
Трое скатились с крыльца, а внутри всё стреляли, били, кричали: Фрайденфельдс поспешил туда, чуть не запнувшись о приподнятый порог. За порогом были светлые сени с широким окном против входа: окно было разбито, с гребёнкой осколков на рамах, с сорванными занавесками. Всё было загажено: по полу рассыпались осколки стекла, у стен свалены были тряпки, шинели, покрывала, половики какие-то — вроде как спальные места, и всё окровавленное, скомканное. Рядом — размотавшийся бинт с кровавыми пятнами, расколотый горшок, керосинная жестянка, миска с остатками еды, лужица блевоты. В конце сеней, у окна, — пара дощатых ящиков с трафаретом «Моск. Зем. и Гор. Союзъ 1916». В середине коридора тёмно-золотые, из старых сосновых брёвен, стены были опалены, дальше по стенам тянулись длинные светло-рыжие щербины от гранатных осколков. Пахло тут всякой дрянью, но химического запаха гранатного дыма не было — кидали гранату не только что.
Прямо напротив входа круто шла вверх лесенка: по ней как раз с обезьяньей прытью забирался кто-то — Фрайденфельдс увидел только стучащие по ступенькам грязные сапоги да полы шинели. У ближней ко входу двери направо стоял длинноволосый калужанин Илюха и, задрав ствол трёхлинейки, в замкнутом пространстве звеняще, оглушающе громко палил в дощатый настил полатей в горнице — дёрнул затвор, хотел выстрелить ещё раз, но винтовка пусто щёлкнула. Илюха, встав за косяк, полез в патронную сумку и заметил командира.
— На печке засели, командир! — дико зыркая на Фрайденфельдса, крикнул он. — Гранату надо!
Фрайденфельдс осторожно заглянул за косяк низенького дверного проёма: пробитые пулями серые доски полатей сверху, ведущая на них лесенка. Под полатями за рядом кадок — белая стенка печки, вся в нацарапанных и углём намалёванных иероглифах. Дальше — обычная русская горница, только и здесь — загаженная, как в притоне: все окна разбиты, занавески сорваны. Стол покрыт скатертью — праздничной, белой в вышивке, вся скатерть в жирных грязных пятнах. На столе — консервные банки, деревянные миски с палочками для еды, кружки, блюдца, фаянсовые чашки. В середине стола — опрокинутый большой самовар и лужа воды под ним, стекающая на пол. Разбитый заварочный чайник на полу, горка мокрого чёрного чая вывалилась на половицы. В углу над столом божница, так это, кажется, у русских называется, — почернелые, судя по всему, очень старые иконы под белым полотенцем: нетронутые, даже с горящей лампадкой в красном стеклянном стакане. В другом углу над лавками — разбитое пулей, трещинами пошедшее зеркало, а под ним — распластавшийся на полу мёртвый китаец в полосатой рубашке на завязках, бесформенных ватных штанах, опойковых сапожках со стёртыми добела подошвами.
Сверху (похоже, что действительно то ли с полатей, то ли с печки) орали по-китайски:
— Women yao zuo shenme ne?! Tamen yao gesha women a! (Что нам делать? Они нас убьют!)
— Mei banfa, jiu jixu sheji ba! (Что тут делать? Стрелять!) — истерично вопил другой голос.
— Ni hai you zidan ma? (Патроны у тебя ещё есть?)
— Hen shao le! Jixu sheji! (Мало! Продолжай стрелять!)— сверху грохнула трёхлинейка, пуля прошила доски полатей и выбила щепки из дверного косяка рядом с перезаряжавшим винтовку Илюхой: тот отпрянул подальше от проёма, быстро и нервно выдохнул.
Фрайденфельдс коротко оглянулся и увидел, как из прохода в скотную часть дома в сени вбежал запыхавшийся Тюльпанов со своим карабином в руках — и как раз, как он подбегал, распахнулась ещё одна дверь справа, и оттуда появился ходяшка — совсем юный, тощий и горбоносый, с забинтованной головой. В руках у него была большая, с серебряным окладом икона — он держал её перед собой, как на крестном ходу, пучеглазо таращаясь на вскинувшего карабин Тюльпанова.
— Wo shi jidutu! (Я христианин!) — отчаянно выкрикнул китаец. — Yesu Jidu! Maliya! (Иисус Христос! Мария!)
Тюльпанов так и остолбенел. Илюха перезаряжал патроны. На дворе сквозь зубы матерился Живчик. В дальней от входа комнате что-то кричали, кого-то били, по потолку топали шаги, хлопнула дверь в скотной половине дома.
Мухин
— Красная Армия? — с ужасом просипела девушка. — Вы заодно, что ли?
— С кем? — не понял Нефёд. — С ходяшками? Ты чего, какое заодно-то?
— Так они тоже Красная Армия! — едва разборчиво прохрипела она, указывая рукой на хутор, от которого доносились крики и стрельба. Девка, может, и хотела бы закричать, но сорванный голос её был еле слышен, звучал как через прореху, надсадно, с сухим присвистом и клёкотом.
— Кто, ходяшки? — не поверил Нефёд. — Ну нет, это ты врёшь чего-то.
Седой тем временем пошёл обыскивать лежащего в осоке китайца, а Дорофей Агеев тут же за ним. Подойдя, Агеев сразу же взял мертвеца за голень, попытался согнуть его ногу в колене — не гнулась. Он чертыхнулся и, извернувшись и едва не падая, принялся прикладывать подошву своего разваливающегося сапога к подошве сапога китайца.
— Ероша, — окликнул он брата, — посмотри, подходят мне?
— Малы, — отозвался вылезающий из кустов Ерофей.
— Тьфу, и в кого я только с такими лаптями! — досадливо сказал Дорофей. — Ну ты хоть примерь.
— У меня добрые сапоги, — не оборачиваясь, сказал Ерофей. Он глядел сквозь заросли кустов в сторону хутора, откуда доносилась стрельба.
— Вы, служивые, лучше мне помогите его на сухое вытащить, — обратился к ним Седой. — Велено обыскать.
— Давай, Ероша, — согласился Дорофей, и они вместе потащили китайца, взяв его за ноги.
— Какой врё!… — злобно выкрикнула было девушка и зашлась перхающим кашлем. Нефёд подошёл, чтобы похлопать её по спине, но та, не переставая сухо, лающе кашлять, отмахнулась — не лезь, мол.
— Тебя всё-таки как зовут-то? — спросил Нефёд, склонившись над ней, уперев руки в колена.
— По… Поля… — сквозь кашель выдавила она.
— Это что ж, Полина? — спросил Нефёд.
— Аполлинария…
Из зарослей крушины появился припозднившийся Лёшка Петров — семнадцатилетний кронштадтский юнга, как Мухин, тоже питерский, с Охты, высокий и тощий, как жердь, с угреватым подростковым лицом и пробивающимися чёрными усиками. Лёшка был, конечно, делу революции предан, как балтийцу полагается, но вот только марафет любил пуще всякой меры — впрочем, тут в лесах марафета было не достать, и всё время на Обозерской, а потом во время лесных блужданий Петров ходил хмурый, всем недовольный. Кажется, во время вчерашних выборов-то он и за Фрайденфельдса не голосовал, а вписал, должно быть, Рахимку — ну так, назло всем.
— Ого! — удивлённо воскликнул Лёшка, увидев девушку. — Наше вам с кисточкой, барышня.
Та неприязненно оглянулась на него.
— Я назад не пойду, — прохрипела она, вскинув взгляд на Мухина. — Отпустите меня.
-
Очень четкий, образный, логичный и полный прекрасных деталей пост.
|
ВаряДа позвонил Валентин, конечно, позвонил — сразу же на следующий день и, разумеется, предложил увидеться, звал кататься на лодках по Ярмарке. Там целая компания собирается, говорил он, молодые люди с барышнями, и вообще, раз уж с карнавалом ничего не вышло, то упускать прогулку на гондолах никак нельзя. Баркаролы, конечно, будут, — обещал Валентин сквозь шорохи и трески в телефонной трубке, — и вообще всё будет жутко весело, обязательно приходите, Варечка!  Нижегородскую ярмарку, расположенную на низком берегу стрелки Оки и Волги, каждую весну заливало половодьем, и катание на лодках по затопленным улицам города-призрака было обычной забавой нижегородцев. Но, хотела Варя пойти или нет, у неё всё равно не получилось бы: нужно было ехать с отцом в Гороховец. В этом городке была верфь, где закладывали отцовскую нефтеналивную баржу, новейшей конструкции и самую большую в мире*, и вот Варе теперь нужно было ехать на церемонию закладки. Без Вари в этот раз обойтись было никак невозможно — танкер, как называл это судно инженер Шухов, было решено окрестить «Святой Варварой», и по пути в Гороховец за завтраком на палубе Шухов шутил, что в первый рейс в следующем году «Святую Варвару» следует выпускать на буксире «Вари» — одного из первых грузопассажирских пароходов отцовского флота. На Гороховец ушёл целый день: серым туманным утром выехали на отцовской «Боярыне Морозовой» по Оке, вернулись поздним вечером. Городок был маленький, деревянный и бедный, и тем страннее оказалось увидеть на берегу Клязьмы огромную, очень грязную верфь: китовьи брюха недостроенных пароходов и барж, железные ворота портальных кранов, подъездные железнодорожные пути в паровозной саже, чадящие трубы металлопрокатных цехов, грязные их окна в свинцовых переплётах. Открытый док под постройку «Св. Варвары» ещё пустовал, весь в лужах, досках, бочках, штабелях брёвен, и напротив дока был сооружён украшенный лентами и флагами помост.  Это другая верфь, но тоже примерно из тех же мест и того же времени. С помощью инженера Шухова Варя под аплодисменты и бравурный марш местного военного оркестра разрезала пневматической гильотиной услужливо поднесённый рабочими блестящий стальной лист, и на том её участие и окончилось. Ещё говорили речи: Варя стояла на помосте с отцом, инженером Шуховым и местным начальством и оглядывала собравшуюся снизу темнолицую, бедно одетую толпу рабочих. Шухов воодушевлённо рассказывал им о том, что проект им предстоит небывалый, что судов такого рода в мире ещё никто не делал, рабочие внимательно слушали, а Варя глядела на них и понимала, что вот этот бедненький серый пиджак на плечах молодого парня с обожжённым лицом, может, её ровесника, — это его лучшая, выходная одежда, что вот эти стоптанные сапоги тщательно начищены ваксой, а линялая косоворотка под пиджаком выстирана именно по случаю — и вот она стоит такая чистенькая, в красивом белом платье и широкополой шляпке, с зонтиком на помосте перед ними, теми самыми, о которых рассказывала Панафигина, которые работают за двадцать рублей в месяц, и вся их жизнь проходит здесь — в нищете, в тяжёлом, беспросветном труде, среди запахов креозота, угля, железа, краснокирпичных стен… — Они, кстати, как у вас, не бузят? — уже после завершения церемонии походя спросил отец у директора завода. — У нас поди побузи, — важно ответил тот. — На Первое ничего не будет? — Не дадим, будьте покойны, Дмитрий Васильевич, — отвечал директор, и было ясно, что это только с отцом директор так добр и вежлив, что Варю он почтительно величает по имени-отчеству только потому, что её отец — крупный клиент его завода, а будь она вместе с этими несчастными бедными людьми… и тут с яростным восторгом понималось, что и она будет по ту сторону, что Первомай, маёвка, на которую они с Гертрудой идут, уже скоро, и теперь уже пропустить первый нелегальный митинг в своей жизни было никак невозможно. ГертрудаПредложение оставить Варю в Нижнем на пару лет Сироткину очевидно не понравилось: он нахмурился, подозрительно посмотрел поверх пенсне на Геру. Было понятно, о чём он думает, — ну конечно, захотела остаться в доме ещё на пару лет, другое такое место ведь ещё поди найди. — Нет, — хмуро сказал Дмитрий Васильевич, — это даже не уговаривайте. Годы её золотые, терять на то, чтобы по хозяйству возиться, нечего и думать. Это-то всегда успеется! Учиться надо ей, учиться! А вам я, Гертруда Эдуардовна, рекомендацию хорошую выпишу, за это не волнуйтесь, место любое с моей-то рекомендацией найдёте, — смягчившись, добавил он. — Варечка-то в вас души не чает. Всё хмурая она чего-то ходила, пока вас не было, учиться перестала совсем, а вы появились, так она теперь и учится лучше, и повеселела сразу. А подражает-то вам как, а! — Сироткин умильно улыбнулся. — Вы вот эдак что-то скажете, и она на другой день за вами следом, я уж приметил! Эх, раньше бы нам вас найти! На этой восторженной ноте разговор и завершился. А через пару дней, заглянув к Фейтам (без Вари, та с отцом была в Гороховце на церемонии закладки «Святой Варвары»), Гера узнала две новости — во-первых, что Фейт уезжает из Нижнего, а во-вторых, что наконец-то после четырёх месяцев открывается Народный дом, где теперь будут собираться эсеровский и эсдековские комитеты. — Ничего опасного, — говорил Лазарев, сидя на белом зачехлённом диване в опустевшей, сразу какой-то нежилой, неуютной гостиной: Фейты уезжали завтра и уже всё упаковали по узлам и коробкам, сиротливо расставленным по полу. — Губернатор, конечно, знает, где мы будем сидеть, но нынешний Фредерикс — это не прежний наш Унтербергер, он революции как чёрт ладана боится, в либерала играет. Он ведь сам Народный дом и открыл, нас задобрить пытается. А нам это только на руку, мы не препятствуем. Кстати, маёвку мы тоже проводим там рядом, у винных складов. — Всё-таки нехорошо, что в этот раз город отдельно, а Сормово отдельно, — обернулась Панафигина, с папиросой стоявшая у окна. — Вы, Елизавета Михайловна, чувствую, всё к большевичкам дрейфуете, — по-старчески дребезжаще рассмеялся Лазарев. — Лопата тоже на совместном митинге настаивал. Нет, совместный митинг точно бы разогнали, а так безопасней. — Разгона-то бояться! — фыркнул Ашмарин. — Витенька, разгона никто не боится, — терпеливо принялся объяснять Лазарев. — Но вы, Витенька, не чувствуете текущего момента. Кабы был прошлый октябрь месяц, тут и разговору не было бы: конечно, надо всем вместе собираться. А сейчас? Рабочие ещё от зимних репрессий не отошли, все забитые, перепуганные: разгон их только дальше от революции оттолкнёт. А нам нужно, чтобы они потихонечку, помаленечку снова начинали верить в себя, что нас много, что мы можем собираться на митинги… — Вот и надо было на единый! — упрямо сказал Ашмарин. — Витя, всё уже решено, — назидательно сказал Лазарев. — Вы можете ныть сколько угодно, но дело от этого не поменяется: сормовцы получат свои листовки, рабочие города свои. И тем более, после митинга у нас ведь с эсдеками будет что-то вроде новоселья, отпразднуем, так сказать, возвращение себе Народного дома, заодно и Первомай отметим. — Что, неужели эсдеки с нами праздновать будут? — не поверил Ашмарин. — А чего же? Народный дом всё-таки наш общий, отчего бы не отметить вместе? Кстати, Гертруда Эдуардовна, вы тоже обязательно приходите! И Варю с собой берите, как мы без неё и вас? КонстантинЧем больше Константин работал в этой подпольной типографии, тем яснее понимал: долго она не протянет. Действительно, место выбрали хитрое — наглость, с которой разместили станок в оранжерее, отделённой от оживлённой улицы лишь кирпичной стеной двора, могла вести власти в заблуждение, но лишь на какое-то время. Ещё месяц, другой — и накроют, понимал Константин. Где-то через неделю после того, как за литературой в первый раз пришли Гера и Варя, прозвучал первый звоночек: в лавку вошёл пузатый, щекастый городовой и поинтересовался, что это там во дворе так стучит. К счастью, у Лазарева был готов ответ — стучит, сказал он, насос. В оранжерее действительно был подключенный к артезианской скважине бензиновый насос, он и правда стучал при работе. Звук его, конечно, был непохож на железный лязг станка-американки, но городового объяснение устроило. «По ночам потише только, а то люди жалуются», — назидательно сказал городовой и ушёл. Теперь работать приходилось не так яростно, не раскачивать педаль ногой так, чтобы она потом как бешеная с минуту своим ходом скакала вверх-вниз, а плавно нажимать, плавно опускать — так выходило тише, но и куда медленней. Впрочем, на то, чтобы работать с прежним задором, уже не оставалось сил — каждый день был как марафон, мышцы ног уже и болеть перестали, только с утра (которое у Константина теперь чаще начиналось во второй половине дня) придавливала чугунная, неподъёмная усталость, и каждый раз казалось, что вот уж сегодня, Костя, ты точно не встанешь и к станку не подойдёшь — причём так казалось ещё некоторое время уже у станка. К ночи усталость проходила, но всё чаще на место ей приходило новое, странное и пугающее чувство: где-нибудь в два часа ночи, работая в освещённой тусклой керосинкой оранжерее среди чёрной листвы и серых в полумраке цветов Константин в очумелом, туманном беспамятстве, в ворохе лоскутов бреда, в которых веретеном назойливо крутился какой-нибудь обрывок песни или стиха, вдруг ощущал лёгкую тошноту, а затем будто расщепление с телом, действовавшим как приставленный к станку автомат: нога жала на педаль, руки перекладывали четвертинки бумаги, и на какой-то миг появлялась совершенная, бесспорная уверенность, что если сейчас захотеть остановиться, убрать ногу с педали, это уже не получится. Всякий раз, завершая работу и укладываясь на рассвете спать в гудящем, не дающем думать изнеможении, стоило усилия понять, что в этой работе есть смысл, что это не сизифов труд, что это важно, что без этой адской каждодневной работы у комитета не будет литературы, невозможна будет агитация, труд и борьба десятков товарищей на заводах, в полках, на пристанях пойдут прахом. И чем ближе к Первомаю, тем яснее Константин понимал — у них получилось: даже если типографию сейчас накроют, она уже оправдала себя: брошюры больше не печатали, их хватало с запасом, весь первомайский тираж листовок (пятьдесят пять тысяч экземпляров, не у всякой газеты такие тиражи!) был готов и передан Варе с Герой. Всё остальное уже зависело не от него — свою часть Константин сделал. Тридцатого числа, закончив последнюю партию, даже получилось отдохнуть полдня — и странно было без дела обессилено лежать в пыльной захламлённой гостиной Лазарева на продавленной оттоманке и пусто смотреть в потолок: мысли сами, будто на пружине, возвращались к станку, и когда взгляд останавливался на часах-кукушке, Константин машинально подсчитывал, что вот он пролежал два часа, за которые мог бы напечатать экземпляров пятьсот, и лишь потом осознавал, что печатать уже ничего не нужно. К этому моменту он не выходил из дома Лазарева уже шесть недель. И вышел только утром первого мая. 16:00 01.05.1906
Винные склады у Острожной площади,
Нижний Новгород
Вряд ли для выхода из добровольного заточения Константин мог бы выбрать день лучше — не просто революционный праздник, день свободы, а ещё и тёплый, яркий, совсем летний день. Воздух был пересыпан солнечной пылью, по углам резко лежали тени, по тротуарам тянулись тонкие пляжные наносы песочка после стаявшего снега. Пахло особым весенним запахом, с тёплым ветром и привкусом дымка от костров, которые жгли во дворах, плыли волнистые отражения в витринах, и тонкие жилки калейдоскопом сверкали в глазах, когда солнце быстро мелькало в кронах деревьев справа и ползло сияющей лужицей по металлическим буквам вывесок слева. Выйти из дома Лазарева оказалось безопасно — плотненького низенького филёра, которого Константин частенько видел дежурящим напротив входа, не было. Наслаждаясь свалившейся на него свободой, Константин провёл в городе день, а к четырём часам направился на окраину, к Острожной площади, на которой стояла тюрьма, где ему довелось просидеть три месяца, и Народный дом, где он в прошлом году не раз бывал — там тогда собирались все комитеты революционных партий.  Тюремный замок  Острожная площадь и Народный дом на заднем плане. Маёвка собиралась, конечно, не на самой площади — такую демонстрацию непременно бы разогнали — но вокруг площади было много подходящих для сходки мест: лесные склады, кладбище, винокуренный завод. К нему-то Константин и направился. Ещё на подходе Константина встретил чернявый прыщеватый паренёк в потёртой, с рыжими пятнами старой кожаной куртке, с надвинутой на глаза кепкой и папиросой в зубах. Этого по-еврейски толстогубого, черноглазого шкета Костя знал, он с ним в прошлом году имел дело, когда осенью работал в Сормове, готовя восстание: Генка Ягóда, четырнадцатилетний сын часового мастера Гирша Ягоды, с фартовыми замашками и смутной, дремучей мешаниной Маркса, Бакунина и Фурье в башке. В революцию его привёл старший брат Миша: вместе с ним Генка работал в эсдековской типографии, а потом Мишу на сормовской баррикаде застрелили казаки, — Костя всё это видел и сам помогал Генке оттаскивать труп в столовую, где размещался штаб. После этого Генка ещё сам палил из браунинга брата по казакам, вопя с баррикады на них матом, но, кажется, ни в кого не попал, только расстрелял ценные патроны. Сам Генка был то ли эсдеком, то ли анархистом — кажется, он сам не до конца понимал. — Здорово, арестант, — прогнусавил Генка, перекатывая в губах папиросу, подозрительно оглядывая из-под кепки пустой переулок за спиной Кости. Руку он держал в выпирающем кармане куртки: стало быть, братов браунинг был всё ещё при нём. — Давно тебя не было видно, мы думали, ты всё на киче сушишься. Извини, обязан спросить пароль. Константин назвал пароль — «Солнце свободы», и Генка указал ему на проход во двор завода. Там, на заросшем бурьяном обширном пустыре, у закрытого склада со штабелем ящиков пустых бутылок, брошенными бочками и хребтами колотого кирпича в пыли, уже собирались рабочие. 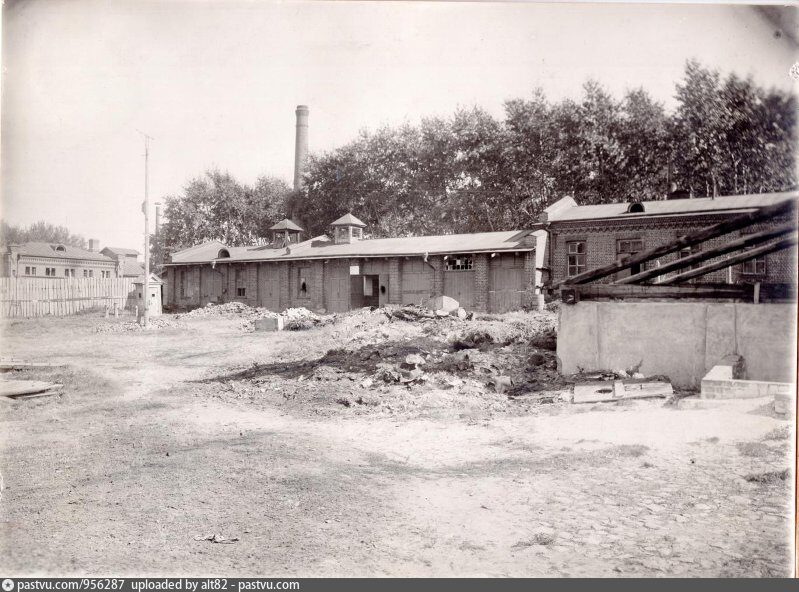  Склады те самые, тут всё аутентично. Людей собралось не очень много — несколько сотен, сосчитать было сложно, но двор не был заполнен рабочими до отказа, как в прошлом году: здесь собирались не первый раз, место было удобное — подходы со стороны города хорошо просматривались, а из двора было несколько неочевидных выходов на склады и пустыри, через которые можно было разбежаться, если нагрянут жандармы. Но жандармов не было, и вообще маёвка пока походила больше на пикник — рабочие больше не стояли, а сидели группками, кто на корточках, кто на подстеленном платочке, кто на земле или дощатом ящике от бутылок, и красных флагов не было. Нет, не то уже было, как в прошлом году, с красными флагами ходить уже опасались. С бугра выступал незнакомый Косте рабочий, энергично размахивавший картузом в кулаке. — Товарищи! Товарищи! — кричал он срывающимся голосом. — А вот о вычетах нужно сказать! Что с вычетами — беда прямо-таки! Администрация нагло и… и бесстыдно пользуется ими, чтобы сбивать с наших трудовых боков жалованье! Сормовичи сколько лет воевали за копейку** и победили, а нас тиранят придирками, вычитают уже по гривне за каждое нарушение, а мы терпим?! — Костя! Костя! — закричали расположившиеся на ящиках в углу двора Панафигина и Колосов, первые заметившие пришедшего Константина. — Идите к нам! — Вот он, наш герой! — Лазарев с кряхтеньем поднялся с ящика, приветственно похлопал Константина по плечам. — Товарищи, я должен вам сообщить, что за эти несколько месяцев Константин сделал для нашего дела, может быть, больше, чем мы все вместе взятые! — О подробностях не спрашиваю, но, кажется, догадываюсь, — протянул руку Константину незнакомый рослый парень в подпоясанной косоворотке, с бритым черепом и окладистой, как у купца, чёрной бородой. — Познакомься, это Георгий Евстигнеевич Шаховской, наш человек в Арзамасском уезде, — представил его Лазарев. — Как, кстати, у вас с распространением? — Да чего там говорить… — досадливо махнул рукой Шаховской, присаживаясь на ящик. — Пару десятков листовок раздал, кое-что раскидал по ящикам, остальное еле успел в печку сунуть. В Нижний буду перебираться, на меня в селе уже урядник волком смотрит. Рабочий тем временем закончил говорить, и на бугор взобрался другой, солидный молодой человек, тоже бородатый, в тонких очках, прилично одетый. — Товарищи рабочие! — поставленным голосом начал он, рубя воздух рукой. — Как, может быть, вы знаете, я представляю Российскую социал-демократицькую рабочую партию, то есть, вашу, товарищи, партию, ту партию, которая последовательно и неуклонно выступает за интересы пролетарьята во всём мире. И сегодня, товарищи, я здесь с вами не просто поговорить пришёл, а пришёл вам рассказать о решениях, которые принял последний съезд нашей с вами партии, о решениях, которые направят нашу с вами борьбу… Этого оратора Костя знал — это был Лопата (по имени он был Василий, а настоящей фамилии Костя не знал), один из главных нижегородских большевиков. У большевиков он был кем-то вроде эмиссара, постоянно разъезжал по губерниям и заграничным съездам и восстание в Сормове пропустил именно поэтому — ездил в Петербург на какую-то партийную конференцию, зато и ареста избежал. — О, и Лопата тут, — развалившись на траве с руками за голову, заметил Колосов. — Должно быть, и больница вся с ним? «Больницей» в нижегородских эсеровских кругах называли большевиков — почти весь их комитет состоял из врачей, фельдшеров и санитаров, частью липовых: большевистский председатель комитета, Семашко, сам был известным в губернии врачом-эпидемиологом, вот и комитет подобрал под себя — одних своих коллег сагитировал присоединиться к партии, как зубного врача Невзорову, других трудоустраивал в барачную больницу, которой заведовал: кого-то, как студента-медика Позерна или фельдшера Савёлову, на реальные должности, иных, как Лопату или Цветкова, на фиктивные. Прозвище «больница» вообще-то, как Костя знал, придумали меньшевики, но эту насмешку большевики парировали, заявив, что если они — больница, то меньшевики, получается, мертвецкая. Называться мертвецкой меньшевикам хотелось ещё менее, чем собственным обидным названием (которого те тоже избегали, предпочитая говорить про себя «мы Мартовцы»), поэтому теперь больницей ленинцев звали в основном эсеры. — А Семашко как, ещё сидит? — поинтересовалась Панафигина. Семашко был арестован, как и почти все комитетчики обеих партий, в декабре, после восстания, и за главного в больнице остался Лопата, даром что был липовым санитаром. — Сидит, — печально откликнулся Лазарев. — За него залог просят три тысячи, таких денег у больницы нет. Лопата, говорят, в Стокгольм именно за тем и ездил, у ихнего Ленина денег просил — нет, не дал. — Жаль, — заметил Колосов. — Семашко человек толковый, хоть и эсдек. — Вениамин Егорович, — обратилась к Лазареву Панафигина, — а вы выступать будете? Лопата хорошо говорит, надо его перекрыть, а то все рабочие к больнице убегут. — Я потом, ближе к концу выступлю, — ответил Лазарев, — если сейчас лезть, больница как афронт воспримет. Споры начнутся, свара, вам оно надо? — Вот Ашмарина нет, он-то с большевичками любит поспорить, — сказал Колосов. — С большевичкАми или с большевИчками? — улыбнулся Лазарев. Все знали, что у Ашмарина роман с большевичкой Надей Олигер, что не мешало им на публике демонстрировать своё открытое неприятие конкурирующей партии и спорить о вопросах революционной борьбы. — А где, кстати, он? В Народном доме? — Да, готовит там всё. Как закончится маёвка, мы туда пойдём, хоть отметим праздник как следует, — Лазарев приподнялся со своего ящика, по-гусиному вытянул бритую шею, высматривая кого-то за спинами рабочих, и замахал рукой: — Варенька! Гера! Сюда, мы здесь!
-
Это не пост в игре. Это глава из восхитительной, увлекательной, интереснейшей книги, написанная с несомненным талантом.
|
— Да чего там рассказывать? Один умный человек в правительстве, граф Витте, и под тем уж кресло шатается! Долдоны! — прогремел Дмитрий Васильевич Сироткин в ответ на расспросы Вари о его поездке ко двору в Царское Село. Это было в марте, до приснопамятного первого похода за нелегальной литературой в цветочный магазин Лазарева: отец ездил в Петербург во главе большой старообрядческой делегации и имел аудиенцию с царём. Однако, пускай отец, как обычно, на всё ворчал и на всех ругался, Варя, а вслед за ней и все обитатели особняка на Ильинке видели, что из поездки Дмитрий Васильевич вернулся чрезвычайно довольным. Он ходил по дому с заговорщицким видом, шушукался с кучерами Иваном и Филиппом, приказал освободить от хлама сарай рядом с конюшней, звонил в москательную лавку, оговаривая какие-то оптовые поставки, держал в сейфе, никому не показывая, таинственные каталоги и руководства и вообще имел вид человека, который готовит всем большой сюрприз. О том, что это будет за сюрприз, скоро догадались почти все: Иван и Филипп проболтались, вид пустого сарая с широкими воротами говорил сам за себя, пришедший из москательной лавки счёт попал на глаза, а руководство американской фирмы «Winton» отец отдал на перевод Гере, попросив до поры держать в тайне само существование брошюры. И всё равно Варя с Герой, вернувшись из цветочной лавки Лазарева с шляпными коробками, набитыми эсеровской литературой, изрядно поразились, увидев, как во дворе дома с фуры, запряжённый битюгами-тяжеловесами, стаскивают сверкающий из-под брезента никелированными частями, свежо пахнущий кожей, маслом и металлом американский автомобиль.   Реклама, кстати, как раз весны 1906 года, так что тут с исторической правдой всё точно — «Винтон» можно было купить. Вокруг диковины собрались все обитатели дома: Дмитрий Васильевич ходил вокруг с видом Бонапарта, доктор увлечённо его о чём-то расспрашивал, кучера Иван и Филипп глядели на машину с опаской, прислуга, хоть давно и прознавшая о том, что за покупку везут из Москвы, всё равно искренне ахала, черницы из Семидевьего скита стояли поодаль и крестились, подозревая диавольское происхождение машины, а Марья Кузьминична с полными слёз глазами не знала, что и сказать. Наконец, она обратилась к мужу: — Да на что нам такое чудо-юдо, Василич? Как оно по нашим дорогам ездить будет-то? — Будет, будет ездить! — уверенно отвечал отец. — Вот дороги подсохнут, так поедет — только пыль столбом стоять будет! — Да как она на наши горы-то заберётся? — не унималась Марья Кузьминична. — Мы в Вене-то по ровному катались, а у нас вот хоть на Зеленский съезд она разве закатится? Вниз-то конечно, а вверх как? Петрушку пристегать? — показала она на косящихся толстоногих битюгов, запряжённых в фуру. — Да ты!… — отец хотел было, как обычно, выругаться, но вспомнил о беременности жены и сдержался. — Да ты подумай, Марьюшка, в ней же сорок лошадиных сил! Сорок лошадей в одном моторе! Сорок лошадей на Зеленский съезд коляску затянут или нет? — Кто ж такой табун в коляску-то запрягает? — хмуро сказал кучер Филипп, неприязненно глядя на автомобиль. — А ты, Филиппка, с Ванькой учиться править будешь! — довольно объявил Дмитрий Васильевич, хлопнув кучера по плечу. И вот теперь кучера Иван и Филипп учились править «Винтоном», который все в доме скоро все начали называть с ударением на второй слог, видимо, подразумевая сложность механического устройства. На ещё не подсохшую улицу пока выезжать опасались, но не один раз Варю отвлекал от подготовки к выпускным экзаменам (май был всё ближе) рык мотора из двора — а, выглянув из окна, она видела Ивана в кожанке и очках на водительском месте, оцепенело сжимающего руль, и как «Винтон» с треском и клубами сизого дыма перевалисто тарахтит мимо парадного подъезда по изрытой змеистыми следами шин песчаной дорожке к тенистому, всё ещё заваленному лежалым снегом углу сада под тёмно-красным брандмауэром. «Тормози!» «Тормози!» — Дмитрий Васильевич, доктор, Филипп и горничная Матрёна с крыльца наперебой орали вслед разгоняющемуся как бешеный боров «Винтону», пока, наконец, машина рывком не останавливалась, чуть не въехав в сугроб. «Я забыл, на каку педаль жать», — лепетал белый от ужаса Иван. За оградой останавливались прохожие, наблюдая за происходящим. — Вот как эта штука называется? Ну, скажи мне! — спрашивал отец, стоя без пиджака, с закатанными рукавами сорочки, в сарае у откинутого капота, тыча заляпанными машинным маслом пальцами в механическое нутро. Вокруг толпились несколько человек — отец, кучера и заглядывающий через их плечи доктор. У стены стояли несколько больших молочных бидонов, полных бензина, — именно его отец выписывал из москательной лавки. — Ета? — задумался белобрысый вихрастый Филипп, восемнадцатилетний сирота из глухой староверской деревни в ветлужских лесах. В отцовской конюшне он работал с малых лет и в детстве, терзаемый сложными чувствами, подкладывал Варе в портфель лягушек и жуков. — Пипка! — вдруг глупо ответил он. Стоящий за спинами разглядывающих мотор мужчин молодой тонкоусый доктор по-лошадиному всхрапнул, давя смех. Ему вообще было очень скучно здесь: беременность Марьи Кузьминичны опасений не вызывала, никто в доме ничем серьёзным не болел, и доктор днями маялся бездельем и всё пытался приударить за Герой. — Сам ты пипка! — возмутился отец. — Это свеча, я же объяснял! — Да какая ж ето свеча? — хлопал глазами Филипп. — Она и на свечу-то не похожа. — Это электрическая свеча, как в лампочке, — вмешался доктор. В технике он ничего не смыслил, но мнение по любому вопросу вставить любил. — Чёрт ногу сломит, — жалобно сказал Филипп. — С лошадьми-то куда как проще, вожжи натянул… — Ты поговори мне ещё, — перебил Дмитрий Васильевич. — Не по нраву, так скажи, чай ты не крепостной, а я не барин. Расчёт получишь, кого смышлёней найдём. — Да я разве чего… — обречённо вздыхал тот, уныло рассматривая чёрные дебри мотора. Теперь шляпные коробки, в которых Варя с Герой носили литературу из подпольной типографии, казались даже излишней предосторожностью — эти стопки воззваний «Къ рабочимъ», брошюр «Памятная книжка соцiалиста-революцiонера» и листовок «На маёвку!» можно было носить вообще в открытую, — и этого отец не замечал, до такой степени ему было не до того. Мало беременности жены, мало выборов в Думу, мало «Винтона», мало нового особняка на Верхневолжской набережной, который заканчивали отделывать, у него ещё наступало и самое напряжённое время года — весна, открытие навигации по Волге: надо было готовить пароходы к первым рейсам, ехать в Баку, откуда он возил на баржах нефть, брать первые подряды. До такой степени Дмитрий Васильевич был занят, что даже забыл про Варин гимназический бал, и пришлось напоминать. Вообще-то гимназические, как и прочие, балы обычно проводили зимой — но в декабре было восстание, городская жизнь нарушилась, и бал перенесли на апрель, чему отец изрядно удивился — он-то думал, что его вовсе отменили, и слава Богу. Идея с балом ему ожидаемо не понравилась. «Баловство и суета! — объявил он Варе. — Что мы, благородия, чтобы по балам хвостами трясти? У нас своё сословие, своя вера, свои обычаи. Знаю я, как на балы одеваются: спины голые, прости Господи, титьки наружу! Нет, никаких балов! Нам в жизни нужно с Аввакума пример брать, а он по балам не ходил!» Варя на это зло возразила, что Аввакум и на автомобиле не катался, однако ж отца это не остановило, и если ему можно заниматься тем, что ему интересно, почему ей нельзя? Тем более, добавила она, бал будет в здании их гимназии, под присмотром учителей, и уж никаких голых спин точно не будет, потому что разрешается приходить только в гимназической форме, разве что причёску на свой вкус сделать можно. А кроме того, — против этого одноклассницы протестовали весь год, но переубедить школьное начальство не удалось, — обязательным было присутствие родителей. Это изменило мнение отца, и, поворчав ещё, что вообще не стоило ему записывать Варю на уроки танцев, он всё-таки согласился — тем более что представился отличный случай в первый раз эффектно выехать на улицу на «Винтоне». 18:50 22.04.1906
Нижний Новгород,
Ильинская улица, Мариинская гимназияИ получилось впрямь эффектно: «Винтон» был не первой машиной в Нижнем, но во всём городе автомобилей было пока не более десятка, и забавно было видеть, как останавливаются на панели прохожие, глядя, как из распахнутых ворот, горя электрическими фарами в сизом сумраке тёплого, уже почти майского вечера, выруливает машина с Филиппом за рулём, отцом в фрачной паре рядом с ним, и Варей, в шали и гимназическом платье с праздничным белым передником, сзади. — Поворачивай, крути, крути руль-то! — тормошил отец Филиппа. — Да знаю я всё, не мешайте мне! — позабыв о почтительности, цедил сквозь зубы Филипп, сгорбившийся над баранкой с шофёрскими очками на глазах, будто нёсся на скорости сто вёрст в час, хотя «Винтон» выползал из ворот с грацией инвалидного кресла. И на коротком, в полверсты, прямом отрезке Ильинской улицы до гимназии на осторожненько тарахтящую машину тоже оборачивались, и когда остановились у знакомого подъезда, во все глаза уже собирающиеся перед входом, торопливо прячущие в кулаки папиросы гимназисты смотрели, как выходят Варя с отцом из автомобиля. Для полного эффекта не хватило, правда, чтобы Филипп проворно соскочил с сиденья и распахнул перед Варей дверцу, — но такому его ещё не обучили. Варе и отцу открыл дверь старый знакомый — швейцар Пантелей, выряженный по случаю в красную с золотом екатерининскую ливрею (и странно было думать, что этого с детства знакомого старичка ты скоро уже перестанешь видеть каждый день), и они прошли в белый сводчатый вестибюль гимназии. Тут уже было столпотворение: у гардероба, у лестницы, у высокого тёмного зеркала, у коридоров в классные комнаты кучковались выпускницы — не только их Мариинки, но и из второй городской гимназии (все не только в форменных платьях, но и в одинаковых чёрных туфельках, и без цветков в волосах, отметила Варя: у «вторишек» правила были жёстче), и «сороки» из частной гимназии Хреновской, и ученицы гимназии Ильинской, у которых даже прозвища не было, потому что школа их была далеко, в Кунавине, за Окой. Не было только воспитанниц Мариинского института благородных девиц — это достойное заведение держало себя высоко и проводило собственный бал совместно с Александровским дворянским институтом. К растерявшемуся от девичьего гомона, смеха и шума отцу подошла начальница гимназии, в обтягивающем слоновий круп тёмно-лиловом платье, с серебряной брошью и ниткой жемчуга на плотной мраморной шее, с заискивающей любезностью поприветствовала его (ну ещё бы, на чьи деньги туалеты-то в прошлом году ремонтировали, — подумала Варя) и, рассыпаясь в извинениях, что не может проводить лично, попросила пройти в зал, так как сейчас — Варя эти порядки знала, всё это уже репетировали, — девочки будут встречать гостей, и его присутствие тут не требуется. — Серафима Павловна, время без пяти минут! Они уж там толпятся! — обратился к начальнице Пантелей, заглядывавший через цветные окошки двери. — Так! — начальница вышла на середину, мелко и громко захлопала в ладоши. — Девочки! Девочки, строимся! Строимся в две шпалеры: Мариинка и вторая сюда, Хреновская и Ильинская в другую шпалеру! Кое-как построились: вестибюль был маловат, и пришлось стоять тесно, плечом к плечу — Варя оказалась прижата боком к незнакомой, простуженно сипящей на каждом вдохе толстухе из второй гимназии с кокетливо завитыми волосами, спускающимися на коровье-тупое лицо с прыщиками на пухлом подбородке: Варя была невысока ростом, толстуха была выше на голову, и Варя чувствовала, как резко несёт от её подмышки потом, который сладкий запах духов не мог перебить. С другой стороны вестибюля так же, как куклы в ряд, тесно выстроилась коричнево-белая шеренга гимназисток, и глядя на их страдающе-нетерпеливые лица, Варя понимала, что всем здесь одинаково неприятна эта непонятная и никому не нужная церемония, которую, однако же, по какой-то причине следовало выполнить, как следовало потом дожидаться окончания молебна в честь грядущего тезоименитства Государя — хотя можно было бы просто пойти в зал танцевать. — А где священник? Священник где? — вдруг спохватилась Серафима Павловна, выравнивавшая шеренги: «вы полшага назад, вы чуть вперёд, вот по этой линии кафеля ровненько стоим!» — В буфете, кажется, он со служками там сидел, — растерянно обернулась Варина классная дама, тоже помогавшая строить воспитанниц. — Они что там, с ума посходили? Елена Карловна, немедленно ведите их в зал! Молебен вот-вот начнётся, а они в буфете чаи гоняют! — Серафима Павловна! — воскликнул Пантелей от двери. — Уже три минуты восьмого! Они уж в дверь стучат! — Ну запускай, запускай! Девочки, ровненько, ровненько! — Имеем честь приветствовать вас! — нестройным хором сказали все, присев в книксене, когда в вестибюле появился первый гость — важно шагающий мимо учениц, вальяжно им кивающий лысый и толстый, с голубой орденской лентой через плечо, губернский инспектор народных училищ, склонившийся в поклоне перед медово улыбающейся Серафимой Павловной. Пантелей дождался, пока инспектор пройдёт в коридор, махнул рукой, чтобы входил следующий — им был высокий худой гимназист в синей тужурке со стоячим воротником, начищенной бляхой, рядом блестящих пуговиц, с фуражкой в руках. «Имеем честь приветствовать вас!» — повторили гимназистки книксен перед молодым человеком, шедшим на поклон к Серафиме Павловне со слегка обалделым видом, ещё и оттого, что не ожидал увидеть священника со служками, с извинениями пробиравшихся мимо гимназисток. И ещё около ста раз пришлось повторять приветствие, пока, запускаемые поодиночке, через вестибюль проходили ученики губернской гимназии, «нагрузы» из реального училища, «механы» из механо-технического и «бобры» из коммерческого, так что к концу процессии колени ныли, а язык еле поворачивался. Наконец, с приветствиями было покончено, и Серафима Павловна облегчённо вздохнула и повела учениц в залу, где уже собрались гимназисты, учителя, опекуны и оркестр. Всё было готово к балу — облитая жирным золотым светом зала с дробным хрустальным сверканием люстры, приглашающе блестящий, сливочного цвета паркет, зелень в горшках, венские стулья по бокам, столики с лимонадом, корзинка билетиков благотворительной лотереи, поставец с призами (в основном книжки). В конце зала, на возвышении, выжидающе сидели со скрипками и трубами у ног музыканты оркестра Убежища бедных детей — тоже молодые, в белоснежных манишках и долгополых фраках. Перваншево синел весенний вечер за высокими окнами, и можно было уже начинать — но следовало выдержать ещё одну бесконечно скучную и бесконечно долгую церемонию. Пока начальница гимназии говорила фальшивую, полную пустых, патетических слов речь, пока священник-никонианин в тяжёлой, расшитой золотом рясе проводил молебен за здравие Государя, Варя, как обычно, стояла в сторонке, вместе с Еленой Карловной Лундстрём, татаркой Гульнарой из параллельного класса, полячкой Басей (кстати, тёзкой Вари) и несколькими незнакомыми девочками из других гимназий. Поп заунывно выводил псалом, а Варя скосилась на чёрную с разноцветным толпу родителей у стен и заметила отца, тоже вставшего наособицу: отец глядел на никонианскую церемонию подчёркнуто непроницаемо и с достоинством, всем видом своей полной фигуры выражая, что в этом противном Исусу (через одно «и»!) действе он не участвует, а лишь присутствует здесь. Так вызывающе он себя вёл на каждом никонианском молебне, а ему как члену Биржевого и Ярмарочного комитетов приходилось присутствовать на многих, и хотя другие староверы в таких случаях всё же крестились (двоеперстно, конечно), отец и этого никогда не делал, из чего газетчики выдумывали новости вроде «Миллионщик Сироткин публично отказался молиться за здравие Государя». Варя видела, что не одна она смотрит на отца, что на известного в городе миллионщика-фрондёра оглядываются и другие, но без неприязни, а с обычным для публики интересом к чудачествам богачей — и это внимание как будто отражённым и рассеянным светом передавалось на неё, и Варя чувствовала, как публика оглядывает и отдельно стоящую группку неправославных девочек, пытаясь угадать, которая из них дочь Сироткина. Молебен закончился, все шумно разошлись по сторонам зала — гимназисты в одну сторону, гимназистки в другую, и, наконец, началось: торжественно загремел оркестр, по пустому паркету с цирковой лёгкостью вышагивал церемониймейстер, учитель танцев Шабаневский, призывая господ приглашать дам на полонез — господа в тёмно-синих тужурках посыпали через зал, кидая разбегающиеся взгляды на стоящих дам. Выбор партнёра напоминал детскую игру в музыкальные стулья — как там при остановке музыки взгляд сам собой выхватывает пустой стул, так и здесь Варин взгляд скользнул по лицам приближающихся гимназистов и сам собой встретился с таким же скользящим взглядом высокого, с набриолиненными волосами и чёрным пушком над губой реалиста, который немедленно обратился к Варе с приглашением. Неторопливый, чинный полонез был, Варя знала, самым подходящим временем для разговоров, но кавалер ей попался неловкий — сначала подумалось, что этот симпатичный высокий парень тут же полезет знакомиться, но он оказался застенчивым — Варину ладонь в белой перчатке он держал так, будто она била его электрическим током, и шагал в процессии деревянно и напряжённо, всё боясь сбиться. Глядя, как гусеницей загибается по залу строй пар, оглядываясь на молчавшего и пунцовеющего кавалера, Варя с неудовольствием думала, что она и этот дылда, которому Варя и до плеча не доставала, вместе выглядят скорей комично. Но тут пришла пора на короткое время меняться партнёрами. «На следующий вальсик, сударыня?» — развязным шепотком обратился к Варе остроносый, с вытянутым лицом блондин из губернской гимназии. Варя, неторопливо описывая круг вокруг него, ответила, что если ему так угодно, пускай подойдёт и пригласит, как подобает. «Уж не премину-с», — с улыбочкой ответил тот, отпуская Варю обратно к дылде, — и, когда полонез наконец закончился и танцующие разошлись по сторонам зала, действительно одним из первых поспешил с приглашением. — В три или в два? — сразу же деловито спросил он. Варя ответила, что вальсировать в два такта скучновато, поэтому лучше в три. Гимназист кивнул. «Я настаивал перед начальством на маскараде, но раз уж мы без масок, не худо бы и представиться — Валентин» — сообщил он, начиная кружиться с Варей. Танцевал Валентин, может, не слишком умело, — не было в его движениях автоматической ловкости учителя Шабаневского, и вёл Варю он по паркету быстровато, не примеряясь под короткость её шагов, но всё же вальс с настоящим кавалером было не сравнить с тем, как они танцевали на уроках, шерочка с машерочкой, и даже когда своей партнёршей Варю выбирал учитель Шабаневский, всё равно касания его были какие-то бесстрастные, докторские: не то здесь — и твёрдое плечо под сукном гимназической тужурки, на которое Варя положила ладонь, и рука Валентина, плотно охватывающая Варю под лопатками, и случайное касание грудью, и близкое, остроносое, с парой чёрных родинок на щеке, склонённое вниз лицо, и запах кофе и табака, и мельтешенье по сторонам, пьянящее круженье, гремящая музыка, сверкающее сиянье люстры над головой — всё это придавало вальсу особый, настоящий смысл. — Заметьте, как беззаботно кружится мсье Шабаневский, — кивнул Валентин на учителя танцев, вальсирующего с начальницей гимназии. — Он её, бедную, замотает. Жуткий человек! Вы слышали, что он стрелялся из-за несчастной любви, когда был студентом? Стрелял в голову, но мозг, к счастью, не задел, за отсутствием такового. Да, он у нас тоже ведёт танцы. Мы его зовём «мсье» — вы слышали, какой замечательный у него прононс? Никакого шрама на голове Шабаневского Варя не видела, а вот французский прононс у учителя был действительно знаменитый — танцор он был отменный, но французского не знал и требуемые фразы произносил как заклинания, не пытаясь скрыть акцент: «Кавалье, бълянсе авек во дам!». — У нас с ним был жуткий конфликт весь год, как раз из-за того, что мы настаивали на маскараде. Представьте, как было бы славно — Арлекины, Коломбины! Вы «Балаганчик» читали? Кстати, вам, Варя, очень бы пошёл костюм Коломбины. Нет, я был бы не печальный Пьеро. Я бы пришёл в красном домино, и цвет тут неслучаен: под ним у меня все бы подозревали бомбу, а на самом деле там была бы — Валентин склонился к уху Вари, и вместе с тем она почувствовала, как его рука сползает ниже, к талии, — …бутылка шампанского. В этом, собственно, и была главная идея. Всё, убираю, убираю, — без смущения ответил он на замечание Вари. — А Шабаневский нас после очередного демарша стал всех считать революционерами. Мы ему даже посвящение сочинили: Мсье указкой свистнул, словно гильотиной,
Сказал нам: «Господа, вы мне противны!
Вся ваша юность — ни одной искры таланта,
Вся ваша мудрость — это лозунг с транспаранта…»Тут Варя почувствовала сильный толчок в спину и, споткнувшись, еле удержалась на ногах: она обернулась и увидела, что на неё налетела другая пара танцующих — Гульнара с тем самым дылдой, танцевавшим с Варей полонез: Валентин, заговорившись, перестал следить за тем, куда идёт. «Осторожней!» «Пардон!» «Глаза разуйте!» — обменялись репликами стороны, и вальс возобновился, но второй тур уже подходил к концу: Валентин хотел было пойти на третий, но Варя напомнила ему, что более двух туров за раз танцевать воспрещается. — Ну что ж, — огорчённо сказал он. — Тогда я вас на третий вальсец ангажирую, идёт? И на пятый тоже. И на шестой — гулять, так гулять? Варя ответила, что более двух раз с одним кавалером танцевать тоже запрещено, не говоря уж о двух вальсах подряд. — Да кто заметит! — поморщился Валентин, отводя Варю к группе стоящих дам. Ну уж Варя точно знала, кто заметит: она не сомневалась, что отец внимательно за всем следит, о чём Валентину и сообщила. — Ну, раз так, значит, шестой, — со вздохом согласился он. — Не вздумайте обмануть! К сидящему у окна отцу Варя подошла раскрасневшаяся: воздух был печной, душный, и сразу пригодился японский лаковый чёрный веер, который Варя вынула из сумочки, переданной отцом. — Ну как, весело? — довольно спросил отец. — А я тут, между прочим, Петра Парфёныча встретил. У Петра Парфёныча тоже, оказывается, племянник в коммерческом учится. Варя не поняла, кто такой Пётр Парфёныч, какое вообще это имеет отношение к балу, к весёлому круженью, почему отец указывает на сидящего рядом рыжебородого господина. Рыжебородый встал и чинно поприветствовал Варвару Дмитриевну, но к ручке не приложился, и только теперь Варя сквозь ещё гремящие в ушах скрипки, колотьбу в груди и жаркое вращенье в голове сообразила, что этот человек с испитым, оплывшим лицом, в дорогом фраке с золотыми запонками, с простонародно забранными на прямой пробор медно-рыжими волосами, и есть Пётр Парфёныч, и что он тоже, вероятно, купец, какой-нибудь очередной деловой партнёр отца. «Мы, Пётр Парфёныч, отойдём чутка» — сказал отец, отводя Варю в сторону, где с томным выражением стояли у колонн не приглашённые на танец гимназистки. — Фома, его племянник, хороший мальчик. Вон он танцует там, — понизив голос, заговорил отец. Варя, конечно, не могла разобрать, кто из танцующих этот Фома: всё сливалось в одну калейдоскопную круговерть. — Тоже нашей веры. Семья хорошая, работящая, и капитал имеет. Ты потанцуй с ним, Варечка. Хороший мальчик-то, — кажется, отцу самому было неловко всё это говорить. Хороший мальчик Фома оказался рыжим, как дядя, бугаём с тупым, бровастым выражением лица, но делать было нечего — после того, как они с Варей были друг другу представлены, он немедленно пригласил её на падекатр. Танцевал он по-медвежьи, пыхтел, всё интересовался автомобилем, на котором Варя приехала, пару раз наступил Варе на ногу и тоже пытался ангажировать её на все танцы сразу: от него еле удалось отделаться. Ещё один вальс с низеньким гимназистом с изъеденным оспой лицом, который всё пытался теснее прижаться к Варе, и Варя поняла, что на кадриль её уже не хватит, — она часто дышала, веер уже почти не помогал, гоняя банный, горячий воздух. «Гранр-рон!» — по-фельдфебельски командовал Шабаневский, демонически носясь между танцующими, кошмарно надрывались скрипки, вой труб забирался в середину черепа, подкатывала дурнота. Ещё немного, поняла Варя, и потемнеет в глазах: надо было глотнуть воздуха. Она направилась в тёмный, пустой коридор, сразу обдавший свежестью, прохладой, как пруд, в который ныряешь с размаху, — только сейчас Варя поняла, как душно было в зале. Переведя дух, она направилась в уборную. Странно и непривычно было идти по тёмным пустым коридорам гимназии: каждая дверь с металлическими табличками на дверях была знакома Варе, каждая щербинка на лакированных перилах, каждая трещинка в кафельной плитке, но всё это сейчас, в полумраке, с приглушённо гремящей из-за спины музыкой, казалось чужеродным, нереальным, будто во сне или матовом отражении. Под лестницей Варя заметила четырёх реалистов, торопливо разливающих что-то из фляжки в стаканы с лимонадом. «Не жмотьтесь, Серебровский!» — требовательно шептал один. «Ты окосеешь, дурак!» — недовольно отвечал другой. «Серебровский, вы жопа!» «Очень остроумно!» «Мадемуазель, присоединяйтесь к нам! Ну и очень зря!» «Вы многое теряете, синьорита!» «Серебровский, вас игнорирует уже третья дама, проблема в вас, синьор» «Можно подумать, тебе все на шею кидаются». Подойдя к уборной, Варя услышала, как за дверью кто-то заходится рыданиями, всхлипывает, протяжно скулит, и некоторое время стояла, не решаясь заходить. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге показалась та самая потная толстуха, с которой Варя стояла в приветственной шпалере — красная, заплаканная, с потёками туши по щекам. — Чё вылупилась, а?! — не угрожающе, а жалобно, с ненавистью скорее не к Варе, а к самой себе выкрикнула она и размашисто зашагала мимо по коридору, гулко грохая ногами. В уборной остро пахло папиросным дымом, на дне раковины лежал пепел и окурок. Варя уже заканчивала умываться, когда дверь в уборную снова раскрылась, и Варя снова увидела эту же толстуху. «Я умыться забыла», — шмыгнув носом, понуро сообщила она, открывая кран. А возвращаясь, Варя заметила в тёмном коридоре две сцепившиеся в объятьях у стены фигуры, и с удивлением узнала, проходя мимо, классную тихоню Катю, целующуюся с каким-то длинноволосым гимназистом, который прижимал её к стене. «Варька! — заметив одноклассницу, оттолкнула Катя гимназиста и страшно зашептала: — Чтобы никому! Поняла, ни слова! Убью!» Гимназист глупо улыбался, ничего не говоря. Вернувшись в зал, сразу обдавший тепличной духотой, Варя увидела, что кадриль уже кончилась, прошёл и третий вальс и объявлен перерыв: музыканты оставили сцену, толпы перемешались, отовсюду слышались смех и разговоры. Начали разыгрывать благотворительную лотерею: мило улыбающаяся Бася обходила всех с корзинкой билетиков, за которые каждый платил по усмотрению: кто рубль, кто червонец. Когда очередь дошла до отца, тот с важным видом положил в корзину пятидесятирублёвую банкноту — Бася с вежливым удивлением подняла брови, сделала глубокий книксен, а Варя, в это время разглядывавшая публику, увидела, как Валентин о чём-то, смеясь, разговаривает с Зиной Ребровской — та заливисто хохотала и хлопала его по плечу веером. Кажется, они взглянули на Варю — сначала Зина, потом Валентин, и непонятно было значение этого взгляда. И во время четвёртого вальса они продолжали мило общаться, и пятый вальс танцевали вместе, видела Варя из-за плеча Фомы (тот только и дожидался возвращения Вари и первым подбежал приглашать), и танцевали Зина с Валентином ловко, легко, будто не в первый раз, и о чём-то увлечённо разговаривали — и, когда при начале шестого вальса Валентин, как было обещано, подошёл к Варе, она не могла не спросить, понравилось ли ему танцевать с Зиной Ребровской. — С Зинкой-то? — удивлённо переспросил запыхавшийся, раскрасневшийся Валентин. — Да я с ней часто дома танцую — это сестра моя. Ну да, близнецы. Так, теперь в два такта: ну, понеслись! Только сейчас Варя, быстро кружась, вглядывалась в его лицо и заметила сходство с Зиной — оба были светловолосые, с тонкими, дворянскими чертами лица (Варя знала, что отец Зины и, стало быть, Валентина — председатель дворянского собрания), с одинаковыми серыми глазами. Она ведь и знала даже, что у Зины есть брат-близнец, — но как было догадаться? — Однообразно и безумно, давайте снова в три! — переводя дух, бодро сказал Валентин. По нему, однако, было видно, что танцевать он уже устал; устала и Варя. В три такта выходило медленней, спокойней. — Вы знаете, мне тут некая особа, я не могу называть её имени, но намекну, что оно начинается на «зело», рассказала по секрету… вижу-вижу, не столкнёмся! — они разошлись в опасной близости с Шабаневским, неутомимо кружившимся с Еленой Карловной, и Варя заметила, как классная дама одобрительно и радостно улыбнулась Варе из-за плеча танцмейстера, — рассказала по секрету, что у вас в классе есть одна очень странная гимназистка. Жуткая женщина, говорят: настоящая эмансипе, ездит на автомобиле и летает на аэроплане в Париж! Особа на букву зе зутко ей завидует, говорит про неё всякие гадости и строго-настрого предупреждает меня не связываться с ней, а уж паче всего не брать её телефонного номера… Вы устали? Варя действительно больше не могла танцевать и попросила отвести её обратно. В голове колотило, ноги плохо слушались, и не только у неё: оглянувшись, Варя увидела, что танцуют всего три пары — или четыре? Или пять? Тяжело уже считалось, голова шла кругом. Бал заканчивался, это был предпоследний танец, оставался только финальный котильон. — Но я решил всё делать по-своему и номер этот всё-таки взять, — говорил Валентин, подводя Варю к свободному стулу. — И, знаете, пусть меня волокут в околоток, пусть везут на каторгу, но, ей-ей, не сойду с сего места, пока его… от вас не получу-у-у… — начал он фразу бойко, а закончил тянуто, и Варя сперва не поняла, почему, а лишь проследив за направлением взгляда Валентина, увидела, что к ним через зал идёт отец, тяжело глядя на гимназиста. — Весьма польщён знакомством! — дерзко сказал Валентин отцу, хотя представлены они и не были, размашисто поклонился и тут же скрылся за колонной, шепнув Варе напоследок: — Номерок! — Это что ещё за хлыщ? — мрачно спросил отец, провожая Валентина взглядом. — Ну как, наплясалась? Домой уж пойдём? А ты смотри, — достал он из кармана книжечку в бежевой мягкой обложке, — я вот тут в лотерею выиграл. «Литургия красоты» какая-то. Просмотрел — ничего не понял. … 10:20 23.04.1906
Нижний Новгород,
Ильинская улица, особняк Сироткина— Гертруда Эдуардовна! — остановил Дмитрий Васильевич в вестибюле вошедшую с улицы Геру. — Я хочу с вами поговорить, пойдёмте-ка ко мне в кабинет. Почему от вас табаком пахнет? — строго спросил он, поднимаясь с Герой на второй этаж. Как раз за минуту до того Гера выкурила первую за день, упоительной волной пробежавшую по нервам папиросу, выйдя за ограду особняка (Сироткин категорически запрещал курить не только в доме, но и во дворе). Было воскресенье, и Варя ещё спала, утомлённая вчерашним балом, с которого она с отцом вернулась только в одиннадцать, так что у Геры было свободное время. — Если уж не можете удерживаться от этой пагубы, так хотя бы пастилки или леденцы какие-нибудь ешьте, чтоб от вас не пахло. Плохой пример Варе подаёте! Сейчас мало, что каждый гимназист эту дрянь в рот тащит, и гимназистки туда же через одну! Я такого не потерплю. В нашей вере курение запрещено! (Гера, однако, уже не первый месяц жила в Нижнем и знала, что и среди старообрядцев много курящих.) Ещё раз учую от вас этот запах, будут штрафы. Проходите, — он распахнул перед Герой дверь своего орехового кабинета. Сироткин усадил Геру в кресло у чайного столика, кликнул горничную Лампу, чтобы та принесла чаю. Увидев, что в кабинете Гера, Лампа принесла разные стаканы — для Сироткина обычный, а для Геры — с красными полосками по бронзовому подстаканнику и ободу стакана. Это тоже полагалось по правилам старой веры — есть и пить из особой посуды, не смешиваясь с чужаками: и за столом Гере и доктору наливали суп в тарелки с красной каймой, и чай они пили из меченых чашек. В первую неделю проживания в особняке на Ильинской Гера во время чаепития в гостиной по ошибке взяла с общего подноса не свою чашку — её сразу же остановили и строго объяснили, что так делать не следует. Чашку эту горничная немедленно унесла, и осколки Гера потом видела в мусоре, причём крышку корзины нарочно оставили открытой, а осколки положили сверху, чтобы Гера заметила. Ещё Гере было запрещено спускаться в подвал — не то, чтобы ей очень нужно было туда спускаться, но, спросив у Вари причину, Гера узнала, что там находится моленная, вся в почернелых иконах и ладанном дыме. По воскресеньям и церковным праздникам приходил священник, напоминающий бородатую мышь, и тогда в подвал спускались стоять службу все обитатели дома, кроме Геры и доктора, — вся прислуга была родом из керженских лесов и тоже держалась старых обычаев. Странно и строго жили эти староверы. — Вот, Гертруда Эдуардовна, посоветоваться с вами хочу, — сказал Сироткин, когда чай принесли. — В мае Варя гимназию кончает, надо её куда-то отправлять учиться. Мне, конечно, говорят тут, замуж выдавай, гимназию закончила и будет с неё. Но я ж не хочу, чтобы она дурой набитой всю жизнь ходила, как вон… — махнул он рукой куда-то в сторону, разумея, очевидно, жену. — Девочка-то умненькая, пускай учится! Делом моим ей управлять, конечно, навряд ли придётся, но всё равно знания-то надо иметь в голове! Я вон как мучаюсь! У меня ж образования — один класс церковно-приходской, а с тех пор всё с отцом по пароходам. И то! Ну, предположим, я на реке с детства, все эти машины как себя знаю — и то, говорю с Шуховым, например, так половину слов уже не понимаю. Ну вот. Другие мне говорят — отправляй в Питер, на Бестужевские курсы. Ага, сейчас! В наше-то время — в Питер? Чтобы она там с курсистками под красным флагом бегала? Нет уж, дудки! Только за границу: уж там-то нашего бедлама нет, там она хоть учиться будет. И вот тут у меня голова пухнет! — всплеснул он руками, встал, подошёл к письменному столу и взял с него какие-то бумаги, письма. — Я сначала думал в Америку послать, но теперь не знаю. Пишут тут мне, что из наших там одни жиды. Свяжется ещё… Я не черносотенец, но… всё равно, лучше не надо. Да и далеко больно. В Англию вот, однако, дело другое — там и Савва Тимофеич Морозов учился, а он башковитый был. Дурной, правда, но башковитый. И вот пишут тут мне, пишут, пишут… — Сироткин тяжело вздохнул, усаживаясь обратно за чайный столик, нацепил на крупный, крестьянский нос золотое пенсне, принялся шуршать бумагами. Наконец, нашёл: — Вот, пишут… тут не по-нашему… какой-то «Лондон… шоол оф… медицине… фор вомен». Женское медицинское училище, значит. Как, вы говорите, правильно, «скул»? Тьху, черти, напридумывали же! Вот уж истинно, пишут Ливерпуль, произносится Манчестер. Правда, говорят, сначала на год нужно будет её в какой-то, сейчас, я найду… какой-то «боардинг ш… скул», ну вроде как институт, чтобы она там по-английски натаскалась. Эти институты-интернаты у нас, конечно, глупость одна, — дворяночек книксéны делать учат, но там-то, я чай, иначе всё. И строгость, как-никак, и надзор: с этим, говорят, там всё в порядке. А вы-то вот как считаете?
-
пока Варя вальсирует, подпольщик в поте лица стучит тигелем о таллер, печатая листовки 24/7
И вот так всегда! Пока одни пляшут, другие работают
-
Великолепный пост, чудестные описания, живые люди и ситуации, восхитительные вопросы. Шарман!
-
Оооо! От автомобиля до слоновьего крупа – да еще и особа на букву "зе"! захватывающе!
|
— А?! Чего? — оглядываясь на бегу, заорал в ответ Фрайденфельдсу Тюльпанов. Может, он и сумел расслышать через горячую колотьбу в ушах, что там ему кричит командир с лесной опушки, но вряд ли мог сейчас раздать своим бойцам осмысленные приказания — васильеостровцы неслись сломя голову, стремясь побыстрей преодолеть открытое пространство до бревенчатой стенки гумна. Добежали, снова принялись палить — и тут же отпрянули назад высунувшиеся было из-за бани калужане.
— Твою мать, куда лупишь, шляпа?! — заорал Ерофей Агеев в небо, задирая голову. — Русского от китайца не отличаешь?!
— Калуга, вы там, что ль? — закричали в ответ васильеостровцы.
— Не, китайский анператор, бля!
— Вы чего там заховались? — хоть ни Мухин, ни Фрайденфельдс не могли видеть, кто это голосит, но баритон Живчика было ни с чем не спутать.
— От баранов слепошарых с болот прячемся! — ерепенисто гаркнул Агеев. — Не стреляй, выходим!
Калужане вышли из-за бани, настороженно оглядываясь, но врагов вокруг не было. Фрайденфельс видел, как из-за угла дома возвратился Тюльпанов с несколькими васильеостровцами, как те расходятся по двору.
Мухин успел сосчитать до четырёх, как справа заскрипела, стукнула открываемая рама, кто-то крикнул изнутри: «Wo touxiang le, qing bu yao sheji!» (Я сдаюсь, не стреляйте, пожалуйста!) — и тут же грохнул выстрел, крик оборвался. Дорофей Агеев терпеливо дождался, пока китаец откроет створку разбитого окна, появится в окне во весь рост, и только тогда пальнул. Ходяшка исчез; Агеев с довольным видом поднялся со жнивья на колено, не сводя с окна ствола винтовки.
А Фрайденфельс, наблюдая за происходящим, краем глаза заметил, как справа от калужан между кустов промелькнуло что-то белое и тут же скрылось. Виденная ранее девушка пробиралась по тесно заросшему густо зелёной крушиной берегу реки прочь от хутора; калужане, занятые происходящим вокруг дома, её не замечали.
Мухин досчитал до пяти. Ответа из дома не было, никто не появлялся в окнах за гребёнкой стеклянных осколков, серая деревянная дверь с почерневшей от времени железной ручкой была едва приоткрыта, никто из неё не показывался. Близко за спиной грохнул выстрел — один из калужан поднялся из ржи и, неторопливо направившись к Мухину, походя, не останавливаясь, пристрелил кого-то из недобитков, в живописных позах лежащих на земле. Вслед за ним и другие калужане по одному поднимались, и подходили ближе.
— Чево там, не вылазят? — равнодушно спросил он комиссара и длинно сморкнулся, зажав ноздрю грязным пальцем. Кажется, этого парня с длинным обветренным лицом и грязно-светлыми лохмами, лезущими из-под мятого серого картуза с красным бантом, свои называли Илюхой — припомнил комиссар.
Не, не вылазили. Вроде как даже притихли — не верещали больше, не орали друг другу свою тарабарщину: слышно, по крайней мере, отсюда их разговоров не было. А впрочем, кто-то, кажется, и решил сдаться.
— Выходи, давай! Не боись, иди сюда! Давай сюда, болезный! — кричали василеостровцы ходяшке, появившемуся в широких дверях с торца скотной половины дома. У этой части дома окон не было, внезапного выстрела можно было не опасаться, и василеостровцы вольготно разбрелись по двору. Молодой рабочий с Балтийского завода, длинный, пучеглазый, с рыжей козлиной бородкой Нефёд направился к дымящему над костром котлу, рядом с которым лежали чёрные, обугленные консервные банки. «Кажись, мясное!» — воодушевлённо заметил Нефёд.
— Да выходь, выходь, болезный! — кричали василеостровцы ходяшке, нерешительно застывшему в дверях скотной половины.
— Qing nie nada, qing bu yao… (Пожалуйста nie nada, пожалуйста не надо…) — лепетал тот. Ходяшка был низенький, смуглый, круглолицый, в ватных штанах, круглой шапочке и клочковатой меховой телогрейке поверх грязно-серой рубашки на завязках. Обе руки он в знак сдачи поднять не мог — правая, перебинтованная, висела у него на перевязи из цветастых ситцевых тряпок.
— Давай, ходя, ходи сюда, не боись! — зазывно махали ему красноармейцы. — Рахимка! Скажи ему там на своём, может, он тебя поймёт?
— Сэлам, якташ! Хэлер ничэк? (Здорово, земляк! Как дела?)— развязно обратился к китайцу Рахимка.
Китаец Рахимку не понял, но общий посыл уловил, осторожненькими шажками двигаясь к красноармейцам.
— Твою ж налево! — вдруг воскликнул Максим Шестипал, приказчик табачной лавки на Малом проспекте — туповатый, хозяйственный парень с добродушно-утиным выражением широкого лица. Мухин Шестипала ещё по прошлому году и Красной Гвардии знал: Шестипала все знали — вряд ли ещё в какой-то питерской лавке, где-то в Красной Гвардии да и в целом Питере можно было найти человека с шестью пальцами на каждой из рук — пятью обычными и одним недействующим, крошечным, с ноготком как у младенца, растущим из корня большого пальца, как отросток из ветки. В лавку, в которой он работал, многие и приходили только затем, чтобы подивиться. Шестипал с удовольствием рассказывал, как и профессора какие-то этот его палец исследовали, рентгеновскими лучами просвечивали, а потом ещё зачем-то отрезать предлагали («А я ему эдак: “А может, вам лучше чего отрезать, а?”, так у него чуть пенсне не слетело» — со смехом рассказывал он). Из-за этого пальца его и в царскую армию не призвали, а вот Красной Гвардии, а теперь Красной Армии это его уродство оказалось не помехой.
— Твою ж за ногу, а… — протянул Шестипал, стоя у приоткрытой двери овина. — Тюльпаныч! Ваня! Идите-ка сюда!
И тут, заметив, куда смотрит Шестипал, китаец сорвался с места и рванул по двору к реке, да так шустро, что проскочил мимо обернувшегося к Шестипалу Тюльпанова, но далеко убежать не успел — догнали, повалили, приложив о землю раненой рукой.
— Мертвяки там, — растерянно сказал Шестипал, оборачиваясь. — Много. Присыпаны чем-то.
-
Очень натурально и ярко! И неписи, и окружение, и события - все на высоте.
|
— По совести! — фальцетом выкрикнул молодой Захарка Языков. — С нами-то вот много кто по совести поступает? Всю жизнь держали, как собак, а мы, значит, по совести теперь должны? Я вот когда батрачил… — На кого ты батрачил? — зло перебил Андрюха Макаров, показывая на китайца. — На него, что ль? Может, он и есть главный мироед? Бойцы нестройно засмеялись: на главного мироеда этот мокрый, перепугано озирающийся по сторонам китайчонок похож не был. Захарка сконфуженно примолк. — Никому не интересно, на кого ты там батрачил, — продолжал Макаров. — С него-то какой спрос? — А за Кольку спрос?! — воскликнул Семён. — Да пристрелить, говорю вам! — Пристрелить, пристрелить! — остановили его. — Завёл шарманку, только одно и талдычишь! Патронов у тебя много, что ли? Ну делись тогда! — Да куда нам его с собой-то тащить? — попробовал было настоять на своём Тимофей Иванов. — Сдадим… — начал было он, но тут из-за деревьев, от хутора донеслась глухая прерывистая дробь, которую все сразу узнали: пулемёт. Иванов осёкся, все заоглядывались. — Латыши, что ль? — высказал вертящееся у всех на языке Васька Иванов. — У ходяшек пулемёта-то не было. Пулемёт поколотил короткими очередями, нестройно захлопали винтовки. — Точно латыши, — кивнул Саня Соловьёв. — За нами идут, суки. — Пошли отсель скорее, — безучастно наблюдавший за сценой Пётр Васильевич Силаев с кряхтеньем поднялся с поваленного заросшего зелёным мхом ствола, неторопливо поднял прислонённую рядом винтовку, закинул на плечо. — Чего собачитесь? Гриша сказал, что приглядит за ним, вот пускай приглядывает. Ваша какая забота? — Пойдёмте, братцы, — беспокойно согласился Захарка Языков. — А хвост я ему всё-таки отрежу, — решительно повторил Фима и снова примерился ножом, чтобы отхватить косичку на затылке китайца. Китаец, ранее не замечавший ножа, сейчас увидел, дёрнулся, завизжал, заверещал что-то, видимо, полагая, что его будут убивать, с отчаянным, животным ужасом рванулся — и как раз в этот момент косичка оказалась отрезанной: китаец повалился на землю, под ноги красноармейцев. Фима с каким-то мясницким, довольным видом поглядел на длинную тонкую косицу в руке и несильно шлёпнул ей по спине скрючившегося у ног товарищей китайца, как нагайкой. — Обувайся, пошли, — приказал он ходяшке. 12:00— Полдень ровно, — ответил Фима на вопрос Андрюхи Макарова и сунул снятые с тела Коли Бабкина часики обратно в карман шинели. — Что, прям ровно? — шлёпающий за его спиной Макаров заглянул Фиме через плечо. — Прям ровно полдень, — подтвердил Фима. — А тебе чего, до минуты знать надо? — А тебе чего, ответить сложно? — с вызовом сказал Макаров. — Мож, у тебя часы встали. — Ну на, сам посмотри! — обернулся Фима, снова достал часы и, не глядя, показал их Макарову. — Одна минута первого, — въедливо сказал тот. — Слушай, ты чего чепляешься? — Фима остановился, обернулся к Макарову. Тот тоже встал. Оба этих здоровяка сейчас выглядели так, будто готовы были начать месить друг друга пудовыми кулачищами. Усатый, заросший светлой щетиной Фима был повыше, но бородатый Макаров в барашковой шапке с красным бантом был плотнее сбит и глядел сейчас на Фиму снизу вверх, набычившись, исподлобья. Тропинка через лес была узкая, шли цепочкой, и все за Макаровым сейчас тоже встали, уткнувшись в спину идущего впереди. — Да хватит вам обоим! — вылез из-за спины Макарова шедший следом Прохор Рязанцев. Вопреки своей фамилии, этот молодой чернявый парень с чуть раскосыми, как у Ленина, глазами был вовсе не из Рязанской губернии, а аж из-под Оренбурга, из тамошней казачьей бедноты. Его земляки, говорят, сейчас воевали против Советской власти во главе с каким-то атаманом Дутовым, а Рязанцев вот, как вернулся из венгерского плена, так к себе домой даже не поехал, сразу записавшись в Красную Армию. Попал он в Рязанский полк, видимо, из-за фамилии — других причин не было. Здесь, в северных лесах, этому выросшему в степи парню было неуютно — леса он не понимал и, кажется, побаивался: оглядывался поминутно на каждый чирк и треск из чащи, вчера вечером и вовсе страшился отойти от костра, а когда вынужден был всё-таки удалиться за кустик, вернулся с таким видом, будто чёрта увидал. Вообще не первой смелости был парень, даром что казак. — Всю дорогу собачитесь, слушать тошно! — заявил Рязанцев. — Дайте я между вами пойду. Ступай, Фима! Фима, буркнув себе под нос, пошёл дальше, помахивая косицей китайца, которую так и держал в руках как какой-то трофей. Он так ведь всё время и шёл — то по кустику этой косичкой как плёткой хлопнет, то вертеть её в руках примется. Макарова это раздражало, вот он Фиму и задирал всю дорогу. А шли-то уже битый час, а конца лесу не было. Всё так же текла слева речка, то виднелась между стволов зыбистым чёрным зеркалом, под матовым отражением облаков в котором тянулось зелёное сено водорослей, то шумно, пенисто катила по обмыленным желтоватым валунам, треснувшим плитам, то обмывала поваленную, уткнувшуюся кроной в воду берёзу. Всё так же тянулась среди кустов, мокрой листвы, высокой травы узкая тропинка, всё так же качались перед лицом спины товарищей, всё так же голодно скребло в животе. — Жрать охота, — сплюнул под ноги Фима. — Всем охота, молчи уж, — не оглядываясь, посоветовал ему Тимошка Иванов, шедший впереди. — Братцы, а давайте ходяшку съедим, — лениво предложил Макаров. — Я слышал, у них там в Китае людей едят, — перелезая через склизкую трухлявую корягу, поваленную поперёк тропинки, заметил Захарка Языков. — Ну, их же там много очень, вот они друг друга и жрут почём зря. — А, Гришань?! — громко, чтобы Смирнов услышал, крикнул Макаров. — Спроси-ка у него, они людей жрут? Смирнов с ходяшкой шли в хвосте цепочки: китаец предпоследний, Смирнов замыкающим. Ходяшка совсем замёрз — день хоть и был не по-осеннему погожий, и хоть солнце выглядывало временами из-за облачных гряд, но почти не пригревало, и лес вокруг после ночного дождя был мокрый, осыпающийся градом ледяных капель с потревоженной ветки, и волглой сыростью тянуло от воды — неудивительно потому, что выуженный из воды китаец шёл, обхватив себя руками, мелко стуча зубами, хлюпая водой в левом сапоге (правый, оставленный им на берегу, был сух). Смирнову то и дело приходилось подталкивать его в спину, когда китаец начинал отставать от шедшего впереди Василича, и ходяшка торопливо прибавлял шагу, со страхом оглядывался на Смирнова, видимо, ожидая от того пули или штыка в спину. Временами он пытался заговаривать то с Василичем, который безразлично отмахивался от китайца, то со Смирновым: — Wo jiao Zhou Jianyu, (Меня зовут Чжоу Цзяньюй) — говорил он, показывая на себя. — Wo — Zhou Jianyu. Nin gui xing shi shenme ne? Nin? (Я — Чжоу Цзяньюй. Как ваше благородное имя? Вы?) — вопросительно показывал он на Григория, — nin jiao shenme mingzi? Wo neige kaishi sheji de shihou zhengde mei kandao nimen! (Как вас зовут? Я, когда начал стрелять, вас не видел!) — частил ходяшка, будто оправдываясь. — Kandao dehua, wo genben jiu bu hui kaiqiang! (Если бы видел, стрелять бы не начал!) — и Смирнову приходилось его подталкивать вперёд, чтобы не отставал. — А я видал одного людоеда, — тем временем продолжал разговор Саня Соловьёв. — У нас в Пронске как-то поймали одного, городовые по улице вели. Я видел. Мужик как мужик, по виду и не скажешь. — А почём знаешь, что это людоед? Может, оклеветали? — спросил Макаров. — Может, и так, — тупо согласился было Соловьёв, но, помолчав, продолжил: — Не, он верно людоед был. У него в подвале бабу мёртвую нашли. Он ей филеи вырезал и жрал. — Что, прямо сырые жрал? — заинтересованно обернулся Макаров. — Не знаю… — пожал плечами Соловьёв. — Может, суп варил. — Братцы, может, хватит о человечине-то? — подал голос Фима. — А то я точно кого-нибудь сожру. — А вот у меня дед в Якутской области служил, у тунгусов, — начал было Прохор Рязанцев, — так там, баяли, есть такое чудище… — Тихо! — послышалось из головы цепочки. Это крикнул шедший первым Васька Иванов. — Дорога, братцы! Мост! Этот мост Григорий и остальные узнавали — по нему они проходили вчера днём, когда выступали из Обозерской на север по Чекуевскому тракту. Ну да, это точно был он, — понимал Смирнов, пройдя вперёд и рассматривая мост через колышущуюся листву: два прочных бревенчатых быка, простая деревянная оградка с перилами и балясинами, изряблёнными пулями: здесь, говорили, была перестрелка с интервентами, когда они ещё в первый раз пытались с наскока взять Обозерскую: вроде как балтийские моряки тут вдарили по англичанам из пулемёта, выбрав удобную для засады позицию, которую указал им местный лесник. Кстати, а ведь тут рядом лесничий кордон — вспомнил Смирнов. Они ведь вчера и его проходили, он стоял прямо на тракте: свеженькая, ещё не почерневшая избушка-пятистенок, чуть дальше от Обозерской по тракту, за холмиком.  Это то самое место, только мост, конечно, современный. А лесничий кордон там и правда рядом был, и история более-менее верная (с поправкой на советское её изложение). Тракт был пуст: ни звука, ни души, только унылая раскисшая комковатой бурой грязью грунтовая дорога с полосами тележных колёс и следами сапог, заполненными застоялой водой.
-
— А вот у меня дед в Якутской области служил, у тунгусов, — начал было Прохор Рязанцев, — там там, баяли, есть такое чудище…
Бусиэ?)
-
— А вот у меня дед в Якутской области служил, у тунгусов, — начал было Прохор Рязанцев, — там там, баяли, есть такое чудище…
Кажись я знаю, о каком чудище идет речь!
А еще очень атмосферно и живо переданы диалоги и эмоции, да и внимание я ярким деталям как всегда на высоте.
-
Очень интересно читать. Живые разговоры, куча характерных деталей, прямо вот осязаемое окружение, природа - словом, захватывающе!
-
— А вот у меня дед в Якутской области служил, у тунгусов, — начал было Прохор Рязанцев, — так там, баяли, есть такое чудище…
Есть такое чудище! =D
-
|
Лёжа в примятой ржи, Мухин начал собирать банки, тянуться за ними через мокрые бурые колосья, — одна банка была перед ним, за ней вторая, недалеко третья: он подгрёб их к себе, оглянулся в поисках четвёртой, нашёл — лежала под боком, удивительно, что сразу не заметил. Невидимые за рожью китайцы стонали, кричали что-то на своём. Сложил банки, отстегнул кобуру, принялся прилаживать к ней маузер, неловко повернул локоть, повалил банки, чертыхнулся, стал складывать их заново, сложил, снова взялся за маузер — и тут над головой свистнули пули.
—
Лежащий под густым, разлапистым кустом лещины Кульда деловито, привычно подстроил прицел, отвёл лезущую в глаза ветку и по команде дал короткую очередь. Целей для него было негусто — только вокруг места, где взорвалась граната, в живописных позах лежали китайцы, да от крыльца к лежавшим подбегал ранее выскочивший из дому человек: по нему-то Кульда и выстрелил. Первой очередью не попал: фонтанчики грязи брызнули под его ногами — человек нелепо подпрыгнул на месте, размахивая руками, бросился бежать обратно в дом и — рухнул навзничь, когда Кульда дал вторую очередь. Фрайденфельс коротко оглянулся на расчёт в зелёной мешанине орешника: Верспаковис, неудобно протянув руки (ветки мешали), придерживал ленту, примолкший пулемёт тупоносо глядел из густой листвы на бурое поле, по которому свежо ползли серые облачные тени. В просвет между облаками выглянуло солнце, и осенний пейзаж сразу повеселел — воздух был будто стеклянный, очень мирно чернели строения хуторка у реки, и во всей этой левитановской благодати странно было видеть шевелящихся китайцев у места взрыва гранаты. Фрайденфельдс увидел, как один поднялся на колено, оглядываясь по сторонам, другой, зажимая бок, пополз к брошенной винтовке, и тут Кульда дал короткую очередь по ним, а потом ещё раз и ещё, а потом, забывшись, дал длинную очередь: встающие, ползающие, пытающиеся скрыться за сараем китайцы один за другим опрокидывались наземь. Пули колотили по телам, по грязи, по бревенчатым стенкам сараев. От ствола наконец замолчавшего пулемёта поднимался прачечный, как от утюга, дымок.
—
Над головой Мухина свистели пули: из-за спины колотил пулемёт. Высовываться из ржи сейчас явно не стоило, а вот отползти от линии стрельбы следовало — и моряк, пристегнув маузер к кобуре, пополз влево, загребая локтями разбухшую землю. Под руку попала лежащая в земле гильза — свеженькая, блестящая: не было времени разбираться. Мухин полз дальше: мокрые стебли скользили по лицу, бокам, колени уходили в мягкую, как тесто, землю. Похоже, он основательно изгваздался. Китайцы выли от боли и кричали совсем близко, шагах в двадцати:
— Shei kaiqiangle?! (Кто стрелял!) — панически заорал один.
— Duoshan ba! (Валим отсюда!) — завопил другой, и тут ещё одна очередь засвистела над головой: пули затюкали в дерево, с мясным звуком били в тела, и крики оборвались. Зато издалека послышались уже русские голоса, а затем винтовочная стрельба.
—
— Стой, стой, сука! — с эхом разнёсся по полю могучий баритон Живчика: у этого верзилы с анархическими замашками был сильный, чистый голос, а петь он более всего любил не матросское «Яблочко», а отчего-то казачье «Ой, то не вечер». Живчик пробирался по пояс во ржи к левой околице хутора. Они не уяснили точно приказа — понял Фрайденфельдс, видя, как Туманов ведёт васильеостровцев: во всяком случае, что такое «рассредоточить по площади» пожилой рабочий, кажется, просто не понял, а скопом повёл свою сминающуюся, превращающуюся в гурьбу цепь к гумну, и вот они там кого-то заметили — отсюда не было видно, кого.
— Стой, стой, сука! — слово в слово, только надрывным фальцетом заорал за Живчиком Рахимка — татарчонок бежал по полю как пьяный неваляшка, спотыкаясь и чуть не падая, но первый вскинул винтовку и, не дожидаясь команды, начал стрелять. За ним начали стрелять и остальные васильеостровцы.
У калужан, однако, было иначе: Агеевы были фронтовики. Оглянувшись направо, Фрайденфельдс видел, как распоряжается Ерофей Агеев, хлопая товарищей по плечу, показывая одному, потом другому бойцу — «оставайся здесь». Остальные заходили дальше, к реке. Неубранное поле там уже кончилось, дальше было жнивьё: срезанные снопом стебли доходили разве что до верха сапога, укрытия не было, и калужане торопливо, опасливо шлёпали к реке и стоящему у неё сараю, пригибались, оглядывались на окна дома.
— В окне! — заорал Дорофей Агеев, плюхаясь на землю. За ним, как подкошенные, попадали остальные калужане, принялись палить по окнам: зазвенели последние целые стёкла в доме. Дорофей Агеев тоже выстрелил по окну, а потом поднял голову в серой папахе с муаровой лентой и заорал своим: — Вперёд, вперёд, братцы! Прикрываю!
Четверо калужан во главе с Ерофеем Агеевым поднялись с земли, рванули дальше, к сараю, похожему на баню, и встали за его стеной, переводя дух. Остальные продолжали лежать на жнивье, держа на прицеле окна, но пока не стреляли.
—
Пулемёт больше не стрелял, да и отполз Мухин уже достаточно, чтобы не попасть под пулю бойцов Фрайденфельдса. Слева, справа уже орали по-русски, стреляли, но и китайские голоса моряк разбирал — правда, теперь уже приглушённые, видимо, из дома. Кажется, можно было высунуться, посмотреть, кто побеждает.
Да никто уже не побеждает, понял Мухин, поднявшись на колено. Поубивали всех. Человек десять тут лежат. Лежит, раскинув руки, с окровавленным боком и развороченной пулей щекой тот паренёк, который чуть не застрелил его из винтовки. Скрючился у стенки сарая желтокожий опиумщик-переговорщик в красной тужурке поверх долгополого халата, с неряшливой толстой косицей на затылке — даже и непонятно, куда его, а лежит, не шевелится. А вот рябой бугай — лежит навзничь, неестественно подвернув руку под корпус: одежда на плечах разодрана клочьями, в прорехах белая кожа с сукровистыми ранами, на затылке бритой головы вмятина, как в тесте. А рядом ещё один: он, кажется, от костра подбежал и рябого прикладом херачил — ну да, вот и карабин этот у него в руках, приклад окровавлен, ватник изодран пулями. Этот трепыхается. А этот вот, видимо, махал на Мухина, чтобы уходил, — он ближе всего стоял к полю и упал, примяв рожь, только ноги торчат; замызганное серой грязью голенище разорвано осколком, ещё один засел в заднице. Тоже не шевелится: наверняка и в спину что-то поймал. А это вообще непонятно кто: вместо лица — пятно цвета спелой сливы, надувшиеся, шашлычно обугленные губы, сахарные зубы в просвете, нос разорван на нежные, будто цветочные лепестки, а вместо рук — два окровавленных окорока без кистей с вермишельно торчащими костями и жилами, гладкими, как печёнка, бордовыми мышцами, свисающими лоскутами кожи. Щи с мясом и кашею.
-
Помимо красоты и яркости поста не могу не отметить две вещи: эти яркие, броские, чудесные прилагательные, делающие картину по-настоящему живой, и гастрономическое описание покойника!
-
Щи с мясом и кашею.Дореволюционный вариант
Если вам исполнилось 18 лет и вы готовы к просмотру контента, который может оказаться для вас неприемлемым, нажмите сюда.
кровь-кишки-распидорасило старожилы помнят
|
Из поместья вышли пешком, глухой ночью: ни единого огонька в домах, тёмные стены домов, неверные огоньки факелов стражи в узких переулках, антрацитовый блеск луж под лунным светом, бреханье собак, заслышавших шаги.
Кладбище для Яцека было знакомым местом: в первые годы, когда он, голодный и оборванный, толком не знающий польского, мальчишка осваивался в Гродно, он часто тут бывал: тут было тихо, спокойно, а у православных голбцов можно было разжиться то оставленным яичком, то корочкой хлеба. Поэтому, наверное, Яцек не боялся кладбищ: он верил в существование колдунов, ведьм и нечистой силы и даже допускал, что из-под земли могут вылезать неупокоенные мертвецы, но своими глазами никогда подобного не видел. Более того, как-то раз он участвовал в святотатственном ограблении свежей могилы, за что по небесным законам должна была последовать страшная кара — но ничего не случилось. Могила, правда, была иудейская: может, именно поэтому обошлось без наказания. Католическую или даже православную могилу Яцек, конечно, вряд ли встал бы вскрывать. «А впрочем, если б для дела понадобилось, — вскрыл бы», — отстранённо подумал Яцек, шагая по пересечённой судорожно шевелящимися чёрными тенями от нависающих дубовых ветвей дорожке мимо покосившихся крестов. Бандиты уже ждали.
— Это славно, что ты понимаешь, что вам нас держаться надо, — отвечал Яцек на речь бандита. — Вам, кто поумней, встраиваться надо во власть, место себе искать под солнцем. Сам понимаешь: кошели по подворотням резать весело, но это ж пацанве вон весело, а до седых волос так жить не будешь. Да и не доживёшь — вон что с Щусем стало. Рана поганая, конечно. Как его, глубоко цепануло-то? Заживать долго будет? Я к чему спрашиваю: Щусь всю братву в кулаке держал, ты не хуже меня это знаешь. А сейчас каково ему с койки-то? Слушаются ещё атамана или, как вожака подранили, разбежались все? Мне это, Певчий, крепко знать нужно, прежде чем с тобой серьёзно толковать.
— И вот ещё что, Певчий, — продолжил Яцек. — Кто из Совета у вас в кармане-то? Как вы его заполучили, спрашивать не стану, но кто это такой — это мне знать надо: а ну мы с братом будем к этому человеку подкатывать? Надо знать, что за человек.
-
-
Персональный подход к визави - залог успеха!
|
— Э, нет, Гришань, я туда не пойду, — возразил Смирнову Саня Соловьёв.
— Там у них жратва, между прочим! — вылез из-за спин товарищей Тимофей Иванов. — А я говорил, надо было их перестрелять всех!
— А ну они тебя? — крикнули ему. — Чего мы там забыли?
— А в лесу мы чего забыли, а? — не унимался Тимошка. — Со вчерашнего дня не жрамши, нутро сводит!
— Это ты на фронте не был просто!
— Не скажи. На фронте всё ж таки кормили!
Китаец, жалкий, как выловленная из воды кошка, стоял, окружённый рязанцами, бросая непонимающий взгляд то на одного, то на другого. С его липнущей к телу одежды капала вода: ходяшка обхватил себя руками за плечи, застучал зубами.
— Братцы! Братцы! — басовито загудел Фима Окладников, проталкиваясь к ходяшке. — Да я ж говорю вам, он стрелять зачал, из-за него Колька погиб! Чего мы его, так оставим, что ли?
— Погоди, Фима! — послышался голос Семёна, друга Коли Бабкина. — Ты по порядку расскажи, как случилось-то оно?
— Да я ж и рассказываю! — всплеснул мясистыми руками Фима. — Это ж вы мне не даёте, поперёк лезете. Мы в тумане к хутору-то подобрались, у них там часовой стоял. Мы ни на кого не лезли, посмотрели, что да как, решили было обратно ползти, покуда туман-то стоит! Во-от. И тут этот гаврик, — Фима схватил китайца за тонкую косицу на бритой голове, сильно дёрнул, — решил своих поубивать! Сначала часового из карабина кокнул, потом гранату в дом закинул, ну! Они все, как тараканы, повылазили. Ну конечно, не поняли, кто их так, а Колька тут из ржи-то вылазит и кричит — он, вот он стрелял! — Фима ещё раз дёрнул китайца за косичку. — И показывал на него ещё! Ну, Колька-то, небось, думал, они по-нашему умеют, а они его не поняли и сразу пулю ему в лоб! На нас они подумали, а как иначе? А этот вот утёк! Гришань, ну скажи, так было дело?
Смирнов подтвердил, что так и было.
— Вот и я говорю, что получается так, что Колька погиб из-за этого вот мозгляка!
— А чего он в своих-то начал палить? — не понял Андрюха Макаров.
— А я знаю?! — развёл руками Фима.
— Ты. Чего. Стрелять-то стал? — раздельно произнося слова и заглядывая китайцу в лицо, спросил Васька Иванов. — В своих?
Китаец не отвечал, только дрожал побелевшими губами, часто моргая. Он был очень испуган: когда Фима его дёргал за косичку, китаец даже не сделал попытки защититься, только дрыгал вверх головой, как кукла, от каждого рывка.
— Да понятно, чего он стрелять стал, — сплюнул наземь Пётр Васильевич Силаев, которого все звали только по отчеству, немолодой молчаливый фронтовик, заросший жёсткой серебристой щетиной, с лицом от морщин как заезженная дорога. Силаев прошёл всю войну с четырнадцатого года и в иных обстоятельствах давно бы уже стал краскомом, но не лез на митинги, не участвовал в политических спорах, оставляя всё это молодым и рьяным, таким как Коля Бабкин. Ходил со всеми, помалкивал, держась себе на уме: ни с советом не лез, ни помочь никому не спешил, но и махорки у других не выпрашивал. — Довели парня. На фронте бывало…
— Так одно дело офицерьё стрелять, другое дело товарищей, — возразил ему молодой Захарка Языков.
— Да какие они ему товарищи… — Василич бросил взгляд на ходяшку. — Чмырили, гнобили. Видно же.
— И что нам, может, пожалеть его теперь?! — взвился Семён. — Может, ты, Василич, ему ещё шинельку дашь? А то вишь, замёрз как!
— Да мне-то всё равно, — сказал Василич. — Делайте, как хотите.
— Да пристрелить его прямо тут! — заорал Семён и попробовал было вскинуть на ходяшку винтовку, но его остановили.
— Тихо, Сёма! — строго сказал Андрюха Макаров, отклоняя ствол винтовки Семёна вниз. — Дай обчеству решить, ты тут не один!
— Может, с собой взять? —несмело предложил Захарка Языков.
— Ага, в Красную Армию запишем!
— Да не! Ну, сдадим на Обозерской, пущай там разбираются.
— Мало нам несчастий, ещё и это пугало с собой таскать? Он вон, на одну ногу босый! Ты куда сапог дел, ходяшка?
— Да там у него сапог! Снял он его, чтоб в себя стрельнуть!
— Братва! Так точно, он же застрелиться хотел! А ну дадим ему винтовку попользоваться!
— Дурак, что ль? Он тебя из неё и шмальнёт!
— Да пущай что хочет делает! Речка вон есть, пущай топится, коль ему такая охота!
— Да ему уж перехотелось! К стенке его, говорю вам!
— Ты много здесь стенок-то видел, Сёма?
— А я говорю, надо всё-таки назад на хутор идти! У них там есть ходяшка, который по-русски умеет, мы ему всё объясним, небось и еды добудем!
— Ага, вон Колька дообъяснялся!
— Вы как хотите, товарищи, а я ему этот его хвост отрежу. Не нравится мне этот хвост, — решительно сказал Фима, вытащил из-за голенища сапога бандитского вида ножик и, натянув косицу, стал примеряться, чтобы отхватить под самый корень. Китаец не сопротивлялся, в ужасе переводя взгляд с одного на другого рязанца: настолько он был перепуган происходящим вокруг, десятком русских мужиков, окруживших его и спорящих, что даже на своём языке, наверное, не сумел бы выговорить пару слов, а только мелко трясся, стуча зубами, весь бледный.
Издалека со стороны хутора донёсся глухой хлопок взрыва.
— Чего там, гранату, что ли, кинули? — заинтересованно обернулся Фима, останавливая руку с ножом.
— А я говорю, что туда возвращаться не стоит! — вставил Саня Соловьёв.
-
Какой богатый и образный язык!
|
— Ting! Mashang huilai! (Стой! Ну-ка назад!) — вопил молодой китаец в женском платке, для пущей убедительности угрожающе тряся стволом нацеленной в Мухина винтовки.
— Nimen dou fengle ma?! (Вы сдурели все?!) — надрывался рябой с гранатой в руке, зверино озираясь по сторонам. — Dou anqing ba! Women yinggai dou zai yiqi! (Тихо все! Мы должны быть заодно!) — и тут сзади к нему подбежал кто-то, вцепился в руку с гранатой, заламывая, вереща, — оба повалились в грязь, к ним подскочил третий, — то ли разнимать, то ли бить, — и рухнул на землю с ними. Ходяшка, который сидел у котла, с карабином в руках подбежал к дерущимся, перехватил своё оружие за цевьё и, размахнувшись, как топором, приложил наотмашь прикладом по хребту кого-то в куче-мале. Все орали: кто-то расталкивал безучастно сидящего у стенки сарая переводчика, тыча пальцем в разные стороны, кто-то, достав наган, направил его на сцепившихся в грязи, надсадно вопя. Вышедший из дома китаец бросился к своим, голося. В разбитом, со сорванными рамами окне появилось перевязанное бинтом чьё-то лицо. Рябой китаец по-бычьи ревел — ему давили перемазанной в земле пятернёй лицо, прижимали к земле руку, вырывали гранату.
Парень в платке, оглянувшись на свалку, вдруг перестал блажить и прижал приклад к щеке. А вот сейчас пальнёт, — вдруг отчётливо понял Мухин, и, не успел он что-то сделать, ни подумать даже ни о чём, — китаец нажал на спусковой крючок.
А выстрела-то и не последовало: винтовка оказалась незаряженная. Китайчонок этого не понял, принялся бестолково и суматошно дёргать затвор. Другой, не принимавший участия в свалке, махал на Мухина руками, крича «Kuai! Kuai zoukai!» (Иди, иди прочь скорей!), а за его спиной на колени поднимался один из бивших рябого ходяшек, перемазанный грязью, с гранатой в руке. Мухин сперва даже не сообразил, что это он делает, зачем этот ходяшка, сидя на коленях, сосредоточенно и торопливо возится с гранатой, будто рассматривая и ощупывая её вымазанными в грязи руками, и только через мгновение догадался — сдвигает у гранаты предохранительную чеку, взводит курок, перекладывает для броска из правой руки в левую (выходит, левша) — и тут уж ничего не оставалось, как упасть в рожь, лицом в землю, надеясь, что граната не прилетит слишком близко.
Мухин не увидел, как китаец с гранатой успел широко, картинно размахнуться, и как его толкнули в спину, тоже не видел, и не видел, как уже взведённая граната упала тут же, а только слышал, как близко — но не слишком близко — с кнутовым, салютным звуком бахнуло, шипящим эхом понесло по полю. Матрос лежал на рыхлой, напитанной водой, комковатой земле в примятой ржи: только смятые кем-то ранее бурые стебли с чешуйчатыми хвостатыми колосьями перед глазами. Рассыпались банки с консервами, одна банка лежит золотистым боком прямо перед глазами: «Щи съ мясомъ и кашею». Никто не орёт на непонятном языке — только кто-то тонко, протяжно кричит, что и без перевода ясно: «А-а-а-а…» и, с перерывом на вдох, снова: «А-а-а-а…»
***
— Ух, бля, — удивлённо сказал калужанин Ерошка Агеев, наблюдая, как рассеивается облачко сизого дымка на месте взрыва гранаты, открывая лежащих и шевелящихся, как червяки, китайцев. — А морячок-то наш где?
Мухина видно действительно не было: видели только, что он упал в рожь.
-
Что тут сказать... Полные «Щи съ мясомъ и кашею»!
-
Я долго вспоминала слово, пока не поняла - этот пост получился не только поразительно ярок, но и кинематографичен.
|
— Эй, ходя! — закричали китайцу бойцы, полезли к нему. — Ты чё там?
Китаец, очевидно, собирался застрелиться, — сидел на дереве, уперев ствол карабина в щёку, шевеля большим пальцем разутой ноги над спусковым крючком; поэтому-то он, отрешённый от происходящего вокруг, сперва не услышал приближения красноармейцев. А когда услышал крики, испуганно обернулся, увидел, как шумно лезут через мокрые кусты и подлесок к нему какие-то люди, вскрикнул, дёрнулся и — выронил оружие в чёрную воду, струйками расходящуюся от гребёнки опущенных в воду голых еловых сучьев. Китаец очумело вскрикнул, запоздало нагнулся за утонувшим карабином, не удержался — и, с хрустом сломав сухой сук, обдирая с елового ствола рыжую древесную труху, повалился вслед за оружием в воду, подняв фонтан брызг. Бойцы расхохотались, шумно загалдели:
— За винтовкой нырнул, дурак!
— Поздновато, братец, купаться!
— Потонет же! Лови ходяшку!
— Я в реку не полезу, братцы!
Проплыв под бревном, китаец вынырнул, бестолково барахтаясь; его, как мячик над волнистой, пенистой поверхностью тусклой студёной воды потащило обратно по направлению к хутору, мимо сизо-зелёно-чёрной еловой стены другого берега, мимо высыпавших к речке гогочущих красноармейцев. Макаров, держась за еловую лапу и повиснув над водой, протянул ему было руку, но ходяшку пронесло течением дальше, — только мокрая голова с бледным как у покойника лицом болталась в воротнике пены, брызгах. Шагов через двадцать ходяшка всё-таки выгреб на мелководье к глинистому обрывчику, как раз у которого в числе прочих стояли Смирнов с Окладниковым. Отплёвываясь и кашляя, весь мокрый, с хлюпающей в одном сапоге водой и другой босой ногой, в городских клетчатых брюках, драных на штанине, в липнущей к телу рабочей блузе, он на четвереньках выполз под обрывчик, поднял ничего не понимающий, бессмысленный взгляд на стоящих сверху красноармейцев.
Тимошка Иванов, не переставая смеяться, опустился на корточки, подал китайцу руку, помог ему взобраться — с первого раза у ходяшки не вышло, он заскользил ногами по полужидкой скользкой глине, упал, перепачкал мокрую рубашку, штаны. Наконец, забрался, тяжело дыша, остановился промеж собирающихся вокруг него хохочущих, добродушно хлопающих его по плечам красноармейцев. Весь мокрый, китаец только непонимающе озирался по сторонам, стуча зубами, обхватив себя за плечи.
— Ну чего, ходя? — потрепал его по мокрой бритой голове с обвислой, как мышиный хвост, смоляной косичкой на затылке Андрюха Макаров, заглядывая сверху вниз — китаец большинству рязанцев не доставал до плеча. — Ходя-ходя?
— Haode, haode, — бессмысленно повторил тот.
Красноармейцы веселились: похоже, это происшествие с незадачливым самоубийцей подняло их настроение, заставило на время забыть и о недавней стычке, и о голоде, и о будущих опасностях: все видели — вот этому бедолаге сейчас хуже, чем им: даже застрелиться не сумел, только промок весь, болезный, вон как дрожит! Снимать шинель, чтобы накинуть ему на плечи, никто, однако, не спешил — зато Саня Соловьёв добродушно протянул ему зажжённую папиросу, почти насильно сунул в дрожащие от озноба губы китайца.
— Братцы! Братцы! — вдруг крикнул Фима Окладников, поднимаясь на цыпочки, чтобы все его видели. На протяжении всей сцены Фима и не думал смеяться, а только и ждал момента, чтобы сказать. — Это ж тот самый китаец, из-за которого всё началось!
— Что началось? — не поняли товарищи, отвлекаясь от ходяшки.
— Стрельба началась на хуторе! — заорал Окладников. — Это ж он стрелять зачал!
— В вас, что ли?
— Кой чёрт в нас! В своих! Он своих порешить хотел, а подумали на нас! Точно это он был, с косицей, зуб даю! Из-за него Кольку убили! Гришань, подтверди!
-
Ого, вот уж где я поста не ожидал! Ну, с возвращением!
Рано хоронить))
Наконец добрался, да. Теперь, надеюсь, задержусь подольше. Тебя с выздоровлением!
И да. Суперпост, как всегда)
|
— Конечно, кабинет найдётся! — с радостным энтузиазмом подтвердил Боговой. — Пожалуйста, пожалуйста, сюда пойдёмте! — он показал на дверь в зал заседаний, у которой так и стоял растерянный и взбудораженный всем происходящим учитель Гиацинтов. — Там библиотека за президиумом, там комиссии заседают. Не беспокойтесь, там никого нет сейчас, там тихо. Пойдёмте, товарищи, пойдёмте.
Перерыв подходил к концу, и в зал уже стягивались депутаты, а многие и не расходились, боясь опоздать к записи на получение винтовок: курили у открытого окна, сидели на стульях, разговаривая между собой — и сейчас они все удивлённо смотрели, как конвоируют Проурзина: тот шёл под дулом револьвера Бессонова, рядом в своей поскрипывающей кожанке шагал настороженный, напряжённый Заноза, чуть впереди показывал путь Иван Боговой, а рядом с ним Романов. Гиацинтов семенил следом, как хвостик: ему, кажется, всё происходящее было чрезвычайно любопытно.
Все обернулись на невиданное зрелище: при виде чекистов вжал голову в плечи сидевший в президиуме земской статистик Щипунов, вопросительно и непонимающе глядел сидевший во втором ряду делегат Усть-Важской области пожилой смолокур Поздняков, застывшим взглядом провожал идущих по залу делегат шенкурского горсовета Едовин. Осёкся разговор о раздаче винтовок группы делегатов, толпившихся у распахнутого окна: все, как по команде, обернулись, глядя, как куда-то ведут их товарища.
— Братцы! — петушино выкрикнул Проурзин, вертя головой. — Оклеветали народного избра… ой!
Заноза, не глядя, коротко и больно приложил его кулаком в бок: старичок ойкнул, скрючился, примолк. Заноза подтолкнул его в спину и оглянулся: полтора десятка делегатов хмуро и молча наблюдали за тем, как куда-то ведут их коллегу. Заноза демонстративно положил руку на деревянную кобуру с маузером, грозно зыркнул по сторонам: никто выступать не посмел. Только Василий Боговой, так весь перерыв и просидевший на своём секретарском месте в президиуме, поднялся со стула:
— Что такое? — часто моргая, удивлённо спросил он. — Помощь нужна?
— Ничего, Вась, всё в порядке, — походя бросил его брат. — Оставайся тут, следи, чтоб не бузили.
Вошли в библиотеку, ту самую, где комиссии под руководством Романова вчера и сегодня писали проекты резолюций: ряды стеллажей с разноцветными корешками книг и журнальных подшивок, пара письменных столов с керосиновыми лампами под абажурами, окно с геранью в горшке. Заноза подвёл Проурзина к столу, ногой выдвинул из-под стола стул, молча показал старичку садиться. Проурзин сел, беспомощно глядя по сторонам.
— Товарищи, товарищи! — глухо донёсся из-за двери голос Василия Богового. — Непредвиденные обстоятельства, товарищи! Перерыв пока продолжается, сходите пока куда-нибудь, что ли!
Ему, кажется, что-то возражали, о чём-то спрашивали — этого из-за двери было уже не разобрать.
— А потише места не нашлось? — раздражённо обратился Заноза к Ивану Боговому. — Обязательно было через зал идти?
— Ну, там ключи искать надо было… — поморщился тот. — Так-то у нас все помещения закрыты сейчас. Морока, в общем… Да чем вам тут не нравится? Никого нет, всё тихо.
Да были, были у него где-то ключи, — вспомнил Романов, — он видел Богового-младшего с этими ключами. Может, они и сейчас у него в кармане лежали, просто, понял Романов, председателю съезда хотелось провести Проурзина через зал, показать остальным делегатам пример того, что бывает с человеком, который смеет открыто выступать против — и даже не столько против Советской власти, сколько против него самого, Ивана Богового.
-
Господа большевики мастерски завоевывают любовь населения)
|
— Погоди-ка! — кричал Анчар, вклиниваясь между Никанором и Гренадером.
— Тихо, тихо! — надрывался, пытаясь остановить Борьку, Гренадер.
— Да я его сейчас на месте тут кончу! — пытался навести на лежащего винтовку Никанор, но ему помешали Чибисов с Анчаром.
— Подожди, говорю! Успеешь! — останавливал Никанора Анчар.
— Товарищ дело говорит! — звонко кричала Гера.
— Стой, стой, тебе говорят! — надсаженным голосом орал большевик, схватился за ствол винтовки Никанора, отводя в сторону.
— Ты чё за хрен с горы вообще? — в ответ орал на Чибисова Никанор, бешено пуча глаза. — Какого хуя лезешь?
— Отставить самосуд и не уподобляться жандармам! Это они избивают и убивают беззащитных, а не бойцы революции! Мы – не они, они не мы! — голосила Гера.
— Отойди, тебе сказано! — Никанора сильно толкнул в грудь подошедший вместе с Чибисовым Балакин. — Не смей стрелять!
— Прекратить! — кричала Гера.
— Не убивайте! — кричал лежащий на снегу николаевец, отбиваясь от Борьки, который всё держал его за волосы, порываясь ударить в лицо.
— А ну отошли от него оба! — заорал стоявший в стороне Даня на наседавших на Никанора большевиков, вскидывая на них винтовку.
Со стороны это, должно быть, смотрелось дико: семеро мужчин и одна женщина орали друг на друга на пустой заснеженной тёмной улочке под раздававшийся из дворов собачий лай, угрожали друг другу оружием, толкались и порывались бить лежащего на снегу. Только студент Зефиров не принимал участия в сваре, безучастно присев на корточки в сторонке и разглядывая свою бомбу.
— Вы ещё перестреляйте друг друга, дурни! — надрывно заорал Балакин и в сердцах бросил на снег свой браунинг. — Ну давай, стреляй! — обернулся он к Дане, подавшись грудью на ствол и раскинув руки. — Стреляй в большевика!
— Тихо, тихо все! — пытался успокоить товарищей Гренадер. — Даня, опусти пушку, блядь!
— Правильно вон она всё говорит! — Балакин показал на Геру. — Мы что, жандармы? Какой толк в том, что мы его сейчас пристрелим?
— Боря, да хватит уже, а! — Гренадер ухватил Борьку, продолжавшего мутузить николаевца, за ворот ватной куртки, принялся оттаскивать его. — Хватит! Ну, остынь!
— Идиоты! — рявкнул Никанор, дёрнул винтовку, вырывая ствол из рук Чибисова, и, вскинув вверх, пальнул. Выстрел гулко разнёсся по пустой улице. — Идиоты! — гаркнул он ещё раз, оглядывая товарищей. — И весь план был идиотский изначально! А я говорил! Где сейчас наших искать?! А, делайте, что хотите! — сердито мотнул он головой и, отвернувшись, побрёл в сторону, закинув винтовку на плечо.
— А вот стрелять не стоило, — укоризненно заметил ему вслед Гренадер.
— Да пошёл ты! — не оглядываясь, сердито бросил Никанор. Он остановился в нескольких шагах, запрокинул голову, глядя в чёрно-серое, сыплющее мелким колючим снегом небо.
— Между прочим, мы с ним тоже большевики, — Гренадер показал Балакину на себя и Никанора.
— Ну заебись, — только и сказал Балакин.
Страсти немного улеглись, все примолкли, Даня опустил винтовку. Перепуганный николаевец лежал на снегу, закрываясь руками, Борька встал, зло оттолкнул Гренадера, тоже отошёл в сторону. Зефиров сидел на снегу в сторонке: зажав бомбу между коленями, он снял конфетную крышку, закрывавшую торец, и сейчас внимательно разглядывал внутреннее устройство снаряда.
— Вы бы с жандармами так воевали, как сейчас собачитесь, — глухо сказал Чибисов. На него только посмотрели, но ничего не сказали. Балакин подобрал со снега свой браунинг, отряхнул, сунул в карман. Со стороны железной дороги, откуда-то издалека, грохнул выстрел, за ним ещё один. Оглянулись в ту сторону, но в конце улочки, выходившей на насыпь, никого не было.
Анчар ещё раз сказал, что пленного нужно допросить, опустился на корточки рядом с ним, встряхнул.
— Ты на вокзале самом давно был? — спросил он. — А? На вокзале, говорю самом давно был? Что там делается, а ну рассказывай!
— Я… — совсем обомлевший от всего только что произошедшего, начал пленный. — Я в депо был. В депо, у нас. Я… я-то что… подходит ко мне этот, поручик, что ли, с мороза прибежал, говорит, бери мотодрезину, ну, на которой днём солдаты ездили, езжай на третью версту сейчас, проверь состояние путей, — кажется, николаевец почувствовал, что Анчар его в эту же минуту стрелять не собирается, и бойко зачастил, — я как сразу понял, что что-то неладно, а с ним разве поспоришь? Я как понял, когда сам дрезину брал, он так глянул на меня, я как понял, что он меня в западню какую-то гонит. Я говорю, вы мне, ваше благородие, на дрезину-то хоть охрану посадите, время-то неспокойное, а час поздний, а они говорят, у нас людей мало, а сам-то куда-то пошёл. А потом, когда мимо локомотивного сарая ехал, смотрю, там солдат какой-то рукой махнул, я как понял, что всё, сейчас карачун мне. А потом как по мне вон стрелять зачали, так я сразу же с дрезины-то спрыгнул…
— Сколько у вас человек на вокзале? — рядом с Анчаром над пленным склонился Гренадер.
— У нас? — не понял пленный.
— Солдат сколько там, спрашиваю?
— А, солдат? Ну, как я скажу-то… — растерялся тот. — Много! И пулемёты есть, и пушки стоят, они из них по Казанскому палят. Только они не в депо, они на самом вокзале сидят в основном. В депо только заходят. На товарной станции ещё сидят.
— Это мы всё и так знаем, — сплюнул в снег Борька.
— Они ещё ходят, как это, патрулями, что ли? Обходят всю станцию, только на площадь не суются, там из Казанского стреляют.
— Стреляют… — подтвердил Гренадер.
— А я понял, в чём дело с бомбой, — неожиданно подал голос Зефиров, подходя сзади. — Серная кислота замёрзла, превратилась в серный лёд. Я такого даже не видел никогда.
На него обернулись, но ничего не сказали.
-
Сюр. Самый натуральный сюр! Но по-иному и быть не могло.
|
— Герб? — удивился Яцек, когда брат завёл речь о геральдике. Он никогда не задумывался о гербе и сейчас понял, что не имеет представления о том, как вообще это происходит, нужно ли герб придумывать самому или обращаться к каким-то знающим людям — может быть, к князю? — Ды я нават не ведаю... — озадаченно почесал в затылке Яцек. — З канём, напэўна, герб павінен быць, як інакш? Можа, з двума конямі... але гэта трэба, я думаю, да Ягайлы звяртацца: ён нам шляхецтва даў, ён і герб павінен зацвердзіць. А калі шчыра, чорт яго разбяры, як гэта ўсё ў іх ўладкована…
Под «імі» Яцек, конечно, имел в виду шляхту, к которой пока так до конца и не привык себя причислять. Он тяжело поднялся с чурака, на котором сидел у ограждающего поместье тына, наблюдая за ходом работ, полез за пазуху.
— Глядзі лепш, што я ў жыда дастаў, — показал он брату увесистый мешочек, набитый золотыми. — Можа даць яшчэ, але нам гэтага на першы час павінна хапіць. Цяпер нам трэба нашых людзей абсталяваць, — Яцек обернулся, посмотрев на людей Вацека, коротавших время у ворот — кто сидел на корточках в кружок, травя шутки, кто грыз налитое яблоко, взятое из большой корзины, двое развлекались метанием ножа в исцарапанную расколотую доску, прислонённую к тыну — один, долго примерявшийся, наконец метнул: нож глухо ударился о доску рукояткой, упал на землю в траву. — Ты глядзі, — сказал Яцек брату, — гэта ж не дружына, гэта пацанва вулічная ў нас. У іншых-то спадароў, я ведаю, людзей менш, ды ўсё, верагодна, апранутыя ды са зброяй, а ў нас што? Зброя — слёзы адны, даспехаў наогул ні ў каго няма. Вось налятуць на нас, што мы будзем рабіць, чым адбівацца? Так што ты зараз ідзі на рынак, выберы для нашых байцоў зброі і даспехаў лепей, прама вось на ўсе грошы, што тут ёсць, жыліцца не трэба. І нам спакайней жыць будзе, і хлопцы нам дзякуй скажуць. Калі атрымаецца дамовіцца з купцамі, каб за вялікі заказ зніжку зрабілі — гэта б добра было, але ўжо як выйдзе. Я б сам схадзіў, ды ты, брат, у гэтым лепш за мяне разбіраешся.
— А я, напэўна, — вздохнул Яцек, — вунь Вацэка з хлопцамі вазьму і на сустрэчу да начных цырульнікаў з вечара паеду. Трэба з імі пагаварыць, даведацца, што нам прапануюць. І, раз ужо ты пра паляванне з Бараўцом дамовіўся, і мне ёсць ім сёе-тое прапанаваць.
-
Ох, стилизация, конечно, хорошо! Но и идеи чудесны тож)
-
я уже успел забыть какой этот суржик сюррный
|
— Ка… ка… как… — только и смог выдавить обалдевший Проурзин, когда чекист навёл на него пистолет. Он беспомощно заоглядывался, ища поддержки: — То-товарищ военком! Чиво они!…
— Ну-ка ты, артист погорелого театра, — Заноза подошёл к Проурзину, ловко ухватил его за кудлатую бороду под подбородком. — Быстро говори, где Ракитин?!
— Так… так… — челюсть Проурзина мелко тряслась, он мертвенно побледнел, — так… так, откуда мне-то? В-в-в лесах, в лесах где-то, а я-то чиво, я-то откуда знаю?
— А я знаю, где Ракитин, — удивлённым тоном сказал из-за спин присутствующих учитель Гиацинтов, так и стоявший в дверях. — Он у нас в селе, в Усть-Паденьге.
Все обалдели.
— Что? — обернулся на него Боговой.
— А? — скосился на него Проурзин, который не мог закрыть рот из-за того, что Заноза оттягивал его бороду.
— Чего ж ты молчишь-то? — гневно выпалил Заноза.
— Так ведь… уф, — растерянно развёл руками Гиацинтов, — меня никто не спрашивал. Он у нас в селе, в Усть-Паденьге. И люди там его, они как раз школу заняли, где я детей учил. А они что, разве не за советскую власть? Я думал, вы договорились…
Последовала ещё одна немая сцена.
— Та-а-ак… — наконец, угрожающе произнёс Заноза.
— А что? — испуганно и непонимающе переспросил Гиацинтов. — Сейчас же всё равно ведь каникулы, школа пустая стоит. Какой в том вред? Я разве не должен был?…
— Погодите-ка, товарищи, погодите-ка, — Боговой подошёл к Проурзину и заглянул ему в лицо, опершись ладонью о стену рядом с ним: — Ты ж, гадёныш, говорил, что тебя от Усть-Паденьги в этот раз делегатом выбрали? Так как же ты, — в голосе председателя съезда зазвенело торжество, — мог не знать, что Ракитин там?
— А он точно там, я в этом уверен, — поддакнул Гиацинтов, но тут же быстро добавил: — Ну, то есть, был там, когда я уезжал. А так я не знаю.
Проурзин стоял, не зная, что сказать.
— Пропизделся… — довольно протянул Боговой. — Всегда я знал, Проурзин, что тебя твой длинный язык до цугундера доведёт.
— Надо обыскать его, командир, — деловито заметил Заноза. — Может, у него наган там в кармане. Меня сегодня уже молотком пытались ударить, я второй раз рисковать не хочу.
— А кто это вас молотком? — с интересом спросил Гиацинтов, которому, кажется, очень понравилось, что он оказался так полезен. Заноза на это ничего не ответил, опустился на колени, принялся было охлопывать Проурзина по замаранным засохшей грязью мятым голенищам, как тут Проурзин быстро полез в карман пиджака, вытащил из него какую-то бумажку и попытался сунуть в рот — но Заноза быстро вскочил, перехватил его руку.
— Тих, тих, тих… — ласково зашептал он, разжимая пальцы смолокура. — Ишь какой шустрый! Чего это там у тебя? Сожрать хотел, ишь ты… Ого! Товарищ военком, а это, кажется, по вашей части.
Заноза показал бумажку Бессонову, а затем передал военкому, и Романов сразу же узнал почерк и манеру письма — те же, что на вчерашней записке, подсунутой ему в бумаги.
Сиво дня въ 9 вечера приходи къ церквѣ на горкѣ. Приходи одинъ. Ежель неодинъ придешь, нечего небудетъ.
|
— Bu yao, bu yao danxin, (Не боись, не боись,) — успокаивающим тоном сказал рябой мордастый китаец, передав Мухину консервы и приняв гранаты. — Dou ting haode, wo bu pian ni, (Всё в порядке, без обмана)— и действительно, жестянки выглядели, как и должны были — помятые, с бурой ржавчиной по ободам, видимо, не один год пролежавшие на каком-то складе, но целые, а значит, неиспорченные.
Китаец, в свою очередь, принял от матроса гранаты, тоже внимательно осмотрел их, рассовал по карманам ватника. Прижимая свободной рукой четыре сложенные друг на друга банки к груди, с маузером в другой руке, Мухин ещё раз оглядел напряжённо глядящих на него китайцев. Сейчас могут броситься, — понял он: пока у него были гранаты, те матроса опасались, сейчас же почувствовали, что он, против их десятка ничего не сможет сделать.
— Women zenme rang ta daizhe womende guantou zou a?! (Это как же так мы его отпускаем с нашими консервами?) — с требовательным выражением воскликнул паренёк в женском платке, принесший консервы. — Rang women qiangpo ta ba womende guantou huigei women ba! (Да отобрать у него их, и всё!)
Неистово частя и брызгая слюной, зыркая узкими чёрными глазами, видимо, ища поддержки у товарищей, этот китайчонок вырвал из рук растерянно стоявшего рядом товарища мосинку (тот безропотно её отдал, лишь удивлённо посмотрев) и оглянулся, не зная, на кого её направлять — то ли на Мухина, то ли на грузного рябого китайца. Тот обернулся, гаркнул на паренька:
— Anqing! Rang ta zou! Ni shagua, (Тихо! Пускай идёт! Ты дебил)— зашипел он так, что стало ясно — матерится, — kanbujian ma, tamen zai senlin hai you ren, (не видишь, что ли, там его люди в лесу) — указал он на лес, — women jintian yijing yingzhan le tamen, bu xuyao gen duo toutong! Zou! Zou, zou! (мы сегодня уже с ними встречались, тебе это ещё раз нужно? Иди! Иди, иди!) — коротко обернулся он на Мухина и замахал рукой с выражением «кыш отсюда».
— Ni kanjianguo tade ren ma? Ni zenme bianwei le womende zhihuiyuan?! Wo bu rang ni dui wo fahao shiling! (Ты этих его людей видел? И с каких это пор ты у нас командир?! Мной ты командовать не будешь!) — истерично заорал молодой парень и всё-таки вскинул ствол винтовки на Мухина. — Huigei womende guantou! Mashang! (Отдавай наши консервы! Сейчас же!) — пронзительно, визгливо закричал он матросу.
— Anqing! (Тихо!) — бешено заорал в ответ грузный китаец и рванул из кармана гранату Мухина. — Fangxia buqiang! (Брось винтовку!)
— Ta daizou womende shiwu! (Он уносит нашу еду!) — кричал парень. — Ta shi yige ren, nimen zenme haipa ta? (Он один, вы что, его боитесь?)
Положение накалялось: рябой китаец стоял посреди своих с гранатой в руке, зажимая рычаг взрывателя. Паренёк с платком на шее целился в Мухина, то и дело бросая взгляд по сторонам. По его очумелому, диковатому взгляду Мухин понимал — стрелять в человека он побаивается, но отступать не хочет. Ещё с десяток китайцев, кто с оружием в руках, кто за спиной, кто без оружия, стояли вокруг, соображая, что делать. Сидящий у стенки сарая опиумщик тяжело приподнял голову, осоловело посмотрел на надрывающихся криком товарищей, снова прикрыл глаза. Подкидывавший дровишки в костёр под котлом китаец с кряхтеньем поднялся с земли, подобрал с земли карабин. В разбитом окне дома промелькнуло и исчезло чьё-то лицо. Дверь дома открылась, на крыльце показался ещё один китаец. Этот, безоружный, озадаченно глядел на происходящее.
Озадаченно на всё происходящее глядели и красноармейцы, сидящие в кустах у опушки леса. Отсюда было не очень понятно, что там, у околицы хуторка, происходит — Мухин подошёл, вокруг него собрались китайцы, они там друг на друга кричали на повышенных тонах, потом китайцы принесли из дома что-то, а Мухин, кажется, отдал им свои гранаты — вот и всё, что удавалось разобрать. Никого, знавшего китайский, среди бойцов, конечно, не нашлось, и что там происходит, оставалось лишь гадать.
— Гляди-ка, Ерошка, зашевелились, ну чисто тараканы, — обернулся к брату лежавший в кустах Дорофей Агеев. — А этот, кажись, гранату достал…
— Командир, взгляни-ка туда, — тихо позвал Фрайденфельдса Кульда. Он первый заметил то, на что не обратили внимание остальные, прикованные к разворачивающейся вокруг Мухина сцене: окошко с торца большого бревенчатого дома растворилось — сначала одна створка, затем другая, и через окно полезла девушка в белой ночнушке — судя по светлым волосам, русская. Она осторожно вылезла из окна, спрыгнула на землю, сидя на корточках, огляделась по сторонам — и торопливо, пригибаясь и оглядываясь, припустила к бане, один раз, запнувшись, упала в траву, но тут же поднялась и быстро скрылась за бревенчатой стеной бани. Отвлечённые происходящим у околицы, китайцы побега не заметили.
— Глядь-ка, баба! — один за другим заметили её бойцы. — Драпает от них!
-
И правда, начинается жара. И как ярко начинают раскаляться угли!
-
наконец продолжение китайской драмы!
|
Китаец усмехнулся на пантомиму Мухина, но, чего тому требуется, сообразил. — Muji meiyoule. Yijing ba tamen dou chiwanle, (Куриц нет. Всех съели уже) — деловито заявил он, сделав отрицательный жест руками. —You guantou. Niurou! Hen haochi! (Есть консервы. Говядина! Очень вкусно!) — и по выражению этой фразы и по тому, что на последних словах он поднял руку, выставив большой палец, стало понятно, что какую-то еду он принести всё же согласен. Он обернулся к своим, принявшись раздавать распоряжения. Китайцы снова загалдели на своём, выясняя, кому куда идти и что нести, но в конце концов двое из них, плосколицый плюгавый мужичинка в душегрейке и другой, растерянный паренёк в русской барашковой шапочке и замызганном, мешковато висящем свитере с повязанным на шее женским оренбургским пуховым платком, переругиваясь, направились в дом. — Deng zhe’er! (Жди тут!) — строго сказал рябой китаец, показав на землю под ногами Мухина. Было ясно, что он сказал ждать здесь. Те двое ушли, опиумщик-переводчик бессильно опустился на измятую траву у чёрной бревенчатой стенки сарая, уткнул голову в колени и, кажется, полностью ушёл в себя. Ещё один, коротко что-то сообщив остальным, закинул на плечо винтовку и пошёл по двору, вертя головой, что-то высматривая. От нечего делать принялся рассматривать двор и Мухин. Раньше хутор, судя по всему, принадлежал какой-то зажиточной семье — то ли кулаков, получивших здесь отруб по столыпинской реформе, то ли старожилов, поселившихся в этом северном лесном углу в незапамятные времена. Мухин был городским человеком, но и он мог видеть, что большой дом, с белёными резными наличниками и безоконной половиной под скот, и три сарая вокруг, и овин с гумном в сторонке — всё это говорило о достатке прежних владельцев. Сейчас же хутор выглядел, как после тяжёлого, злого кутежа — одно из окон в доме было выбито, на середине двора, как в каком-то кочевом стане, над костром дымился чугунный котёл, от которого, когда на Мухина задувал ветер, несло горячей мясной похлёбкой, у завалинки были разбросаны пустые консервные банки, рядом к стенке дома был прислонён продырявленный многими выстрелами медный таз, на днище которого была углём намалёвана рожа. В полной тяжёлой, ледяной жижей луже на разъезженном телегами пути через двор лежал ком из замазанных грязью, пропитавшихся водой одеял, рядом валялась разбитая керосиновая лампа, пустая штофная бутылка из-под водки. Какие-то ещё цветастые тряпки там лежали: присмотревшись, Мухин узнал в них разодранный сарафан. На отдельном столбе посреди двора раньше висела рында — чугунная доска; сейчас она была сорвана, валялась в грязи, рядом с ржавым ободом разбитой бочки; обрывок верёвки так и болтался на столбе, будто после неудачного повешения. Сложенная у стены одного из сараев поленница была развалена: полена до половины рассыпались по земле, лежали в беспорядке. Один из китайцев, до того наблюдавших за Мухиным, решил подкинуть дровишек в костёр под котлом и, обменявшись со своими парой гортанных фраз и подозрительно оборачиваясь на матроса, взял пару колотых поленьев с земли, прошёл к костру, присел на корточки. Мухин обратил внимание, что в липкой жирной грязи остались следы, будто по земле что-то волокли. Следы вели к овину, широкая деревянная дверь которого была приоткрыта, но овин был далеко, и матрос не мог разглядеть, что там. Наконец, на крыльце появился посланный за едой паренёк с женским платком на шее (второй китаец куда-то пропал). В руках он нёс четыре золотистые жестяные банки с консервами. Он передал их внимательно наблюдавшему за Мухиным рябому китайцу, тот показал одну банку матросу. — Ni kan! Niurou! Hen haochi! (Смотри! Говядина! Очень вкусно!) — повторил он, показывая на русскую надпись. —Gei wo nide liudan, (Давай свои гранаты)— протянул он свободную руку за гранатами.
-
У меня бы, конечно, так колоритно, живо и ярко передать китайцев не получилось бы. А описание подворья просто шикано!
-
|
Хрустя по сахарному снегу, нелепо перескакивая через рельсы, пригибаясь и оборачиваясь, подпольщики рванули через пути назад, откуда пришли. Остановились, запыхавшись, хрипя, у будочки, за которой ранее пряталась Гера, оглянулись: у теряющейся в метели цистерны виднелись шинельные силуэты с винтовками наперевес. Они никуда не бежали: один, вышедший из-за цистерны, заметил беглецов и вскинул было винтовку, но стрелять не стал, медленно опустил. Резкий, требовательный офицерский голос всё ещё доносился оттуда, но слов за свистом вьюги уже было не разобрать.
— Вон они! Дальше драпают! — показал Чибисов вперёд, где по запорошенной снегом, очень тёмной улочке между жалких бревенчатых домишек, серых сугробов и палисадников, занесённых кустов бежали пятеро. Нет, не драпают — сразу стало понятно, не драпают, а гонятся, четверо за одним, как бандиты за жертвой.
— Стой! Стой, сука! — по пустой улочке по-ночному гулко разнёсся голос одного из казанцев, было не разобрать, кого. Удиравший рванул вперёд, но зацепился за что-то, взмахнул руками, упал на снег. К нему сразу подскочили и, кажется, принялись бить ногами. Где-то надрывно, наперебой лаяли, рвались с цепей собаки. Один из казанцев, бежавший последним, — парень в серой шали на плечах, Даня, — нервно вскинул винтовку на окно стоявшего рядом домика.
— Отойди от окна! — мальчишеским срывающимся дискантом завопил он, прижимая приклад к щеке.
Скорчившегося на снегу человека ещё раз пнули, дёрнули за волосы, поднимая голову — сбитая с затылка меховая шапка отлетела в сугроб. Кто-то из казанцев, наклонившись, закричал ему в лицо:
— Так ты с ними заодно, гадина?!
— Почему не бастуешь, сволочь?! — заорал другой.
Даня бешено оглянулся, заметил спускающихся от путей Чибисова с Зефировым и тут же перевёл ствол винтовки на них. Те в два голоса наперебой закричали:
— Ты чего! Свои! Свои! Не стреляй, дурак!
Переводя дыхание от забега, сглатывая и озираясь по сторонам, настороженно двинулись вперёд к казанцам. Даня опустил ствол, тоже оглянулся. Избивавшие беглеца казанцы, заметив приближение остальных, остановились. Теперь их можно было разглядеть — усатый Гренадер в полушубке, первым встретивший Анчара у вагонов рябой Никанор в похожей на военную шинели, ещё один, при знакомстве назвавшийся Борькой, в тёплой ватной куртке, из-под которой торчал серый высокий ворот вязаного свитера. Этот был без шапки — видимо, потерял её при бегстве, и сейчас обнаружились его ярко-рыжие волосы. У их ног, скрючившись, лежал незнакомый человек лет сорока, с круглым, щекастым безусым лицом. Он был в тяжёлом, толстом тулупе с отложным овчинным воротником — видимо, поэтому и не смог убежать. Он с животным страхом, закрываясь руками, смотрел на стоявших над ним казанцев, от ужаса не в силах даже закричать.
— Сколько вас? — обернулся Никанор.
— Мы вот только, — одышливо ответил Чибисов.
— А Тимошка не с вами? — спросил Гренадер.
— Не… — ответил Чибисов, оглядывая собравшихся и сам прикидывая, скольким удалось унести ноги.
— Он, кажись, туда куда-то побежал, — махнул рукой в неопределённом направлении Гренадер.
— Матрос ваш… — несший бомбу Зефиров подбородком показал назад, — там остался. В плен его, кажись… — то ли студент сам не рассмотрел, что произошло с Мартыном, то ли зачем-то решил соврать.
— Сука! — зло выкрикнул Никанор и пнул лежащего человека сапогом в мягкий бок тулупа. — С дрезины соскочил! — показал он пальцем.
— Я не солдат! — жалобно выкрикнул лежащий.
— Да уж ясно дело, не солдат! — с издёвкой гаркнул на него Никанор. — С Николаевки, да? Ну, говори!
— Д-да… — мелко закивал тот.
— Мразь! Штрейкбрехер! Почему не бастуешь? Все бастуют, а ты не бастуешь? — в сердцах, срываясь, заорал на него Никанор. — Я тебя сейчас здесь на месте пристрелю, паршивца!
— У нас не бастуют… — дрожащим голосом еле выдавил лежащий.
— Почему не бастуют?! — Борька присел на корточки, левой рукой снова вздёрнул за волосы голову лежащего, а правой хотел было ударить кулаком в лицо, но николаевец схватился за руку Борьки, бить было неудобно. — Предатель рабочего дела! Из-за тебя наши товарищи гибнут! Чего ты чепляешься, скотина! Андрюха, подержи ему руки, я сейчас ему юшку пущу!
-
Для пьяных воздухом свободы романтиков революции - весьма отрезвляющее зрелище.
|
Июль 1799 г.
Астраханская губернияПолуденное солнце нестерпимо палило с сияющего голого неба. По обе стороны пыльной, пропечённой зноем дороги раскинулась рыжая степь — пустая, беспредельно уходящая в плоский горизонт, без единой тени, в дрожащих стеклянистых колыханиях горячего воздуха. Серая окаменелая, покрытая трещинами земля обжигала ступни через подмётку, лениво задувал печной полынный ветерок. В дремотном раскалённом зное по дороге шагал путник с мешком за спиной и лотком через плечо, молодой коробейник по виду. Он мерно, не останавливаясь на передышку, не задержавшись даже у протекавшего по дну балки пересыхающего мутного ручейка, шёл на север из Уральска. Жара ему была не помеха, степь была ему неинтересна, пот не лился с его незагорелого, сизовато-бледного лица. Ему было скучно. Он вообще предпочитал более людные места — например, шумную, грязную, воняющую рыбой Астрахань, сонный, но в то же время и будто зло притихший, прибитый царской рукой, но не забывший обиды Уральск, бывший Яицкий Городок, где Пугача ещё втайне от исправника называли Петром Фёдоровичем. И всё-таки тут подобных мест было немного — степные просторы, дальние переходы между городами Игнату не нравились: сто раз проголодаешься, пока дойдёшь. Поэтому теперь шёл он на север, в более населённые места. Шёл он по почтовому шляху, и временами то навстречу, издалека показываясь пыльным облаком, то обгоняя, мимо него проезжали — пронёсся взмыленный курьер, проехала запряжённая парой лошадей киргизская кибитка, далеко в степи, с отдающимся дрожанием земли топотом, шлях пересёк табун с гикающим погонщиком. Игната злило, что его не подвозят, — если бы по пути подвернулся крестьянин, скажем, с возом сена, он бы не отказался помочь усталому пешеходу, и Игнат, конечно, не упустил бы случая напиться крови. Но места были дикие: тут и оседлого населения-то не было, встречались только случайные почтовые станции. На них у Игната и был расчёт. — Хозяин, хозяин! — приставив ладони рупором ко рту, закричал Игнат, оглядывая хуторок с конюшней, колодцем, верстовым столбом у плетня, свежепобеленной, недавно поставленной мазанкой. Деловито заглядывая в распахнутые ворота конюшни, из покойного сонного полумрака которой упоительно тянуло навозом, Игнат с удовлетворением отметил, что ожидающих смены лошадей путников на станции сейчас нет и убийству никто не помешает. «А вот убить бы хозяина, занять его место. Сидел бы тут и проезжих потихоньку резал», — мечтательно подумал Игнат. Станционный смотритель — высокий костлявый мужчина лет сорока с остроносым птичьим лицом, заросшим жёсткой чёрной бородой с проседью, — был на дворе, сидел в теньке на корточках с ведёрком жирно-чёрной мази, которую кисточкой наносил на втулку тележного колеса. Рядом с ним, весь перемазанный в дёгте, с ведёрком сидел мальчик лет десяти, с русыми выгоревшими под солнцем волосами: отец учил его смазывать тележную ось. — Тебе чего, странник? — крикнул хозяин, оглядывая незнакомца. — Офеня, что ль? — Офеня, — откликнулся Игнат. Он действительно теперь везде ходил с лотком и мешком, полными всяких безделиц: это было удобно и не вызывало подозрений. Игнат принялся заученно перечислять: — Бисер персидский, платки оренбургские, государя амператора Павла Петровича портрет печатный, лубочки также разные есть — про Бову-Королевича, про шута на свинье, про Муромца Илью, из Библии также. — А про сражения есть? — смело спросил чумазый мальчик, встав с земли. — А то как же! — откликнулся Игнат. — Есть про царя Мамая, как его русское войско побило. — Покажи! — вскинулся мальчик. — Бать, а бать? — просяще обернулся он на отца. — Ну пойдём, — смотритель с кряхтеньем поднялся, сомнительно взглянул на Игната и показал на дом. — Покажешь, чего там у тебя. — Вот она самая: картина, как войско русское татарского царя Мамая побило, безбожника окаянного, магометана вшивого, — показывал Игнат, развёртывая цветной бумажный свиток на покрытом линялой скатертью столе. Они стояли в маленькой душной горнице с парой заправленных кроватей для проезжающих, белой печкой, половина которой скрывалась за дощатой перегородкой, отделяющей комнаты. Остро и жарко пахло пылью, рассохшимся деревом, дегтярной колёсной мазью от рук смотрителя. — А где сам Мамай? — с интересом спросил мальчик, рассматривая разных конных и пеших человечков, цветасто раскрашенных на печатном листе. — Этот? — смахнув с бумаги сонную зелёную муху, показал он на коричневую фигуру, с копьём наперевес мчащуюся на другого всадника, тоже с копьём, в красном плаще. — Э, нет, — ласково сообщил Игнат. — Это воин татарский, Челубей, самый сильный в их орде богатырь. А вот этот, вишь, это наш русский витязь Пересвет. Они как друг с другом сшиблись-то, так оба и полегли. — А Мамай где? — А Мамай вот, — показал Игнат. — Видишь, его войско направо едет, а он налево повернул. Стало быть, удирает уже. — Чего ж он удирает-то, если его войско ещё с нашими дерётся? — вмешался в разговор отец, близоруко склоняясь над лубком. — Так это он потом уже, когда их побили, удирает, — терпеливо объяснял Игнат, глядя на соблазнительно склонённую, бурую от загара шею хозяина с чёрными волосиками на загривке, выступающим горбиком косточки позвонка. — Да тут же и написано всё, ты читай вот тут, — он показал на буквы по низу картинки. Игнат уже примерялся, как ударит хозяина в шею ножом, как только он низко склонится над мелкими, тесно составленными буквами, начнёт разбирать слова. Потом разделаться с мальцом, вот и все дела, — рассудительно подумал Игнат. — Да я читать-то не больно мастер, — хозяин выпрямился и, как показалось, с подозрением поглядел на Игната, который сразу убрал руку из-за пазухи. — Неграмотный, а на станции служишь? — не поверил Игнат. — Как ты записываешь-то в книги свои? — кивнул он на пыльный и растрёпанный реестр проезжающих, лежавший рядом. — Так то не я пишу, — ответил хозяин. — Это жена моя пишет, Умгу звать. Она городская, грамоте учёная, а я только сам ещё еле-еле по слогам разбираю. Эй, Умгу! — позвал он. Дверь в перегородке открылась, и в горницу вошла молодая гилячка в расшитой меховой одежде из собачьих шкур, тяжёлых унтах. Её широкое, смуглое лицо было наискось замотано окровавленными тряпками — только узкий чёрный глаз пристально глядел на Игната. — Ты, Настя, почитай, что там написано, — обратился к жене смотритель. — Офенька говорит, там про Мамая! — добавил сын. Умгу взяла листок, принялась читать, шевеля губами. — Да, написано «царя Мамая», — подтвердила она. — С чего бы мне врать-то? — обиделся Игнат. — Чего не верили? Будто, что там Мамай, лубок дороже делает! Что за Мамая алтын, что за другие цветные алтын, все по одной цене. А коль дорого, так и скажи: вон, «Возвращение блудного сына» не цветное, это за полторы копейки отдаю. А две за алтын возьмёшь — одну бесплатно дам. — А ну-ка покажи блудного сына… — заинтересовался хозяин. Игнат полез в мешок. — Бать, купи Мамая! — заканючил сын. Отец цыкнул на него. — А вот ещё генерал Суворов, который турка бил, — предложил Игнат, выкладывая на стол перевязанные тесёмками свитки. — А пушки на картинке есть? — деловито спросил мальчик. — Нет, пушек нет. Только генералова персона. — Тогда не надо, — решительно заявил сын. — Мамая давай. — Тоже по полторы копейки. Хороший генерал, — заметил Игнат. — Не надо нам Суворова, — буркнул хозяин. — Ну, вольному воля, неволить грех, — легко согласился Игнат. — Где ж этот блудный сын-то у меня? — он принялся отгибать края свитков, выискивая нужный. — А там есть пушки? — снова встрял хозяйский сын, который вслед за Игнатом принялся разворачивать один за другим свитки, разглядывая раскрашенные и чёрно-белые лубки. — Какие пушки, малец? — снисходительно усмехнулся Игнат. — Это библейская картинка. На таких пушек не бывает. — Тогда не надо её! Бать, ну её к лешему, купи Мамая! — Ты чего такое говоришь, Гришка! Библию к лешему посылать! Чтоб я от тебя таких слов не слыхал! — хозяин отвесил сыну хлёсткий подзатыльник, от которого мальчик скорчился, заскулил, но тут же, секунды не прошло, снова полез разворачивать свитки, рассматривать картинки. — Благочестиво живёте, — уважительно сказал Игнат. — Старой веры держитесь? — Нет, — коротко ответил отец и подозрительно посмотрел на Игната, вглядываясь в его лицо. Игнат этого не замечал, выкладывая из мешка новые лубки. — Гляди, бать, дохлый кот на дровнях! — захохотал мальчик, обнаружив картинку с известным лубочным сюжетом про похороны кота мышами. — Давай эту купим! — Чепуха какая! — отец бросил взгляд на лубок. — Ну гляди! — задыхаясь от восторга, заголосил малец, дёргая отца за рукав. — Его мыши хоронят! Кота — мыши! Ну купи, бать! — Тебя, Гришенька, послушать, так весь мешок покупать придётся, — мягко сказала Умгу, положив загорелую руку на нечёсаную лохматую голову сына. — Весь я не прошу! — замотал головой сын. — Только вот с котом, ещё с Мамаем, а ещё вот с шутом на свинье смешная, её тоже, и ещё… — Ладно, — подытожил отец. — Посмеялись и буде. Пойду деньги возьму. Пошли со мной, Гришка. — Брать-то что будете? — спросил Игнат. — Сына блудного возьмём, — рассеянно сказал смотритель. — Бать! Ну хоть кота возьми, а? — возмутился мальчик. — Цыц, Гришка! Айда за мной, — подтолкнул он сына к выходу. — А ты посиди пока тут, офенька. А ты, Настька, ему квасу дай. Вон, из ледника принеси. На жаре, чай, намаялся? Игнат вспомнил, что обычные люди страдают от жары, и запоздало подумал, что первым делом следовало попросить у смотрителя воды и изобразить усталость от далёкого пути. Игнат с измождённым видом уселся на лавку, принялся обмахиваться листком лубка. Отец с сыном вышли во двор, женщина скрылась за перегородкой. Игнат отложил листок, оглянулся по сторонам, воровато выглянул в окошко: отец с сыном шли к сараю у плетня. Игнат перевёл взгляд на перегородку в дощатой стенке. Сначала её, потом хозяина, потом сына, — с предвкушением подумал он, поднялся с лавки и медленно, стараясь не скрипеть половицами, направился к двери, тихонько отворил её. Комната была пуста, только сладко и жирно тянуло от томящегося в белой печке кулеша. Это помещение было, видимо, кухней: здесь были бочки с соленьями, горшки, кружки, самовар, рядок зеленоватых штофных бутылок на полке. Умгу, видимо, вышла через чёрный ход, — озадаченно подумал Игнат. Он вернулся назад в горницу, снова выглянул в окно и увидел, как хозяин вытаскивает из сарая вилы и какую-то железную цепь. Удивлённый, Игнат уселся на лавку, размышляя, что делать дальше — искать ледник, куда ушла Умгу, или сперва напасть на хозяина с сыном? — Гришка! — приглушённо донёсся до Игната голос со двора. — Где ты там? Бегай в конюшню, Грачика седлай. — Зачем? — удивлённо спросил сын. — Седлай, кому сказано! — сердито прикрикнул хозяин. — Не пререкайся, седлай! — Ладно… — уныло протянул мальчик, пошёл по двору, нарочито широко шагая босыми ногами по засохшей грязи двора. Игнат беспокойно оглянулся по сторонам, скользнул взглядом по пустой комнате, оставленным на столе лубкам, заправленным кроватям, жбану на столе. А квас-то вот он, — странно подумал Игнат, принюхавшись к тёплому хлебному запаху. Неужто что-то заподозрили? Разбегутся по степи, разъедутся на своих лошадях, потом и не догонишь. Хотя откуда им догадаться? Может, где-то раньше он их видел? Игнат постарался припомнить, где он мог видеть этого сутулого, худощавого казака, этого мальчонку, эту русоволосую бабу в холщовом сарафане — хотя почему в сарафане, она же была в гиляцкой меховой одежде? Нет, он их не помнил, в этих местах раньше не бывал, узнать они его не могли. Чем он мог себя выдать? Тем, что не попросил пить с жары? Игнат нахмурился, соображая. — Дядя! — вдруг услышал он заговорщицкий голос от двери. В горенку, таясь от отца, проскользнул мальчик. — Дядя офенька! Батя покупать мне картинки не хочет, так вот смотри, у меня пятачок тут, — он разжал кулак и показал блестящую медную монетку. — Мне один купчина проезжий дал. Так что ты уж мне продай, пока батя не видит, вот кота и Мамая, а ещё шута на свинье! — Ага, — сказал Игнат таким же многозначительным полушёпотом и полез рукой за пазуху. — Сюда иди, малец. — Только ты мне скажи, что тут писано? — спросил мальчик, бережливо взяв лубок с Мамаем, и в этот момент подошедший сзади Игнат цепко зажал ему рот левой рукой и, не успел парнишка дёрнуться, как Игнат, обхватив его правой рукой, с глухим звуком вогнал ножик промеж рёбер, прижимая к себе трепещущее, горячее и колотящееся тело. Игнат едва удержался, чтобы не взвизгнуть от захлёстывающего восторга, восхитительного, здорового запаха розовой кожи, тёмно-золотистых спутанных волос на затылке мальчика, отчаянных, безнадёжных и судорожных его попыток вырваться, закаченного, в ужасе распахнутого, косящего глаза над сизовато-бледным, костенелым указательным пальцем ладони Игната, зажимающей мычащий рот. Игнат вытащил нож из раны, с наслаждением ударил ещё раз и ещё, — паренёк мычал, бился, трясся. Не отрывая ладони ото рта агонизирующего мальчика, Игнат опустил тело на пол, встал на колени, бешено оглянулся по сторонам. Он подумал, что надо скорей идти убивать отца, — и вместо этого, не в силах удержаться, припал к расплывающемуся под раскрытым воротом холщовой рубашки красному пятну. Он не понимал, что происходит вокруг, не мог сопоставить звуки, чей-то голос, шаги с их значением: горячая, толчками хлещущая из раны кровь не давала думать, с каждым глотком наполняя тело звенящим, дрожащим наслаждением. «Гриша!» «Гриша!» — звал кого-то взволнованный женский голос, глухо стукали шаги, хлопнула дверь. Только тогда Игнат вскинул голову, непонимающе уставившись на стоящую в дверях остолбеневшую от ужаса женщину с остановившимся лицом — впрочем, как он мог видеть это лицо, оно ведь было замотано окровавленными тряпками? А как было на самом деле? Нет, Игнат, кажется, на четвереньках, стуча коленками по доскам, бросился к ней, схватив лежащий у окровавленного лубка нож, попытался схватить за ноги, повалить, но женщина с криком бросилась прочь на двор… Да нет, куда она могла броситься в своей тяжёлой меховой шубе, унтах? — Ты зачем меня ножом хочешь ударить? — спокойно сказала Умгу, глядя единственным открытым между бинтами чёрным глазом на подскочившего к ней Игната. — Зачем хочешь убить? — А у тебя под повязками тоже кровь? — застревающим голосом спросил Игнат, заглядывая Умгу в лицо снизу вверх, как собака. — Тоже кровь, — ответила Умгу. — А ты повязку сними тогда, — попросил Игнат. — Ишь какой быстрый! — лукаво возмутилась Умгу. — И знакомы-то без году неделя, а уж такое предлагает! — Хочешь, со мной крови попей, — тупо сказал Игнат. — Я мальчика зарезал. — Чего добру пропадать, — согласилась Умгу и, опустившись на колени, принялась слизывать натёкшую на доски пола кровь. Игнат встал на колени рядом, тоже присосался к ране на ещё тёплом, но уже не трепыхавшемся теле, глотнул раз, другой, — но не мог сосредоточиться на привычном наслаждении, его всё что-то отвлекало. Он обернулся на стоящую рядом Умгу, длинно собиравшую языком кровь с пола. У неё ведь под повязками тоже кровь, у неё всё лицо замотано, — подумал Игнат. — Умгу, — позвал он. — Чего? — скосилась она, оторвавшись. — Умгу, а где свистулька? — Какая свистулька? — Такая, которую мне Иннокентий дал в Петровском? — В бочке, — просто ответила Умгу. — А я же тебя помню, Игнашка. Мы с тобой с пугачёвским войском вместе ходили. Верно про тебя тогда говорили, что ты упырь, выходит? — то есть это говорила уже не Умгу, а Ерошка, — постаревший, бородатый, мелко двигающий острым, подвижным кадыком, совсем непохожий на того припадочного тощего юнца, каким его запомнил Игнат. — В какой бочке? — спросил Игнат, не понимая, кого видит перед собой, — то ли это была Умгу, то ли какая-то женщина в сарафане, то ли Ерошка в дверях. Перепуталось всё как-то в голове у Игната, перемешалось, плыло переливающимися волнами в жарком блеске, и это, и потом, когда он под уговорами — чьими? — пошёл к этой бочке, в которой лежала то ли свистулька, то ли табакерка, в которой, Ерошка говорил, сидели двое чертей и потому Игнат был ему не страшен. Он тогда сунул в бочку руку, потянувшись за свистулькой на дне, а Ерошка поставил сверху крышку, привалил тяжёлым камнем, намертво прижав руки Игната, а потом цеплял ему, визжащему, вырывающемуся, на шею железное кольцо, — и это совсем уже было неприятно вспоминать. Апрель 1853 г.
Низовья АмураА всё-таки была там, была свистулька, — думал Игнат, механически продираясь через густой таёжный бурелом, перелезая через бурый наискось упавший кедровый ствол, раздирая матросскую робу об острые ветки. Её там не могло быть, ведь он отлично помнил, как совсем недавно свистульку дал ему Иннокентий перед тем, как Игнат выпустил его из землянки, и это не подлежало сомнению — но сомнению также не подлежало и ясное, подробное воспоминание о том, как он увидел белую глиняную птичку на чёрном дне пустой бочки и потянулся за ней.
|
— Де… де… — начал один из смолокуров, запинаясь и во все глаза таращась на чекиста — одного из тех, о ком столько слышал, но кого, вероятно, видел в первый раз. Наконец, с третьего раза у него получилось выдавить: — Делегаты мы. Шеговарская волость, я и вот Фёдор, — показал он на товарища.
— Мы, товарищ представитель, ваше… — начал второй и замялся. Видимо, он хотел льстиво обратиться к чекисту «ваше благородие» или «превосходительство», или что-то в подобном духе, но вовремя осёкся. — Мы ничего, нет-нет. Мы ничего не планируем. Мимо проходили… уважаемый товарищ, — наконец, нашёл он формулировку.
— Участвуем в съезде, все решения партии большевиков и коммунистов поддерживаем, — добавил первый.
Гиацинтов с интересом, но без особенного страха поглядывал на чекистов и членов президиума. Он был, кажется, доволен, что его художественные способности могут оказаться полезными.
— Я не злорадствую совсем отнюдь, — скрипуче возразил Проурзин словам Романова. Он, хоть и старался подлизаться к военкому, но удержаться от того, чтобы не поспорить, не мог. — Я, как сторонник советской власти, желаю, чтобы она на всех фронтах била врагов, в том числе и предателей ея!
— А вы с какого времени, уважаемый, сторонник советской власти? — мягко спросил Заноза у Проурзина.
— А с самого что ни на есть начала я ея сторонник! — самодовольно откликнулся Проурзин.
— Врёт, — мрачно, опасливо глядя исподлобья, заявил Боговой. — Чего ты очки втираешь приезжим, Проурзин! Будто не ты за Малахова на всех съездах голосовал, не ты на этой гнилой правоэсерской платформе стоял, с кооператорами заодно! Под их дудку только и голосовал!
— Я по справедливости голосовал! — взвился Проурзин. — Что я против головотяпства твоего с братцем был, так то не значит, что я против советской власти!
— А кто… — Боговой, распаляясь, даже задохнулся от гнева, — а кто на пятом съезде «земля и воля» со стола орал? Не ты, скажешь? Подтвердите, — обернулся он к шеговарским депутатам, — орал он «земля и воля» со стола?!
— Да я и не был тогда… — остолбенело ответил один.
— Кажись, орал кто-то, — неуверенно протянул второй.
— Вот он и орал!
— И что, что орал?! — задиристо воскликнул Проурзин. — Что такого, что орал?! Что плохого в земле и воле? Мож, Ленин против земли и воли? Где такое, в каком таком декрете сказано, что земля — плохо, и воля — плохо?
— Да ты понимаешь хоть, что это эсеровский лозунг, дубина?! — возмутился Боговой.
— А хоть бы и есерский, главно дело, что верный! — не унимался старик.
-
— А хоть бы и есерский, главно дело, что верный! — не унимался старик.
Да, мля! Даешь!
|
Апрель 1853 г.
Залив Счастья, побережье Охотского моря,
Зимовье Петровское
Местные называли это «столицей». Зимовье Петровское располагалось на голой, заросшей колючим кустарником и высокой травой косе шириной в пару сотен шагов. Несколько изб для матросов, офицерский домик, шлюпочный сарай, пакгауз с припасами, чахлый огород под картошку — вот и всё хозяйство. В стороне косо кренился голыми мачтами выброшенный на берег бриг «Охотск» с распоротым, как у кита, брюхом — обшивку с борта снимали на дрова: бурые, источенные червём шпангоуты торчали наружу, черно зиял полный застойной водой пустой трюм. С одной стороны косы ревело, швыряло белоснежные пенные валы на песок море, с другой мирно зыбился залив, за которым были видны дымки гиляцкого селенья, сразу за которым темно зеленела островерхой гребёнкой тайга. В холодной дымчатой дали кривая, как небрежная линия пером, полоса отделяла синие покатые горы от низкого, серого, торопливо бегущего неба. Над утоптанным плацом перед офицерской избушкой каждый день поднимали выцветший, истрёпанный ветром Андреевский флаг. Ночью со стороны моря приходили киты-белухи, протягивая под чёрной водой фосфорические полосы, оглашая пустые пространства оглушительным рёвом, от которого все просыпались. В сыром, вонючем, закопчённом сажей бараке уже никто не ходил смотреть на белух, только ругались, что не дают спать.
Прошлую зиму Петровское еле пережило: трюмы транспорта, пришедшего в сентябре из Аяна, оказались почти пусты. Муки и круп в пакгаузе почти не оставалось, и то, что оставалось, с трудом уберегали от полчищ крыс. Чай с сахаром выдавали только совсем больным. Ели в основном гиляцкую вяленую рыбу-юколу да ходили в лес глушить тетеревов — птица в этих краях была совсем непуганая: позволяла убивать себя ударом палки. От однообразия и скудности пищи матросы и казаки болели, слабели — и всё-таки продолжали заготовлять дрова, смолить шлюпки, возводить церковь из сырых, негодных к строительству еловых брёвен: хоть бы как построить, и то хорошо. Военный пост был основан три года назад и всё строился — по плану Невельского следовало возвести и пристань, и загон для скота (скота ещё не было), и домик для доктора, пока ютившегося в одной избе с Невельским и его женой; планов было много, а людей — всего с пару десятков, и те почти все были слабы, больны цингой. Соседи-гиляки, дружелюбно относившиеся к русским, присылали черемши, но та мало помогала. От цинги умирали: за зиму умерло пятеро матросов и единственный в зимовье ребёнок — дочь Невельского, родившаяся здесь же: у ослабевшей от недоедания матери не было молока, и девочка тихо, без крика зачахла в декабре. Никто не плакал: жена Невельского, молоденькая выпускница Смольного института, топила лёд, варила похлёбку из последней муки и картошки с огорода, механически стирала облезающими руками бельё в бане. Сам Невельской, как заведённый, вышагивал по посту, зло распоряжался, будто находя удовольствие посылать матросов и казаков на всё новые непосильные работы, заматывать всех до полусмерти. Будто этого мало, он ещё отправлял одну за другой экспедиции по два-три человека на собаках во все стороны — по Амуру, по морскому берегу, на Сахалин. О бунте никто не думал: не было сил. Возвращаясь вьюжным вечером по тропике сквозь саженный сугроб во влажный, прокопчённый дымом от чёрной печки, кишащий вшами и крысами, но тёплый барак, все думали лишь о том, как пережить зиму, дождаться летнего транспорта из Аяна.
В Петровском Игнат провёл уже год: сперва его пороли, потом держали под стражей, потом начали выводить на работы — полоть огород, таскать с берега плавник, валить еловый лес на другой стороне залива, возить оттуда на собаках брёвна под строительство церкви. Игнат недолго ходил под стражей: скоро увидели — человек он смирный, начальству не перечит, работает усердно, и, в отличие от других, зиму переносит хорошо. Во время осмотра доктор нажимал огрубелым, закопчённым пальцем Игнату на зубы и удивлялся, отчего они не шатаются. «Мы ветлужские, ребята крепкие», — застенчиво отвечал Игнат, довольный, что удержался и не укусил доктора за палец — хотя очень хотелось.
Игнат вообще решил пока затаиться и открыто кровь не пить: десятилетия бездумного, животного существования он теперь воспринимал как какой-то сумбурный запой, когда забулдыга вливает в себя штоф за штофом, не в силах остановиться и не понимая, к чему его это приведёт. Наслаждение от крови было всё так же сильно, удерживаться от того, чтобы не впиться в буро-красную грязную шею лежащего на соседних нарах матроса, получалось с трудом, но Игнат понимал — это может закончиться лишь тем, что его либо опять сунут в яму, либо выгонят в тайгу, где под деревом опять придётся просидеть невесть сколько; нет, Игнату этого не хотелось. Он придумал удобный способ: матросы умирали от цинги, и до весны их не хоронили, не копали мёрзлую землю, а складывали на поленнице за недостроенной церковью. Мертвецов обгрызали крысы, лисицы, соболя, а с ними Игнат. Оставленный на часах, ледяной ночью он, таясь, проходил к поленнице, выбирал труп, вгрызался в мёрзлое мясо, высасывал оставшуюся в жилах кровь — это было не сравнить с тем восхитительным чувством парной крови, хлещущей из свежевспоротой глотки, но и особенного отвращения Игнат не чувствовал, даже напротив — был доволен, что на хлёстком, звенящем морозе кровь не портится. Игнат лишь жалел, что так и не попробовал крови умершей дочери Невельского — командир сделал для неё исключение и приказал вырыть могилку, растопив землю кострами. Игнату очень хотелось разрыть могилку, и как-то, забывшись, он примерялся уже, как будет разрывать маленький дощатый гробик лопатой, — но остановился: такое его непременно выдало бы.
***
Ещё час назад было солнечно, но погода в этих краях менялась стремительно: не успел Игнат дойти до берега, налетел серый промозглый туман, скрывающий все очертания в белесом мраке уже в десятке шагов. Морской берег косы в такие часы выглядел жутковато: бесснежная песчаная полоска берега была вся забросана белыми сухими корягами плавника, и в тумане они выглядели разбросанным костяком исполинского животного. Молча и мертво белело подо льдом море с голубыми торосами по краю: лёд уже покрывался желтушными пятнами, лужицами, но до ледохода было ещё долго.
Игната послали собирать плавник на дрова: он уже успел оттащить к бараку пару коряг и сейчас примерялся к следующей, соображая, получится ли взвалить её на плечи или придётся тащить волоком. Он взялся за обледенелую корягу, с кряхтеньем взвалил её на плечо, побрёл было, пошатываясь, назад к зимовью, как услышал крик:
— Эй, эй! Матрос! Писка едет, писка!
Игнат немедленно свалил корягу, напряжённо вглядываясь в туман, откуда серым силуэтом появилась оленья упряжка: тунгус привёз почту из Аяна.
***
Почты, которую тунгусы называли «писка», все ждали больше, чем Пасхи: путь от Аяна до Петровского был долгий, и тунгусы драли за перевоз втридорога: им платили тканью-китайкой, остатками чая, маньчжурской махорки — лишь бы только возили. И всё равно возить брались немногие: за зиму пришло лишь три писки, зато в каждой были письма, которые потом перечитывали по сто раз, прошлогодние газеты из Иркутска, а с прошлой пиской Невельскому даже прислали из Петербурга орден — командир тогда в сердцах заметил, что лучше бы прислали муки и чая, но звезду всё-таки с тех пор с гордостью носил на кителе. Поэтому неудивительно, что сейчас, когда Невельской, собрав всех на плацу, разбирал почту, выкрикивая по именам офицеров, матросов и казаков, получивших весточку из дома, все напряжённо вглядывались в баул, из которого командир по одной вынимал бумаги, выкрикивал фамилии получателей, — все, кроме Игната. Игнат смотрел только на странного мужичка, приехавшего вместе с тунгусом.
Никто не обращал внимания на сидящих в нартах двух человек — молодой гилячки с забинтованным окровавленными тряпками лицом и рядом с ней — связанного немолодого мужичка в облезлой шубе из собачьего меха, в берестяном гиляцком колпаке, в сапогах из нерпьей шкуры. Это было обычное дело: тунгусы и гиляки временами приводили к русским разных бродяг, преступников, обманщиков-купцов. Всё было ясно: Невельской прикажет посадить его в землянку, служащую гауптвахтой, потом накажет розгами или прикажет расстрелять — почта была куда занимательней. И только Игнат вглядывался в немолодое, морщинистое, бледное лицо этого человека и со странным замирающим чувством понимал, что он его узнаёт. Он очень изменился: острижены были седые волосы, не было больше бороды, поменялись даже очертания лица — будто раздались вширь скулы, уменьшился нос и глаза изменили цвет: не водянисто-бледные они теперь уже были, а зеленовато-карие, почти как у местных. Он и напоминал всем видом теперь больше гиляка, чем русского, и Игнат не мог понять, как это возможно. Однако, осталось главное — запах, который Игнат почувствовал, проходя в строй мимо нарт. Земляной, погребной запах; запах да выражение, с которым встретились взгляды Игната и этого человека: «а, узнал, да?» — будто говорил взгляд старика. Игнат действительно его узнал.
***
— Иннокентий! Иннокентий! — тихо позвал Игнат, когда все, взбудораженные почтой, наконец улеглись, и на дворе остался только он с ружьём, стерегущий пленника у порога. Из-за грубо сколоченной двери землянки-гауптвахты тихо донеслось:
— Узнал, да?
— Узнал, — заговорщицки подтвердил Игнат.
— Так заходи, — вполголоса позвал старец Иннокентий.
Игнат отомкнул засов и осторожно спустился по вырубленным в земле ступенькам в маленькую каморку, освещённую лучинкой в светце: здесь была печка-каменка, но старец её не затапливал, и в землянке было по-могильному холодно: застыл земляной пол, инеевая бахрома тянулась по стенам. Старик сидел, привалившись к стене, и перебирал в руках холщовый мешочек. Знакомый смрад ударил Игнату в нос: так пахло тогда, давным-давно в морильне, так пах и он сам: кал, земля, спёртый удушливый воздух, и что-то родное почудилось Игнату в этом запахе. Игнат с удивлением понял, что не только не чувствует никакой вражды к старцу, обрекшему его на превращение в упыря, но более того — чувствует к нему приязнь, как к родному человеку. И всё-таки он не мог не спросить с порога:
— Иннокентий! Ты зачем меня тогда в морильню посадил?
— Аль не понравилось? — с хитрецой отвечал Иннокентий.
— Ты меня в морильню посадил, — тупо повторил Игнат, пытаясь звучать неприязненно.
— Ну и в ножки поклонись, что посадил, — отмахнулся Иннокентий, как от какой-то мелочи. — Подумаешь, три месяца под землёй посидел, а мог бы уже лет сто как лежать.
Игнат не знал, что сказать на это, и глупо уставился на старца. Некоторое время оба молчали.
— Кровь-то пить нравится? — лукаво спросил Иннокентий.
— Очень нравится, — застенчиво сказал Игнат. — Только её тут мало.
— Это да, места нехлебные… — протянул Иннокентий. Снова замолчали.
— Гляди лучше, что я тебе покажу, — сказал Иннокентий, показывая на свой мешочек.
Старец развязал тесёмочку, и в дрожащем красноватом свете лучинки Игнат увидел, как из мешочка на стылый земляной пол посыпался мелкий хлам, подобный безделицам, которые, играя в сокровища, собирают дети: медная монетка, стёклышко, глиняная свистелка с обломанным краешком, сложенный листок бумаги, деревянный крестик, ещё один побольше, перочинный ножичек, белая курительная трубочка, расшитый мелким бисером браслет.
— Это что? — не понимая, спросил Игнат.
— Это то, — нравоучительно ответил старец, поднимая взгляд на Игната. — Это вот, Игнашка, оно то самое. А вот где твоя штука здесь, я не вижу. Почему не вижу, а?! — с напором спросил он. — Почему нет тут твоей штуки?
— Какой штуки? — не понял Игнат.
— Такой! — гаркнул Иннокентий. — Где лестовка твоя, которую ты Ирине отдал?
— Какой ещё Ирине? — глупо ответил Игнат. Он не помнил никакой Ирины.
— Тьфу, дурак! — в сердцах воскликнул Иннокентий. — Крест тогда сымай, ложь сюда!
— Крест не сниму, — решительно сказал Игнат.
— Сымай, кому говорят! — вскинулся Иннокентий. — Других-то штук с той поры у тебя, верно, не осталось?
— Не дам крест, — твёрдо сказал Игнат.
— Дай! — настаивал Иннокентий.
— Не дам.
— Дай!
— Я тебе ухо откушу, — серьёзно сказал Игнат. — Не лезь, старец. Без уха останешься.
Иннокентий замолчал, испытующе глядя на Игната. Тот без выражения глядел на Иннокентия.
— Ладно, — согласился старец. — Возьми-ка штуку отсюда.
— Какую?
— Какую хочешь. Возьми, возьми…
Игнат присел на корточки над рассыпанными штуками, нерешительно посмотрел на свистульку, на монетку с непонятной надписью, кажется, очень старую, потянулся уже было к стёклышку, но передумал и взял в руки сложенный квадратик бумаги. Развернул его: на листке был выведен синими чернилами фигурный вензель «А», корона над ним и аккуратно нарисованная голубка. Не понимая, к чему всё это, Игнат вгляделся в картинку, и вдруг в странной глубине, будто глядя через слой воды на сияющую прорезь, как из тёмного подвала на яркое солнце, увидел крестьянский двор с тающими сугробами в тенистых углах, голыми яблонями под синим небом, колодец и старика в драной поддёвке, с длинной белой бородой, налегающего на журавль колодца. Игнат отпрянул от листка, и видение пропало, но странным образом он почувствовал, откуда этот образ пришёл к нему — слабой тянущей болью потянуло, как зуб за нитку, и ясно было, откуда эта нитка тянется — из какого-то очень далёкого места.
— Фёдор Кузьмич, — довольно кивнул старец, забирая из рук Игната листок. — С ним тоже ничего не вышло. Как мы его уморили, в мужики подался. Сидит сейчас в Сибири, я как раз через него сюда шёл.
— Погоди, Иннокентий, — сказал Игнат, которому как-то сразу стало понятно, откуда все эти штуки. — Это всё от таких, как я?
— Как мы с тобой, да, — кивнул Иннокентий. — У кого при уморе что при себе было, то я собираю.
— И каждого через такие штуки видишь?
— И где он сейчас, тоже вижу.
— А сейчас что? Ходишь, собираешь их?
— Хожу, собираю, — подтвердил Иннокентий.
— А зачем?
— Пир приготовляю.
Игнат не понял, но решил ничего не говорить, выжидательно глядя на старца.
— Она ведь тебя тогда, в Казани, искала! — воскликнул Иннокентий. — У нас ведь всё готово было, только тебя вовремя не отыскали!
— К чему готово?
— К чему, к чему?! К тому! Неужто не догадался? Пугача уморить, таким, как ты, сделать!
— Пугача уморить? — не поверил Игнат. — Таким, как я?
— Таким, таким! Каким ещё-то? Только посмышлёней тебя уж был бы он! Да вот не судьба, видать! — Иннокентий горько развёл руками.
— А зачем? — не понял Игнат.
— Ну ты и дурень, — покачал головой Иннокентий. — Скажи, Игнашка, тебе при войске пугачёвском нравилось?
Игнат вспомнил те дни, когда он с пугачёвцами шёл по Уралу, по Каме, упиваясь кровью, которая была везде. Это были единственные дни, сколько он себя помнил, когда крови не нужно было искать: убивали всех без разбору, только успевай припадать к ранам. Как непохоже это было на теперешнюю жизнь, когда приходится по капле высасывать мёрзлую кровь из костенелых трупов на поленнице, — горько подумал Игнат. Видимо, его сожаление отразилось на лице, потому что Иннокентий, не дожидаясь ответа, продолжил:
— Видишь! Он, будучи овцой обычной, сколько дел наворотил! А сколько мог бы, если бы издохлецом стал? Подумай, а? Как бы мы до сих пор тут в крови купались, об этом ты подумал? Ведь и дел-то было — заманить в морильню, всё как надо сделать: и вот не смогли!
— А почему не смогли? — робко спросил Игнат.
— Тебя, дурака, не нашли! — горько воскликнул Иннокентий. — Мы искали с Ириной, искали тебя: она с лестовкой-то тебя чуяла, но вы ж от одного к другому месту всё ходили, до тебя было не добраться. В Казани… почти-почти добрались, чуть-чуть бы, и она тебя настигла, наш замысел тебе бы передала, ты бы до Пугача добрался — и не получилось! Растерзали там её сами же пугачёвцы, закололи и в озеро кинули.
— Что, насмерть? — глупо спросил Игнат.
— Ты совсем дурак? — прищурился Иннокентий. — Какой насмерть? Ирина-то тоже из наших! Погоди-ка. Ты, кто такая Ирина, помнишь хоть?
— Не, — помотал головой Игнат.
— Позабыл… — покачал головой Иннокентий. — Случается с нашим братом такое… Ничего с Ириной не случилось, сидит сейчас в Константинополе. Но чего уж там: момент упустили, Пугачу голову снесли, ничего у нас в тот раз не вышло. Ну ничего, в следующий раз уж всё, как надо, сделаем. Вот я и хожу, собираю, что у каждого при себе есть, чтобы знать, кто из наших где сидит, чтобы у меня все штуки вот здесь, вот здесь, — показал он на мешочек, — были, при себе. Дай крест, Игнашка.
— Крест не дам, — решительно сказал Игнат.
— Ладно… — помолчав, протянул Иннокентий. — Крест не хочешь дать, так вот хоть это возьми, — и он показал на глиняную свистульку.
— А это чьё? — спросил Игнат. — Зачем оно мне?
— А ты возьми. Посмотри, чьё.
Свистулька была простенькая, безыскусная, из белёной глины, в виде какой-то птички с красным кончиком, изображавшим клюв. Игнат с интересом взял её, рассчитывая, что ему снова откроется видение каких-то очень далёких мест, и неожиданно увидел знакомую картину — офицерский домик на посту, заваленный картами и бумагами стол, жарко натопленная печка, Невельской в накинутом на плечи кителе, что-то пишущий при свете масляной лампы, а рядом — лежанка, склонившийся над кем-то доктор с окровавленным лоскутом в руках. Рядом стояла жена Невельского с жестяным тазом: доктор кинул лоскут в этот таз. Он потянулся за чистым бинтом, посторонился, и Игнат увидел на лежанке девушку-гилячку, ту самую, которую тунгус привёз вместе с Иннокентием. Смуглое круглое лицо гилячки было по лбу и щекам рассечено уродливыми рваными ранами, сочащимися сукровицей. «Потерпи, потерпи чуть-чуть, Умгу» — ласково сказала Невельская, присев рядом с гилячкой и взяв её руку в свою. Доктор принялся накладывать новый бинт. Игнат отложил свистульку.
— Это ты её?… — спросил он Иннокентия.
— Умгу-то? — насмешливо сказал старец. — Уморил, хочешь сказать? Э, нет, это не я, это чёрт его знает, кто сделал. Уж и сама она не помнит, сколько я её ни пытал. А тунгусы подумали, конечно, на меня, как нас увидели, — досадливо сказал Иннокентий. — И вот я теперь здесь в яме сижу, а её там чаями, небось, поят.
— Не, не чаями. Её лечат там, — сказал Игнат.
— Зря, — фыркнул Иннокентий. — Убьёт она там всех. Я её знаю: Умгу не удержится, начнёт глотки грызть. Человек пять, ну шесть забьёт, остальные её осилят, в яму под замок посадят или закопают и камнем привалят, а меня с ней, и опять чёрт-те сколько лет в земле гнить. А у нас дела! Мы на юг с ней пробирались, в Китай, а тут вон как вышло. Выпустил бы ты меня, Игнашка, а? — попросил старец.
— Выпущу… — как о чём-то само собой разумеющемся, сказал Игнат и показал на свистульку: — А ты эту штуку мне, что ли, отдаёшь?
— Ну так ты же крест отдавать не хочешь, — пожал плечами Иннокентий. — Возьми хоть её. Мы с Умгу вместе ходим: захочешь её найти, найдёшь и меня.
— А зачем мне тебя искать?
— Тоже штуки собирай. Соберёшь достаточно, мне принесёшь.
— А зачем?
— Да что ж ты непонятливый какой, а! — всплеснул руками Иннокентий. — Пир, говорю, готовим! Пир!
— Пир? — переспросил Игнат.
— Пир, Игнашка, пир! Ох и устроим мы пир! Не завтра, не через год ещё: мы теперь всё по уму делаем, не как с Пугачом. Долго готовиться ещё, но уж как приготовим, столы накроем — ох и будет, Игнашка, у нас застолье! К земле можно будет припадать и пить с земли, а кровь ручьями течь будет, а нас ещё просить будут кровушки отведать, а мы ещё выбирать станем, у кого послаще! И тебя не обделим — всем хватит, людей-то вон сколько! Хочешь такой пир, Игнашка? Хочешь? Пир — всем пирам пир у нас будет! Пир на весь мир!
-
В этом посте есть всё, что я люблю — постфактум-рационализация происходящего с персонажем, приведение случайности к каузальности, указание на наличие какого-то замысла в истории. Это явно нетипично для тебя, своеобразный эксперимент, а уж удастся ли он — вскрытие покажет)))
-
Игнат с одной стороны феерически тупой, а с другой - оттого и правдоподобный. Этакая кровососущая корова, упырь без заморочек
-
О, неужели будет глобальный сюжет в похождениях Игната?
-
Это офигенно. И стиль написания и правдоподобность истории.
И замысел.
И хоть до пира еще 64 года, замысел виден грандиозный!
-
неожиданное развитие сюжета!
-
"Россия, кровью умытая". Уже вижу Игната красным комиссаром!
-
Ставить таким штукам плюсики — по ощущениям немного подобно лапанию музейных экспонатов жирными руками. Но раз человек в рейтинге участвует, стало быть, таким вещам радуется. Так что, пиши еще. До самого конца пиши.
-
-
Что-то я не ставил тебе плюсиков, а надо бы. Лови! Благодарю за офигенную ветку, читаю с удовольствием.
|
Июль 1850 г.
Низовья АмураВ нивхском селении Тыр случалось мало занимательных событий: разве что медвежьи праздники, когда пойманного зверя, обряженного в лучшую одежду, водили по земляным домам-чандрыфам, кормя вяленой горбушей и ягодами, прежде чем забить стрелами под радостные возгласы собравшейся толпы. Такое бывало нечасто, самое большее раз в год. А ещё реже, раз в несколько лет, в Тыр по великой реке Ла из Нингуты приплывали маньчжурские купцы, привозившие с юга в числе прочих товаров гаоляновую водку саки в глиняных бутылочках. Водкой все местные перепивались, а потом, будто всем селением потеряв разум, били и убивали друг друга: после такого маньчжуров проклинали — но всё равно ждали их следующего приезда. Но удивительней маньчжуров были лоча — уродливые большеносые краснорожие демоны с волосами разных цветов, каких не бывает у людей. Нивхи видели лоча: несколько их, разбойников и людоедов, жили в паре дней пути вверх по Ла, но с ними нивхи предпочитали не связываться. Однако, в этом нивхском селении лоча ещё никогда не появлялись — и тем удивительней было их прибытие. Но самым удивительным было то, что лоча угораздило прибыть в Тыр одновременно с маньчжурскими купцами. Такого в Тыре не видели никогда, и, конечно, посмотреть, как маньчжуры будут говорить с лоча, собрались все жители селения, несколько сот человек. Нивхи толпились на высоком утёсе под старым тёмным, испещрённым непонятными знаками под жёлтым мхом каменным идолом, поставленным здесь в незапамятные времена, глядели, как далеко внизу по речному простору среди покатых лесистых гор, по васильково-синей, пересечённой темными облачными тенями воде на длинных вёслах движется лодка лоча, очень непохожая на каяки нивхов, — большая, ощетинившаяся рядом вёсел, пузатая, с хлопающим на ветру знаменем у руля. Знамя тоже было непохоже на изукрашенные золотистые с бахромой знамёна маньчжуров: простое, белое с синим косым крестом. Ещё издалека нивхи приметили, что лоча имеют при себе ружья. У нивхов не было ружей, но что это такое, они знали: ружья были у разбойников, живших вверх по реке, у соседей-тунгусов, у маньчжурских купцов. «Вероятно, лоча с маньчжурами не смогут договориться и будут убивать друг друга, — говорили между собой нивхи, — вероятно, они не поймут друг друга». Оглядывались на маньчжуров: те ожидали прибытия чужаков у своих палаток, разбитых на речном берегу в травянистой низине под утёсом. Айшинга, главный купец, по-маньчжурски джангин, толстяк с редкими усами на заплывшем жиром обвислом лице, в остроконечной шапке и толстом расшитом халате, важно уселся на старой сухой коряге, окружённый своими людьми, поглядывая на приближающуюся лодку. Он чувствовал себя уверенно: в лодке лоча было с десяток человек, в его караване — человек пятнадцать. Нивхи не знали, чьей победы им желать: маньчжуров они не любили, а лоча боялись. «Может быть, они поубивают друг друга? — с надеждой спросил кто-то. — Тогда всё добро и тех, и других достанется нам». Когда лодка подплыла поближе, нивхи, однако, увидели среди уродливых лиц лоча два человеческих и догадались, что лоча, вероятно, захватили с собой толмачей. «Может быть, они всё-таки и договорятся» — решили нивхи. Всё это было очень любопытно. И действительно: сходу друг в друга палить не стали ни те, ни другие: человек из лодки лоча крикнул на нивхском языке — не совсем правильном, на испорченном, на котором говорят нивхские роды с морского побережья, — что предводитель лоча желает говорить с предводителем маньчжуров. Толмач маньчжуров откликнулся, что джангин Айшинга позволяет пришельцам сойти на берег. Из ткнувшейся носом в песчаный плёс лодки сошли трое — два толмача и лоча. Этот был постарше других: невысокий и плотный, с лысиной на розовой блестящей макушке, с волосами по бокам лысины и моржовыми усами странного цвета, как листья в осеннем лесу. Одет он был отлично от прочих лоча, в тёмную куртку с блестящими пуговицами, шитьём и непонятными знаками на плечах, и нивхи сразу поняли, что этот у них главный. Прохрустев высокими кожаными сапогами по мокрому песку, лоча подошёл к недвижно сидящему на бревне джангину Айшинге, остановился в нескольких шагах и повелительно, сурово обратился к нему на своём каркающем наречии, непохожем ни на один из слышанных нивхами языков. Один из толмачей, стоящих за спиной лоча, перевёл сказанное на тунгусский (это наречие нивхи узнали), а второй, тот самый незнакомый нивх с морского берега, сказал уже на понятном языке: — Наш предводитель спрашивает: по какому праву ты здесь находишься? Толмач купцов зашептал по-маньчжурски, низко склоняясь к уху джангина. Айшинга сидел, уперев руки в раздвинутые колени, не сводя со стоявшего перед ним лоча невыразительного, спокойного взгляда. Некоторое время Айшинга молчал, а потом, не меняясь в лице, произнёс несколько фраз, важно и плавно указав рукой на идола, под которым на утёсе толпились нивхи. Толмач джангина дерзко обратился к морскому нивху, пришедшему с лоча: — Джангин Айшинга говорит, что эта земля испокон веков принадлежала маньчжурам, которые в подтверждение поставили здесь этот камень, — толмач вслед за своим господином указал на идола. — Это означает, что лишь маньчжуры имеют право являться в эти места. Поэтому джангин Айшинга спрашивает в свою очередь, по какому праву твой господин явился на маньчжурскую землю? Предводитель лоча коротко обернулся на идола, ещё не дожидаясь, пока закончат говорить его толмачи, а выслушивал перевод, уже не оглядываясь на утёс, а напряжённо вглядываясь в толстое, брудастое, как у старого пса, лицо джангина. — Наш предводитель говорит, что скала не может считаться подтверждением, — принялся переводить слова лоча морской нивх, — а на самом деле эта земля принадлежит большому белому князю лоча. Джангин Айшинга усмехнулся и что-то сказал. — Твой господин хочет сказать, что эта земля его? — в тон джангину с издёвкой спросил маньчжурский толмач. На этот раз морской нивх не стал переводить, а ответил сам: — Наш предводитель не называл себя большим белым князем. Большой белый князь живёт… — толмач замялся, — далеко отсюда. — Слишком далеко, — коверкая слова, сказал Айшинга по-нивхски. Он худо-бедно знал местное наречие и понял ответ без перевода. Джангин презрительно скривился и, картинно отвернувшись, махнул на лоча рукой, будто стряхивая с толстых пальцев воду. Затем он заговорил по-маньчжурски. — Джангин Айшинга говорит, чтобы твой господин немедленно убирался вон, иначе… — маньчжурский толмач не договорил, потому что лоча, не дожидаясь перевода, выхватил из кармана куртки пистолет и направил его на джангина. Нивхи на утёсе охнули. Маньчжуры, стоявшие вокруг джангина, вскинули свои ружья, лоча в лодке — свои. Трое толмачей растерянно стояли в середине: морской нивх начал было переводить слова джангина на тунгусский, но осёкся на полуслове, оглянувшись по сторонам: всем и так было всё предельно ясно. Тунгус начал медленно отступать в сторонку, оглядываясь то на маньчжуров, то на лоча, которые полезли из лодки, не сводя взгляда с прицела своих ружей. Джангин Айшинга, не отрываясь, глядел в чёрные дула двуствольного пистолета, направленные ему в лицо, переводил взгляд на кирпично-красное усатое, покрытое ржавой щетиной лицо главаря лоча, напряжённо уставившегося на джангина. Айшинге вдруг пришли в голову те истории, которые рассказывали о лоча местные — что лоча все безумцы и людоеды, питающиеся замороженным человеческим мясом; джангин подумал, что, вероятно, мериться тщеславием с такими людьми всё-таки не стоило и что лучше сейчас потерять лицо и уважение местных в этой Небом забытой деревне на удалённейшей окраине империи, чем расстаться с жизнью. — Скажи ему, чтобы он опустил оружие, — нервно обратился Айшинга к толмачу. — Если он хочет говорить, мы будем говорить, пускай, пускай так. Переводи скорее! — быстро добавил он. Увидев, как джангин Айшинга кланяется перед лоча, приглашая пройти того в свой шатёр, нивхи радостно заголосили, засмеялись, показывая на джангина пальцами. Теперь они знали, кто им больше по душе. Май 1852 г.
Низовья Амура— Драпать надо, Федька, который раз говорю! — умоляющим тоном, перегибаясь через грубо сколоченный стол, кричал Дрон. — Сколько мы тут ещё сможем сидеть? Полгода, год? Да и то сможем ли? Близ Тыра уже сунуться не можем, там гиляки нас уже не боятся, а дальше поставят моряки пост в самом Тыре, что нам тогда делать, скажи, а? Куда деваться? — Вот когда поставят, тогда и будем про это гутарить, — мрачно сказал Фёдор. Он был атаман этой маленькой шайки, жившей на принадлежавшем раньше гилякам летнике близ устья одной из безымянных впадающих в Амур речек. Здесь были поднятые на сваях амбары, полуземлянки-чарныфы, держащие тепло даже в холода, — хоть это и был по названию летник, но гиляки зимой уходили с него лишь оттого, что рыбу подо льдом ловить не умели и зимой промышляли охотой в других местах. Вот так-то четыре года назад зимой беглый каторжник Федька да бежавший с ним поляк Шишка (Кшиштоф) нашли этот летник, поселились тут да с тех пор так и жили. Годом позже к ним прибился Игнат, людоед и упырь, потерявший разум от шатания по тайге, ещё через год — нервный, постоянно спорящий и вечно всем недовольный Дрон, низенький лысый мужичок со скособоченным переломанным носом. Были тут раньше и другие, но не задерживались, — кто удрал, кого убили — а эти четверо вот как-то прижились: Федька, Шишка, Игнашка и Дрон. Ходили по реке на лодке, грабили гиляков да тунгусов, увозили захваченных к себе, отпускали за выкуп — жратвой и мехами, конечно, денег у гиляков испокон веку не водилось — кого не выкупали, убивали. Игнат пил кровь убитых, ему это дело нравилось. Другие не возражали, только крутили пальцем у виска. Вообще, жалко было уходить: удобно они тут устроились — грустно думал ражий, широкоплечий Федька, глядя, как наседает на него Дрон, — очень не хотелось покидать это насиженное место. И Дрон был, конечно, прав: морской корабль «Байкал», появившийся в устье Амура тремя годами ранее, не стал уходить, как на это надеялись, не оставил эти места в первобытном покое и безвластии, так надёжно хранившем убежище на летнике: нет, теперь уже не сунуться было на морской берег: там стояло зимовье с матросами. Опасно стало и нападать на проплывающих по реке гиляков — раньше, стрельни раз в воздух, и останавливаются, понимая, что ничего не могут противопоставить пороху, который беглецы покупали у проезжих маньчжурских купцов, — а теперь гиляки бояться перестали: у самих откуда-то завелись ружья; да, впрочем, понятно, откуда. И маньчжуров уже давно не было: в общем, прав, прав был Дрон во всём. — Когда поставят, поздно уж гутарить будет! — взвился Дрон. — Гиляки-то им, небось, уже уши о нас прожужжали, не сегодня-завтра приедут к нам морячки, что тогда делать, а? А? А? — закричал он совсем уже дурным, бабьим голосом. Шишка поднял взгляд на атамана, выражая им «мне выкинуть его, Фёдор»? Фёдор заметил взгляд и сделал движение рукой: сиди, мол. Шишка молча развалился на скамье, откинувшись на некрепко сколоченную, дырявую дощатую стену, за которой под сильным майским вечерним дождём шелестела густая листва и насыщенно, остро тянуло водой, травой, перехватывающей дыхание свежестью. А Дрон продолжал наседать на вожака: — Помнишь, небось, в прежние-то как годы было, а? По пяти, по десяти человек захватывали, что нам только за них гиляки не давали — и мяса, и юколы, и девок, и одёжи — неужто плохо было? А сейчас как? Только что за две недели и захватили эту чувырлу одну! Говорил он о захваченной на реке гилячке, за которой никто не приходил с выкупом уже вторую неделю, и бандиты уже сами не знали, что делать. Гилячка была немолодая, кривоватая, оплывшая, с обвислыми грудями, немытая (впрочем, гиляки вообще все были немытые), и в те благословенные времена, о которых вспоминал Дрон, на неё бы даже не взглянули — а сейчас ничего, воспользовались втроём, не побрезговали. Только Игнату, как обычно, требовалась от пленных лишь кровь. Другие разбойники только вздыхали — совсем, мол, тронулся — но не возражали, лишь бы не забивал ценных пленных до смерти, а ведь случалось и такое. И вот сейчас Шишке вдруг пришло на ум, что Дрон, который вообще-то должен был стоять на часах у ямы, где сидит пленница, здесь, а Игнашка непонятно где шляется. — Дрон! Дрон! — поляк перебил частившего, заглядывавшего в лицо вожаку мужичка. — Дрон! Где гилячка? Ты оставил гилячку: Игнашка её не загрыз? — Чего? — не понял Дрон, бывший мыслями далеко. — Игнашка! Он не загрыз гилячку? — А я откуда знаю? — выпучил глаза Дрон. — Ты должен был сторожить, пся крев! — раздражённо сказал Шишка, тяжело поднялся с места и направился к занавешенному холстиной проёму, за которой сильно, дробно стуча по дереву, лил дождь. — Пошли поглядим, вдруг загрыз, — обернувшись, бросил он Дрону. — Загрыз! — объявил Шишка Фёдору, вернувшись. Он стоял на пороге весь мокрый, в намокшей тёмными пятнами гилякской рубахой, с прилипшими ко лбу русыми волосами, и держал за шкирку жалобно поскуливавшего Дрона. Фёдор слышал, что Шишка его там во дворе бил, ругался на него по-польски, угрожал посадить в яму вместо загрызенной Игнатом гилячки. — Ну не уследил, Федя! Ну не доглядел! — принялся оправдываться Дрон, закрываясь руками от Шишки. — Да было б за кем доглядывать-то! Всё одно за неё ни связки юколы не дали б нам! Ты, Феденька, скажи Шишке-то, чтоб в яму меня не сажал! Чего меня-то в яму сажать? Игнашку надо в яму посадить, чтоб уму набрался! Как мы его в прошлый раз посадили, он месяц потом без позволения людей не грыз! *** — Ну выпусти ты меня, ирод! Ну сытый я уже, чего мне тут без дела сидеть? — кричал Игнат, шумно расхаживая по дну ямы, до колена полному слякотной грязью. Рядом в бурой жиже догнивал разбухший, ни на что уже не похожий труп гилячки, из земляных стен ямы торчали белесые корни, серое небо над головой моросило мелким дождиком. — Не велено, говорят! — откликнулся Дрон сверху. — Сиди, набирайся ума-разума, Федька сказал. — Чего мне набираться-то? — буркнул Игнат, подняв грязную волну, прошлёпал к стене, с плеском уселся в ледяную воду, бессмысленно посмотрел на плавающий рядом труп. — Ну Дрончик! Ну выпусти! Уходить давно отсюда надо, а вы, дураки, меня в яму посадили! Я, что ль, виноват, что крови не пил столько времени? Ну выпусти, а, Дрон? — Не выпущу, Игнашка, — без злобы, тяжело сказал Дрон, появляясь своим скособоченным, кривоносым лицом над скосом ямы. — Уходить-то надо, тут ты прав… А поди этим двум объясни! Хоть бы нам вдвоём, что ли, с тобой уйти да хоть в Даурию, а эти тут пущай пропадают! — Вот и я говорю! — согласился Игнат и хотел было ещё что-то добавить, как вдруг где-то совсем близко оглушительно хлопнул винтовочный выстрел, а за ним ещё один и ещё. Надрывно закричал раненый Фёдор, Дрон заполошно оглянулся по сторонам и припустил прочь. За ним уже гнались: мимо скоса ямы пробежали какие-то люди в матросской форме, послышались выстрелы, крики. *** — Ну и за что они тебя туда посадили? — с любопытством спросил офицер — лысеватый, плотный, рыжеусый капитан первого ранга, когда матросы вытащили Игната из ямы. — Против воли держали, ваше благородие, — униженно произнёс Игнат, мокрый, жалкий, весь в липкой грязи. — Уж ясно, что ты не по своей воле туда забрался, — усмехнулся капитан. — Сбежать, что ли, хотел? Что-то знакомое показалось Игнату во всей этой сцене — летник, занятый матросами с ружьями, их деловитый осмотр бандитского хозяйства, сложенные в сторонке, закрытые пологом из рыбьей кожи тела Федьки, Шишки, Дрона. Игнат, стоящий в середине залитого грязью двора перед допрашивающим его офицером, толпящаяся вокруг солдатская толпа — всё это отчётливо напоминало что-то очень старое, почти позабытое, давно в прошлом оставшееся. — Как не хотеть? — буркнул Игнат, исподтишка разглядывая фигуру отвернувшегося офицера, его розоватую лысину на круглом, как биллиардный шар, черепе, толстую складчатую шею под высоким воротником кителя. — Ваше благородие! Только то и думал, чтобы сбежать от них, всё случая искал. — Хватит врать-то, — отмахнулся офицер и показал одному из своих матросов поднять покрывало, закрывшее лица убитых. — Хорош лось, — задумчиво прокомментировал он, показывая на изувеченное пробившей щеку рваной раной лицо Шишки. — Каторжник? — спросил он у Игната, показывая на убитого. — Точно так, ваше благородие, — быстро откликнулся Игнат. — Как есть каторжник. Шишкой звали. Поляк был. — Поляк? — удивился офицер. — Далеко же его занесло. А ты-то сам как в этой компании очутился? Тоже с каторги? — Никак нет! — отозвался Игнат, уже готовый рассказать придуманную историю про караван из Иркутска в Охотск, на который напали тунгусы. — Как нет-то? — с усмешкой возразил офицер, сделав знак матросу опустить покрывало обратно. — Чего врёшь? С каторги или из ссылки, как есть. Ну-ка побожись, что не с каторги! Игнат быстро осенил себя крестом, как привык, двоеперстно. — Ну что я говорю? — офицер с удовольствием обвёл подчинённых взглядом. — Раскольник, наверняка сосланный, сбежал, прибился к этой шайке. Всё понятно, в общем. Орлов! — позвал он кого-то от шлюпок, стоявших на реке. — Возьми двоих да расстреляй этого мальца вшивого прямо здесь. Не тащить же его с собой в Петровское, зачем он там нужен. — Тимофей Тимофеич! А на Ветлуге-то вы меня иначе жаловали! — вдруг выпалил Игнат неожиданно для себя самого, и, уже сказав это, понял, что ему напоминает эта розовая лысина, эта красно-кирпичная плотная шея. — Что? — с удивлением обернулся офицер. — Какая Ветлуга, какой я тебе Тимофей Тимофеич? Тут только до Игната дошло, что всплывшее сейчас из тёмного колодца памяти, погребённое под множеством других воспоминаний, было давным-давно, сразу после морильни, и не мог уже Игнат вспомнить названия деревни, в которой это всё происходило, имён бывших там с ним людей, а вот вытащившего его из морильни воеводу, — вдруг с неожиданной отчётливостью вспомнил. Вероятно, этот офицер его потомок, — сообразил Игнат, — иного быть не могло, и в первый раз за многие года Игнат почувствовал не какое-то из обычных для него чувств — жажды крови, радости от насыщения, раздражения от того, что напиться крови не удалось — а необычное чувство интереса к миру: как так, встретить дальнего потомка того, кого знал когда-то очень давно? Всё происходившее с Игнатом постоянно повторялось раз за разом, как бесконечно и утомительно меняются времена года; этого же ещё никогда не бывало, и Игнат остро почувствовал необходимость остаться при этом офицере, не дать себя расстрелять, чтобы снова потом бессмысленно бродить по тайге. — Предок ваш, — глупо выпучив глаза, только и смог произнести Игнат. — Предка вашего… в селе нашем помнят. — Что ты за сказки тут мне мелешь? — пренебрежительно бросил офицер. — Какой ещё предок? — Тимофей Тимофеич, воевода московский. При Петре Великом в нашем селе бывал, истинно верующих христиан спасал! До сих пор память о нём идёт! — Тимофей Тимофеич… — задумался офицер. — Не помню таких из Невельских. Хотя, кажется, по материнской прадед… нет, тот Михаил Тимофеич, но его отец, получается… А в каких местах, ты говоришь, это было? — заинтересовавшись, спросил он у Игната. — На Ветлуге это было, — быстро ответил Игнат. — Ваш пращур там голову-то и сложил. Раскольники его убили, верно говорю! У нас до сих пор по деревням о нём такие сказки говорят, как он расколоучителя Иннокентия поймал, да как тот пасынка своего Филимошку подговорил, а того Тимофей Тимофеич истопником сделал, а тот его… — Ладно-ладно, — сказал офицер и обратился к помощнику, уже подошедшему с парой матросов. — Я передумал. Этого вяжите, в Петровское повезём. Твоё счастье, Шахразада, — с размаху хлопнул он Игната по плечу, — у нас на посту скучно обычно, ну так хоть послушаю, что там в ваших краях про моего пращура рассказывают. Тоже ведь, однако, любопытно, — пожал он плечами, обращаясь к своему помощнику Орлову — пожилому сухощавому мичману. — Давайте хотя бы его выпорем, Геннадий Иванович, — предложил Орлов. — А то дурной пример команде. — Это уж как водится, Дмитрий Иванович, — откликнулся капитан. — До смерти не секите только: мне и правда стало любопытно, что он может рассказать.
-
Демоны лоча с разноцветными волосами! Оч интересно
-
И ведь до самого Тихого океана дошел, сердешный! Куда теперь? В обратный путь?))
-
Очень круто, как обычно. И респект за ресерч!
|
03.09.1836 г.
Якутская область,
долина реки Юдома
— Опять напился! Опять все деньги спустил на вино! — распекала мужа Седюга: пожилая, костлявая, с седыми спутанными волосами, в грязном распашном кафтане из оленьей замши, она выглядела жутко, как ведьма.
Нерканей, русским известный как Негор Коргаевич, ничего не отвечал, сидя у порога чума на меховом коврике-кумаланчике, виновато опустив глаза на облезлую шапку, которую бессмысленно перебирал в руках. Низкое серое небо висело над головой, рядом со стойбищем шумела, пенно перекатываясь по белым каменистым россыпям, быстрая Юдома. Нерканей знал, что, будь он сейчас хоть десять тысяч раз прав, спорить с женой бессмысленно, — но он и не был прав: увозя оленину на продажу русским, он клятвенно зарекался не пить водки, но удержаться не смог и к семье вернулся без денег, с тяжёлым похмельем. Голова трещала, душа была вставлена в тело наперекосяк, руки тряслись, сердце по-птичьи заходилось в груди, и больше всего на свете хотелось махнуть ещё стакан.
— Отец, а где твоё ружьё? — от костра спросил Бокшонго, семнадцатилетний сын Нерканея, чистивший рыбу отнятым у беглых каторжников ножом. Нерканей жалко посмотрел на сына.
— Ты ещё и ружьё пропил! — с отчаяньем воскликнула Седюга, и, задыхаясь от гнева, порывисто вскинула руки, будто взывая к небесному старцу Агды, хозяину грома и молнии, чтобы тот испепелил на месте пьяницу-мужа. Нерканей решил не говорить, что он ещё остался должен казаку Леонтию полтину серебром. Потрясая в воздухе руками, Седюга порывисто повернулась, пошла прочь, но пройдя несколько шагов, остановилась, обернувшись к сыну: — Бокшонго! Хоть ты сделай что-нибудь, хотя бы ты будь мужчиной в нашем доме!
— Что мне сделать? — хмуро спросил сын ломким голосом, не отрываясь от чистки рыбы.
— Я не знаю, не знаю! — крикнула Седюга. — Убей его!
Нерканей тяжело вздохнул, не поднимая взгляда. Ему было очень плохо: Нерканей уже был готов присоединиться к жене в её просьбе.
— Отец! Мама! — послышался звонкий молодой голос с опушки: оттуда скорым шагом, но не сбиваясь на бег, шла двадцатилетняя дочь Нерканея, Мегельчик. — Бусиэ опять идёт!
— Только этого нам ещё не хватало! — всплеснула руками Седюга. — Несчастье за несчастьем, что за день!
— Далеко? — разлепил губы Нерканей.
— Я видела его за перекатом. Он заметил наш дым и идёт сюда, — сказала Мегельчик. Девушка подошла к костру и положила у порога чума берестяной туесок с грибами: она завидела бусиэ, собирая грибы в лесу.
— От переката ещё час идти будет, — тяжело, похмельно соображая, сказал Нерканей.
— Он уже ближе, — сказал Бокшонго. — Он ведь, пока к нам шла сестра, тоже не останавливался. Отец, бери собак, выводи оленей, отведём стадо подальше.
— Чум складывать? — тупо спросил отец.
— Не успеем, — подумав, ответил Бокшонго. — Выводи оленей, чум оставим тут. Потом вернёмся: бусиэ до ночи уйдёт.
— Он опять нам раскидает все вещи! — истерично крикнула Седюга.
— Ну что ж теперь делать, — грустно сказал Нерканей, боясь встретиться с женой взглядом.
***
Декабрь 1836 г.
Якутская область,
казачий пост Юдомский крест
— Леонтий! Леонтий, вставай! — тряс за плечо спящего товарища Прохор, молодой казак, несший вместе с Леонтием дозорную службу на затерянном в Охотских горах посту. Прохор был в занесённой снегом меховой шубе, в унтах, с ружьём за спиной и Леонтия принялся будить, сразу зайдя в дом, не раздеваясь. — Буська идёт.
— Чего? — сонно протирая глаза, прохрипел рыжий, коренастый казак, с неохотой вылезая из-под тёплого мехового одеяла. В маленькой избе казачьего поста было темно и до дрожи холодно — печь успела погаснуть, и дом быстро простыл. За бревенчатыми стенами избы мело — со свистом, с надрывом, с дробным стуком толстых ставней на маленьких окошках — теперь ставни не открывали даже днём. Впрочем, и дни сейчас были короткие — солнце едва-едва поднималось к полудню над склонами гор, чтобы зайти через пару часов.
— Чево, тово! — недовольно откликнулся Прохор. — Буська идёт, говорю. С холма уж спустился.
— Ты собак впустил? — зевнув, спросил Леонтий, и как раз из сеней вбежала, оставляя мокрые следы на дощатом полу, серебристо-серая лайка, сразу же радостно кинувшись к Леонтию, виляя хвостом. — Ага, вижу.
Тунгуска Мегелька, лежавшая рядом с Леонтием, тоже проснулась, сонно зашевелилась под одеялом.
— Чего не топишь? Куда огниво девал? — недовольно спросил Прохор и, заметив в темноте девушку, заулыбался. — А, Мегелька, ты тут! Ну, всё понятно. Здравствуй, красавица!
— Ты, Прошка, на чужой-то каравай рот не развевай, — строго сказал Леонтий, натягивая штаны, дрожа от холода. Прохор промолчал.
— Бусиэ идёт? — спросила Мегелька из-под одеяла.
— Он самый, чёрт его дери, — ответил Прохор, нашёл огниво и принялся высекать искру над трутом.
— Надо лыжи со двора нести. Мои лыжи на дворе, — сказала Мегелька.
— Лежи, дура, — грубо сказал ей Леонтий, возясь с рубашкой. — Он уж недалече, задерёт.
— Надо нести! — настойчиво вскрикнула Мегелька и без стеснения соскочила с кровати — нагая, маленькая, смуглая, по-азиатски тонкокостная и плосколицая, с распущенными чёрными волосами. — Бусиэ лыжи сломает, как я домой пойду? Бусиэ злой, давно не ел, будет всё-всё ломать. Надо лыжи в дом нести!
При виде нагой Мегельки Прохор, уже успевший зажечь от трута сальную свечку, смущённо отвернулся. Он побаивался Леонтия.
— Ну куда ты? — Леонтий попытался было задержать Мегельку, но та уже быстро прошлёпала босиком по полу мимо вертящихся и повизгивающих собак. — Вот дура баба!
— Раз-раз, быстро! — оглянувшись на Леонтия от порога, весело сказала Мегелька и, не одеваясь, выскочила нагая на улицу, на метель и мороз.
— Ты тоже с ней «раз-раз быстро»? — с ухмылкой спросил Прохор у Леонтия, когда тунгуска хлопнула дверью.
— Раз-раз быстро — это ты со своей рукой, — самодовольно ответил Леонтий, продолжая одеваться.
— Ай, холодно! Ай, как холодно! — Мегелька вбежала в дом, бросила лыжи в сенцах и торопливо шмыгнула в тёплую постель, под меховое одеяло. — Совсем близко бусиэ, сейчас уже здесь будет!
И действительно, не успела она договорить, в ставни, мелко дрожащие под напором метели, кто-то ударил, заскрежетал ногтями по доске, потом захрустел по снегу, тонко и жалобно взвизгнул. Собаки одна за другой наперебой залаяли, а бусиэ, пару раз ударив в ставни, принялся обходить дом.
— Мегелька, ты засов опустила? — вдруг спросил Прохор и сам же ответил: — Нет, конечно! — и бросился в сени. Леонтий последовал за ним. Бусиэ уже был почти у входа, и в щели открывшейся от порыва снежного ветра двери казаки увидели в вихре метели бледную фигуру русоволосого юноши в обносках, который, с усилием переступая по глубокому сугробу, уже почти дошёл до крыльца.
— Засов, ну! — рыкнул Леонтий, захлопнул дверь, привалился к ней плечом, и только он успел это сделать, как бусиэ, завидев человека, бросился к крыльцу, навалился на дверь, принялся в неё колотить, — но Прохор уже навесил на чугунные скобы засов.
— Чего засов не опустила? — недовольно обратился к Мегельке Леонтий, вернувшись из сеней.
— Ай, холодно довольно было! — смеясь, ответила Мегелька из-под одеяла.
Бусиэ отчаянно колотил, бился в дверь, визжал, рычал, вопил «Филимон! Филимон!»
— Чего он всегда орёт «Филимон»? — спросил Прохор, усевшись за стол.
— Зовут его так, должно. Других слов не знает, — безразлично ответил Леонтий и, присев, открыл чугунную заслонку печи. Помолчали. Бусиэ надоело ломиться в дверь, он снова принялся ходить вокруг дома, пинать стены, стучать в ставни.
— У нас в станице был один Филимон, — невесть к чему сказал Прохор. — Тот, правда, старик уже был. Что-то всё равно всегда мне не по себе от этих воплей, — Прохор поёжился.
— А я ничего, привык, — пожал плечами Леонтий.
— А мы сначала не понимали, что такое филимон, — рассмеялась Мегелька. — Не знали такое имя, думали, как это, когда шаман поёт? Как называется?
— Не знаю я, как это называется, когда у вас шаман поёт, — хмуро сказал Леонтий.
— Заклинание, во! — вспомнила Мегелька. — Мы думали, филимон — это его заклинание.
Ещё помолчали. От скуки Прохор взял со стола растрёпанную и засаленную книжку-календарь, по которому дозорные следили за церковными праздниками и датами ожидаемого прибытия обозов, перелистнул, отложил обратно на стол обложкой вниз.
— На крышу сейчас полезет, — прислушиваясь, вздохнул Прохор.
— Не, — возразил Леонтий, раздувая пока слабый огонёк в топке. — Теперь уже не лазит. Ослабел бедняга. Тунгусы от него бегают, мы вот запираемся, некого ему жрать теперь. Даст Бог, до весны издохнет.
— Как он издохнет? Он уже дохлый, — насмешливо сказала Мегелька.
— Много ты знаешь, — не оборачиваясь, бросил Леонтий.
— Больше тебя знаю! — задорно возразила девушка. — Кто тебе про бусиэ сказал? Мой отец!
— Пьяница твой отец. Говорил мне: не спрашивай его имя, как узнаешь, дескать, так умрёшь! А он вон, сам своё имя на все лады повторяет почём зря. Филимон, Филимон! — Леонтий передразнил бусиэ.
Мегелька обиженно замолчала. Леонтий закидывал щепочки в печь, где уже разгоралось, весело затрещало пламя. Прохор с зевком откинулся на скамье, привалившись к стене, поглаживая примостившуюся у его ног собаку, взглянул на Мегельку, уютно устроившуюся под одеялом, подмигнул ей, пока Леонтий не видел. Собакам надоело лаять, и подавали голос теперь они лишь когда бусиэ снова принимался стучать в дверь или ставни.
— Ну и чего, сколько взаперти сидеть будем? — скучно спросил Прохор.
— А ты не нагулялся, что ль? — обернулся к нему Леонтий.
— Мне к тунгусам завтра надо… — тоскливо протянул Прохор, запрокинув голову и глядя в потолок. — Ултан бивень мамонта за три фунта махорки и штоф вина торгует. Надо брать, а то откочует.
— Дёшево, — согласился Леонтий. — Ултан дурак, цены не знает. Если бивень добрый, надо брать. Ну и иди с утра затемно, значит. Заодно и буську от дома уведёшь. На лыжи встал, из дома выскочил и раз-раз, быстро от него. Буська дурак, за тобой пойдёт.
***
Догнать не получалось. Бусиэ пёр через сугроб, широко взмахивая руками, но человек на лыжах быстро удалялся, а потом, будто в насмешку, останавливался на гребне заснеженного холма, поджидал бусиэ, кричал ему, махал руками, требовал идти быстрее — и бусиэ шёл быстрее, разрывал глубокий, до пояса снег, вопил, визжал, и, только он подходил на расстояние, с которого порыв ветра доносил упоительный запах человека, сразу застилавший сознание кровавой пеленой, не давая думать ни о чём, кроме того, чтобы наброситься на него, вгрызться в глотку, напиться горячей, дымящейся крови, только он мог рассмотреть красное, бородатое, налитое кровью лицо, — человек соскальзывал на лыжах по белоснежному ровному склону к чернеющему лиственному лесу, безнадёжно удаляясь. Тогда бусиэ от отчаянья падал в снег, начинал месить его руками, заходиться в истерике, — а человек от подножия холма уже кричал, гулко разнося эхо по долине: «Эй, буська! Чего отстал?»
Бусиэ вдруг понял, что смог разобрать эти слова, их значение, и понял, что его не боятся. Десятилетия скотской жизни на цепи, каторга, мыканье по диким горам отучили его от человеческой речи, он отвык понимать, что говорят ему люди, тем более что многие здесь и говорили на незнакомом ему языке, и бусиэ уже не старался вычленить из речи людей, за которыми ходил, смысла — сами по себе люди были бусиэ неинтересны, интересна была лишь кровь, которую можно было из них высосать, и бусиэ уже долгое время ни о чём не думал, кроме крови, бессмысленно шёл к первому увиденному человеку, бездумно набрасывался на него, грыз его тело, заходился затем в припадке горячего, исступлённого наслаждения от переливающегося по телу восхитительного тепла.
Но теперь не получалось: люди от него либо убегали, либо запирались, и хотя бусиэ не уставал ходить между стойбищами тунгусов и единственной известной ему избушкой, в которой жили два русских казака, но чувствовал, что охотиться по-старому уже не получается, хотя и не мог облечь своё отчаянье в ясную мысль и выражал его лишь визгом, воплями, бессмысленным повторением слова «Филимон», и с каждым днём чувствовал, как им снова овладевает тупое оцепенение, нежелание куда-то идти, что-то делать.
С усилием провернув тугую, неподатливую мысль, бусиэ понял, что не догонит этого человека. Человек что-то ещё кричал ему от подножия холма, махал ему рукой, зовя идти за собой, но бусиэ вместо этого поднялся из снега и, повинуясь внезапному наитию, пошёл к лесу. Там он присел под деревце. Над горами в ледяном тумане разгоралась стылая красная заря, пронзительный ветер нёс позёмку. Бусиэ вытащил из-за пазухи старую облупившуюся лестовку, привычно перебрал в пальцах зёрна один раз, другой — и замер.
03.09.1848 г.
Якутская область,
близ казачьего поста Юдомский крест
Алёнка не боялась ходить по лесу: она, конечно, верила в рассказы матери, отца, дяди Бокшанго о страшном чудище бусиэ, но не сильно его опасалась — куда страшней была медведица, живущая со своим выводком близ устья Сылыгыста. Что медведица там живёт и готова броситься на всякого, в ком увидит угрозу своим детям, Алёнка знала — отец ей показывал издали, как медвежье семейство ловит рыбу на каменистом речном перекате, — а вот бусиэ она никогда не видела, да и никто не видел бусиэ уже больше десяти лет, больше, чем Алёнка жила на этом свете.
Поэтому Алёнка не боялась ходить по лесам — к логову медведицы она не приближалась, волков отец из округи прогнал, а люди Алёнке были не страшны: она была казачка по отцу и тунгуска по матери, её дядя Бокшонго владел самым большим стадом оленей в округе до Алдана и обожал племянницу, другие тунгусы, уважающие дядю Бокшонго и отца, относились с добротой и к Алёнке, а чужих людей в округе было немного, только иногда проезжали по Охотскому тракту мимо их дома, но сейчас Алёнка была далеко от тракта. Раньше, рассказывал отец, по горам бродили беглые каторжники, но каторгу в Охотске давно закрыли, и бояться их теперь тоже было нечего.
И Алёнка совсем не испугалась, когда заметила человека, сидящего под деревом, только сильно удивилась, что он тут делает. Алёнка собирала грибы, начав недалеко от дома, но сама не заметила, как забрела довольно далеко, куда не заходила раньше. И вот сейчас, в лиственничном лесу, увидела странного русского юношу, бледного, в изодранных тряпках, недвижно сидящего у корней лиственницы.
— Эй! — крикнула Алёнка издали. — Ты кто?
Человек не отвечал, даже не обратив на Алёнку взгляд. Алёнка заинтересованно приблизилась к человеку. «Какой он бледный, — с жалостью подумала она, — должно быть, ему очень хочется кушать». Она переложила из руки в руку туесок с грибами и подошла к человеку. Алёнка заметила, что в ладони этот человек что-то держит, какую-то чёрную штуку с красными бусинами. Это её заинтересовало.
— Ты кто такой? — с любопытством спросила она, подходя ближе к этому человеку. — Как тебя зовут?
Человек не отвечал, глядя мимо Алёнки без выражения, как бы и не видя её. Алёнка заглянула ему в лицо. «Может быть, он умер?» — подумала Алёнка: мёртвых людей она ещё никогда не видела. Мама рассказывала, что отец убил человека, тоже казака, в их доме, но это было давно, ещё до её рождения.
— Меня вот зовут Алёнка, — сказала она.
Когда она назвала своё имя, в глазах этого человека что-то шевельнулось, он перевёл на девочку стеклянистый взгляд, разлепил губы, издал тихий звук вроде «Ф-ф-ф…», но тут же замолк.
— Как тебя зовут? — ещё раз спросила Алёнка и показала на штуку, которую человек держал в руке: — Что это у тебя такое?
— Т-твоё… — вдруг деревянно, каким-то неживым голосом выговорил человек и чуть приподнял руку, в которой держал кольцо красных бусин с чёрной деревянной плашкой, когда-то лакированной, а сейчас облезлой.
— А что это такое? — с интересом спросила Алёнка, приближаясь.
— Это твоё, — почти чётко выговорил человек.
— Моё? — не поняла Алёнка. — Это мне? А как тебя зовут?
— И-игнат, — сипло выдохнул человек. — Возьми. Твоё.
Алёна Прохоровна смело протянула руку за бусинами.
***
Живость мысли, быстрота сознания стремительно возвращались: внутри всё кипело, бурлило от давно позабытого сладкого ощущения напоенности, горячего счастья, текущего по телу. Игнат оглядывался по сторонам и не знал, где находится, не понимал, что за горы вокруг, что это за быстрая река течёт в долине, что за избушка на речном берегу стоит далеко внизу, — но это было не важно: Игнат теперь знал две главных вещи — как его зовут и что теперь надо делать. И только выйдя на тракт, Игнат вдруг понял, что лестовку, которую так долго носил с собой, он забыл у трупа девочки. Возвращаться за лестовкой не хотелось — почему-то Игнату казалось, что так и надо, чтобы лестовка оставалась с ней.
-
-
С возвращением! Игнато-Филимон как всегда прекрасен. Ну и прямо радует в первой половине половине поста сосуществование людей и essentially медленного зомби. =D
-
Когда вампир как медведь – зверь опасный, конечно, но если голову не терять и засов не забывать закрыть, то и жить можно.
-
В одной руке клоун держал связку шариков всех цветов, словно какой-то огромный спелый фрукт.
В другой руке – кораблик Джорджа.
– Хочешь свой кораблик, Джорджи? – Клоун улыбнулся.
И Джордж улыбнулся. Ничего не смог с собой поделать. На такую улыбку нельзя не ответить.
– Конечно, хочу.
Клоун рассмеялся.
Вот чего я не ожидал так это того, что у тебя после "карнавала безумцев" Пугачева и постоянно меняющихся рассказчиков промежуточной части внезапно пойдёт "Оно" Стивена Кинга. Хотя оно вроде как и напрашивалось, глухая Сибирь, так легко ребёнку потеряться в лесу...
А ещё я вдруг понял что именно особенного, необычного в твоей фантастике. Знаешь, обычно фантаст пытается показать "опалённые крылья" зла или наоборот, его безумие. Как-то так мы мыслим, либо падший ангел, либо что-то непредсказуемое, звериное.
А у тебя (и у Кинга, кстати), пугающим в зле является его простота. Игнат не создаёт идеологию вокруг своей жизни, он не садист, упивающийся чужими страданиями. Просто жрать хочет, ну и сволочь местами. И в этом очарование.
-
-
Читать вас - сплошное удовольствие! Это точно книгу по главе смаковать, и как же здорово, что вы снова пишете! Очень надеюсь, что будут новые посты :)
-
душа была вставлена в тело наперекосяк
На этом месте многие многое вспомнили.
|
Анчар бросился к лежащему на щебне Балакину, и, как оказалось, бросился не один: вслед за ним сразу же рванул Чибисов, — тот уже было побежал вслед за остальными, но, увидев, что Анчар спешит выручать его товарища, последовал за эсером. Вместе они добежали до Зефирова: тот тряс Балакина за подбитое ватой плечо шинели, крича:
— Вставай, вставай! — и выглядело это нелепо, будто анархист большевика в школу будит — а за вагонами, в той стороне, куда убежали виндавцы, раз за разом палили из винтовок, и тонким, не своим от боли и оттого жутким голосом вопил мордоворот Вестик, распластавшийся в снежном мраке между рельс.
Только-только Анчар с Чибисовым подбежали к Зефирову, как Балакин, наконец, поднял заросшее чёрной густой щетиной лицо с ошалевшими глазами. Кажется, большевик до сих пор не верил, что его неосторожное падение не привело к взрыву, а его последующее самопожертвование было впустую.
— Сёма, подъём! — заорал на него Чибисов. — Уходим отсюда к чёртовой бабушке!
— Бомбу! Бомбу заберите! — крикнул Зефиров, пока Чибисов, тоже с револьвером в руке, помогал очумелому Балакину подняться.
Зефиров вскочил на ноги, дико оглянулся по сторонам и выставил револьвер в ту сторону, откуда стреляли из винтовок. Врагов, правда, из-за вагона видно не было, и анархист пока сам не стрелял. Пальба подзатихла: лежавший в ложбинке между рельс Вася перестал отстреливаться и заорал в мельтешащую метелью тьму:
— Не стреляйте! Не стреляйте, я сдаюсь!
Следуя указанию Анчара, Гера решила спрятаться между цистерной и следующей за ней теплушкой, а навстречу ей неожиданно пробежал крепкий человек в бушлате, с винтовкой в руках и замотанным до носа шарфом лицом — матрос Мартын.
— Беги, беги отсюдова! — гневно зыкнул он на Геру и, вскинув винтовку, встал у другого края цистерны, у того, за которым раньше были прицеплены две теплушки.
— Не стреляйте, братки! — продолжал орать Вася в темноту. — Я свой, я солдат, я под Мукденом был! Заамурский желдорбатальон!
— Руки вверх, оружие на землю! — из серой пелены сыплющей над вагонами метели донёсся резкий, по тону сразу понятно — офицерский голос. «А-а-а-а!» — в тон вьюге выл лежащий на рельсах Вестик. Дяди Сажина видно нигде не было.
— Щас, щас! — заторопился Вася, поднимаясь на колени с поднятыми руками — и тут Мартын выстрелил из винтовки раз, другой. В кого попал, попал ли вообще — не видели ни Гера, ни Анчар, но с той стороны тут же грохнули выстрелы: рухнул на рельсы Вася, Мартын, пригнувшись, рванулся было за цистерну, — но с коротким вскриком упал, выронив винтовку, у буферов цистерны. Из продырявленного круглого торца бочки тонкими ручейками полился керосин.
-
Классный пост. Вставай, вставай! — и выглядело это нелепо, будто анархист большевика в школу будитСорри, не могу удержаться).
Если вам исполнилось 18 лет и вы готовы к просмотру контента, который может оказаться для вас неприемлемым, нажмите сюда.
|
Июль 1682 г.,
Поветлужье,— Нет, нет! — громким полушёпотом отбивалась Алёнка, отстраняя от себя Игната, перехватывая за запястья бесстыдно блуждавшие по её холщовой рубашке руки. — Ну чего ты, чего, Алёнушка… — не понимая смысла своих слов, почти не слыша себя сквозь жаркую колотьбу в голове, шептал Игнат ей в волосы, в ухо. — Отстань! Отстань, я говорю! — Алёнка вырвалась, вскочила с пышной горы зелёного, упоительно пахучего сена, оставив Игната лежать в глубоком мягком провале. Раннее, но уже по-июльски знойное солнце било через щели в стенах сарая, бросая на утоптанный, замусоренный травинками земляной пол резкие весёлые тени. Под высоким тёмным потолком из твёрдого известнякового гнезда вылетела ласточка, чёрной стрелкой пронеслась между балками и ловко выпорхнула на солнечный простор двора. — Ну и зачем ты так? — с досадой выдохнул Игнат, закладывая руки за голову, откидываясь в бездонную мягкость сена. — Ты ж всё равно мне обещана, какой же в том позор? — Обещана, а обещанного знаешь, сколько ждут? — уперев руки в бока, сказала Алёнка. — Три года! А тебе не три года ждать, а до мясоеда всего: вот после Воздвиженья повенчают, тогда и… а пока жди! — После Воздвиженья! — с мукой воскликнул Игнат. — А ещё Петров день не прошёл! Алёнушка, давай к попу никонианскому в Пыщуг убежим! Он таких как мы хоть когда свенчает, пост-не пост, лишь бы щепотью покрестились! — Ты что говоришь такое? — возмутилась Алёнка. — Так это ж для вида! — принялся объяснять Игнат. — Для вида перекинуться в никонианство, потом назад! Грех есть, но небольшой, так много кто делает! — А брат твой тоже для вида в Макарьевском живёт? — строго спросила Алёнка. Это был больной вопрос: брат Игната, Семён, был в расколе — точнее, он-то считал, что в расколе была его семья, а сам Семён примкнул к истинному православию — со щепотью, «Иисусом», ходом противосолонь, — всем тем, что в Раменье проклинали как ересь. Мало того, Семён ещё и стал монахом в никонианском Макарьевском монастыре, взяв себе имя Филофей. Это висело тучей, несмываемым пятном над семьёй Игната. Игнат помнил, как Семён отрекался от семьи, в последний раз придя домой, как кричал на него безжалостный, страшный в гневе отец, как колотил его пудовыми кулачищами, а Семён безропотно терпел, только закрываясь. Наконец, отец сорвал с шеи Семёна бронзовый крестик на гайтане, заявив, что вероотступнику такого креста не полагается, и выгнал Семёна в зимнюю сугробистую ночь. Крестик этот теперь носил Игнат. — Что брат мой к Никону подался, за то он ответ на Страшном суде нести будет, моей вины тут нет, — насупился Игнат. — Ладно, ладно… — смягчилась Алёнка, отошла к сухой деревянной стене, где лежала котомка, которую она принесла из её деревни, Никольского, и достала оттуда лестовку, покрытую чёрным лаком, отделанную засушенными рябиновыми ягодами. — На вон, подарок тебе, — вручила она лестовку Игнату. Тот хотел было схватить девушку за руку, притянуть к себе, повалить на сено, но Алёнка с готовностью увернулась: — Чего выдумал?! Вон, молитвы читай лучше. Читай да дни считай: чай, быстрей и пролетят! — Алёнка подхватила котомку и вышла из сарая, бросив через плечо последний лукавый взгляд. — Перевёрнутый мир качался в багровом тумане: бортик телеги сменился очертаниями жутко знакомого двора, который Игнат узнавал и боялся узнавать. Игнат надрывно мычал, силясь выплюнуть туго выпучивший щёки кляп, старался высвободить руки, но без толку: вязать узлы отец умел. — Отче, его сразу туда? — спросил отец, держа извивающегося Игната на плече. — Сразу, сразу туда, сыне мой, — откликнулся невидимый из-за широкой отцовской спины старец Иннокентий. — Не бойся, там мягонько: свежего сена настелили. Игнат увидел перед собой чёрную дыру погреба в земле, деревянную приставную лестницу и с судорожным, животным надсадом завизжал от ужаса. Отец снял Игната с плеча, перевернув (от головы как волной отхлынуло) и, с усилием подняв под мышки, спустил в страшный тёмный провал. Игнат больно упал на мягкое, с отчаяньем огляделся по сторонам: ничего не видать, только светлый квадрат люка над головой. — И ты, Марфушка, полезай, полезай, — мягко сказал отец Иннокентий матери. — Куда мы лезем, мама? — спросила маленькая Параша на материных руках. — На небо лезем, донюшка, на небо… — колыбельным голосом откликнулась мать, спускаясь по лестнице. — А почему небо в погребе? — наивно спросила Параша, и мама порывисто, судорожно вздохнула, прижимая дочь к груди. — И ты, Фёдор, давай слезай, — сказал Иннокентий отцу. — Чуток времени дай, отче, — попросил отец. — На небушко погляжу в последний раз. — Чего глядеть-то, Фёдор! — настоятельно подстегнул его старец. — Наглядишься ещё: чай, туда и идёте все! — А может… — неуверенно попросил отец, — может, огнём всё же лучше, а, отче? — Огнём! — как маленькому ребёнку, принялся разъяснять старец Иннокентий. — Огнём оно конечно, куда как проще, Фёдор! Раз, и на небо с дымом! Да только на вашем роду-то грех тяжкий, вам отстрадать за него надо! Ничё, ничё, не боись, полезай, вон туда, полезай, сыне, — в просвете люка появилась фигура отца. — Ты не бойся ничего, главное, а страшно станет — псалмы читай! Я вам и свечечку оставлю! Размашисто перекрестившись, отец тяжело начал спускаться в подвал. — Игнат сидел в морильне. Это страшное слово Игнат долго боялся произнести, сказать себе: я в морильне, меня сунули в морильню, откуда нет выхода живому, откуда только через неделю крючьями вытаскивают из смрадного, застойного мрака бледное, безжизненное тело издохлеца. Игнат не понимал, сколько прошло времени: теперь время измерялось не движением солнца, наступлением и отступлением ночи, а усилением духоты, жажды, переменой настроения в тёмном, холодном, душном, смердящим мочой, калом, дымом, прелым сеном погребе. Сперва Игнат мычал, плакал, орал, извивался связанный, и от этого плакала Параша, мама её успокаивала, а отец, сидя в середине погреба с маленькой сальной свечкой, водил пальцем по строкам псалтыря, ровным голосом без выражения читая псалмы один за другим: мама слабо ему вторила. Потом Игнат забылся мутной дрёмой, его развязали, он проснулся, потягиваясь, сперва не понимая, где он, а когда понял, увидел дрожащий огонёк свечи, пляшущие тени, чёрный силуэт сгорбившейся мамы, пергаментно-жёлтое в свечном свету лицо отца над книгой, его мерный бубнёж… Игнат рывком набросился на отца, повалил свечу, поджёг сено (морильня сразу красно осветилась) — но сгореть им было не дано: сухого сена было мало, огонь быстро затух, и они с отцом вдвоём в темноте мутозили друг друга, катаясь по полу: мама и Параша жутко, по-звериному кричали, визжали, выли. Наконец, расползлись по разным углам. Отец ещё молился по памяти, мать тоже. Потом она перестала, потом он. Параша хныкала, плакала, просилась наружу, описалась: в морильне резко запахло мочой. Потом отец, как ни в чём не бывало, присел в углу: запахло ещё и калом. Становилось всё душнее: дышать спёртым, зловонным, влажным воздухом теперь нужно было полной грудью, с усилием. Молитв уже никто не читал, только часто, громко дышали, как собаки. Очень хотелось пить. Потом мама с передыхами начала ругаться на отца — кажется, первый раз в жизни Игнат слышал, как тихая, всегда идущая за отцом мама зло костерила его страшными словами, вспоминала какие-то обиды из юности: к Игнату прижималась голая, плачущая, холодная и липкая как лягушка Параша, а Игнат, лёжа в тёмном удушливом смраде, сквозь подступающее головокружение с невыносимым отчаяньем думал, что вон, сверху там жаркий июльский день или, может, свежий дождь, или звёздная ночь, — что угодно, а ещё там сверху где-то Алёнка, которая даже не знает, что сделали с ним, Игнатом, не спросив, и от этого сам тихо выл, скрежеща зубами. Потом, когда мама уже обессиленно лежала где-то в углу, тяжело, хрипло дыша, отец предложил подсадить Игната, чтобы тот с отцовых плеч открыл люк. Игнат знал, что люк в морильне приваливают глыбой, но, конечно, согласился: забрался отцу на плечи, как в детстве, толкал неподъёмную крышку, налегал плечом — всё без толку. Сверху было, кажется, чуть проще дышать, и, уже понимая, что ничего не выйдет, Игнат не спешил говорить отцу, стараясь остаться чуть подольше наверху, припадал губами к краям люка, воображая ток свежего воздуха через щели, — а потом отец грохнулся в обморок. Потом отец очнулся от обморока и позвал почему-то Парашу. Параша лежала рядом с Игнатом, и Игнат попробовал было её растолкать: девочка не отвечала, холодная уже не как лягушка, а как камень. — Параша умерла, — разлепил ссохшиеся губы Игнат. — Слава Богу, — медленно ответил отец. Игнат на четвереньках в густой, сплошной темноте полез выяснять, умерла ли уже мама. Мама была жива: сидя на корточках, она облизывала влажную земляную стену морильни. Начал делать то же и Игнат. Потом мама тихо опустилась на пол, подгребла к себе охапочку сена и замерла так. Сколько потом ещё времени прошло? Игнат не помнил: он лежал в непроглядной, пляшущей химерными всполохами в глазах черноте на гниющем сене, уже не ощущая ни смрада, ни духоты, даже не дыша, а лишь медленно перебирая в пальцах подаренную Алёнкой лестовку, отсчитывая непонятные промежутки времени. Сколько раз он полностью перебрал сухие красные зёрна в ледяных пальцах? Он и сам не знал. — Игната больно подцепили за ногу и вниз головой поволокли наружу: он давно уже увидел, как открылся в потолке люк, как хлынул оттуда ярчайший, слепящий свет, но не мог пошевелить ни одним членом и вот теперь больно ударялся лбом, рёбрами о края люка. Только когда его, безжизненного как деревянная кукла, вытащили наружу, Игнат изо всех сил напрягся и с усилием сделал отчаянный, рвущий лёгкие вдох головокружительно пахучего воздуха. — Живой! — удивились вокруг. — Живой! Тут живой! Скажите воеводе скорей! Живой парень тут! Игнат сделал ещё одно усилие и хрипло, как через узкую прореху втягивая воздух, вдохнул ещё раз, пошевелил глазами. Вокруг него стояли бородатые люди в красных кафтанах с галунами. Игнат снова напрягся и сделал ещё вдох. — — Эк ты, хлопец, запаршивел весь, — сказал Тимофей Тимофеич, дородный, бородатый мужчина в вышитом кафтане, сафьяновых сапожках, с чёрной плёткой у богато изукрашенного пояса. Он подошёл к скрючившемуся на табурете Игнату, по-отечески накрыл его плечи стареньким побитым молью тулупчиком. — Весь чуть не синий, а смердит от тебя как — хуже, чем от пса! — Шутка ль? — поддакнул воеводе дьяк, за неимением стола расположившийся с листом бумаги и пером у колоды для колки дров во дворе морильни. Вокруг всё было бело первым, свежим снегом, крупно выпавшим накануне и сейчас густо лежащим крупными хлопьями на ветвях, в тенистых углах. — Неделю или сколько в этой яме просидеть, ещё слава Богу что жив остался. Э, парень, — обратился он к безразлично смотрящему в пустоту Игнату, — ты сколько там сидел-то? — Я не помню, — сипло, почти беззвучно отозвался Игнат. — Откуда ему помнить, балда! — обратился к дьяку воевода. — Тебя туда посади, как будешь день от ночи отличать? — воевода присел на корточки перед Игнатом, заглядывая ему в лицо. — Так из какой ты деревни-то, малой? — Из Раменья, — тихо ответил Игнат. — Из Раменья, значит? — участливо спросил воевода. — Так Раменья-то с лета нет уж: гарь была! Игнат не знал, что сказать, и промолчал. — Ну-ка, — обернулся Тимофей Тимофеич, — достаньте-ка из клетки этого старца вшивого! Откуда-то, где в стороне толпились стрельцы с лошадьми и телегами, привели старца Иннокентия, избитого, со спутанными седыми волосами и запекшейся губой. — Ну чего, расколоучитель, — внушительно обернулся к нему воевода, поднимаясь с корточек. Тимофей Тимофеич подошёл к старцу и, схватив за кустистую седую бороду, рывком поднял его безвольно повисшую голову, обратив её на Игната: — Чего скажешь? Когда парня с семьёй заморить решил? Заложили они тебя, да? — Э, не, — жутко усмехнулся старец. — Я ж говорил тебе, эту морильню я ещё под Петров день замкнул! За неделю до гари это было. — Что несёшь, балда! — воевода без размаха ловко ударил рукой в перчатке по щеке старца. — Парень вон живой: что он, святым духом там питался три месяца? — Не-е-е, — протянул старец, щерясь беззубым окровавленным ртом, — не святым, уж верно не святым! Что-то в его голосе было таким, что заставило безразличного ко всему Игната поднять голову, взглянуть на старца: старец смотрел на него водянистыми, бледными глазами из-за спутанных седых волос, а Игнат с первым по-настоящему сильным за многие месяцы чувством понял, что старец когда-то испытал то же, что Игнат сейчас, и что старец понимает, что Игнат это понимает. Поэтому он так и пах всегда — с неожиданным, с силой продравшимся через многомесячную коросту безразличия, прозрением понял Игнат, — потому и синюшный цвет лица у него всегда был, потому старца Иннокентия утопленником и кликали по деревням: да только не утопленником он был, а издохлецом, как и Игнат сам теперь.
-
-
Страшненькая история начинается.
-
Если таких постов в игре наберется пяток, все было не зря.
-
Жутко и многообещающе. Я не уверен, что готов к тому, что будет дальше – но уверен, что это будет интересно.
-
-
Очень хороший концепт для вампира. Украду для кого-нибудь из своих будущих персонажей в WoD/CoD.
-
-
Это письмо от меня, Игната, твоего самого большого фаната!
-
-
Жутко. Но написано талантливо, респект.
-
Очень здорово! Прекрасный язык!
-
За красоту и интересный стиль подачи истории
-
-
Нет, ну ты мастер конечно, чего уж там. Вот прям мастер.
-
Основная проблема этого поста, в том что все прочие посты в комнате, будучи очень даже неплохими сами по себе, выглядят совершенно неубедительно в сравнении. Такое сложно перекинуть.
-
Игната - с возвращением.
По-прежнему: смесь омерзения и восторга. Иванов, который первым приходит на ум, нервно курит в углу.
|
11:30
— Поддержим, поддержим! — наперебой галдя, поспешили заверить Романова делегаты. — Порядок так чего б не поддержать, это дело нужное, понимание имеем!
— А патронов по сколько на брата? — вытягивая шею, спросил отказник с сальными волосами в горшок.
— Я две возьму, товарищ военком! — подлетел к Романову сидевший на крайнем стуле краснорожий смолокур в сером мятом пиджаке и смазных сапогах. — Себе одну, и шурину ещё надо, а то…
— Куды, Филиппка! — заорали на него другие делегаты, потрясая кулаками. — Русским языком говорено: всего двадцать штук! По стволу на брата!
— По стволу на брата! — согласно закричали с другой стороны зальца. — Где запись? Васька, ну-ка записывай меня!
Делегаты один за другим начали вскакивать с мест, толпой потянулись к столу президиума, к растерянному Василию Боговому. Смолокуры окружали секретаря съезда, наперебой требуя записывать их имена, чтобы не остаться без винтовки: всего на съезде было около тридцати делегатов, и каждый понимал, что записаться надо поскорей, чтобы не остаться на бобах. Только учитель Гиацинтов безучастно стоял в стороне, оглядываясь то на военкома, то на делегатов.
— Товарищи! — срывающимся голосом заорал вставший с места Иван Боговой, застучал кулаком по столу с бумагами. — Товарищи, перерыв! Перерыв! Потом запись, всё потом!
Кое-как делегатов удалось утихомирить. Шумно переговариваясь, обсуждая неожиданную щедрость военкома, они потянулись к выходу из зала, а самые хитрые остались в зале, не сводя взгляда Василия Богового, который сидел, не зная, что и думать, поминутно оглядываясь на брата. Иван Боговой шумно опустился на председательское место, обхватил голову руками, взъерошив чёрные, уложенные на прямой пробор волосы. Председатель съезда очевидно был не в духе.
— Ох, да что это за день сегодня такой! — страдальчески воскликнул Иван Боговой, когда Романов сказал ему, что надо переговорить. — Всё наперекосяк! Что там ещё?
Нашли Проурзина, вышли из зала в коридор, уходящий к тёмным, неиспользуемым сейчас помещениям кооперативного клуба, остановились у большой белой двери с медной табличкой «Касса пенсiонныхъ накопленiй».
— Какие проблемы с Проурзиным? — сардонически рассмеялся Боговой, раздражённым жестом отмахиваясь от предложенных папирос. — Проще сказать, каких с ним проблем нет! Вздорный старик, третий съезд подряд у меня сидит вот здесь, — председатель ткнул себя пальцами в горло.
— А ты не замай, Ванька! — не дожидаясь, пока Боговой закончит, встрял Проурзин, не преминувший взять сразу пару папиросок, которые запасливо сунул в карман пиджака. Голос у делегата был скрипучий, какой действительно часто бывает у говорливых стариков, любящих препираться по любому поводу. — Вздор тут ты мелешь с братцем своим, потому головотяп! Ты с братцем своим дел тут наворотил, до бунта людей довёл, а сейчас за красноармейцев ховаешься! Товарищ военком тут люди новые, — льстиво сказал старик, — а в уезде все знают, какова тибе цена! — Проурзин затряс перед лицом Богового крючковатым пальцем, с видом завзятого спорщика подаваясь вперёд.
— Ну вот погляди! — обернулся Боговой к Романову, показывая на делегата с видом, мол, «что я говорил». — Ты чего вообще сюда припёрся, Проурзин, из своего Благовещенского?
— А тибя, сопляка, вот не спросил! — ядовито выкрикнул Проурзин.
— А я тебе скажу, чего ты припёрся, — теряя над собой контроль, нервно и зло зачастил Боговой, — тебе в своём селе делать нечего, на печи тараканов считать скучно, вот ты на каждый съезд и мотаешься, лишь бы было чем заняться, да? Как тебя только свои земляки делегатом выбирают?
— А вот выбирают! — упрямо крикнул Проурзин. — И знать бы должон, председатель недотыканный, что Благовещенское в этот раз делегатов не послало! Я от Усть-Паденьги послан, вместе с учителем этим, — важно добавил старик. Кажется, тот факт, что на съезд его направило не своё село, а чужое, немал льстил его самолюбию.
— Вот, погляди, Андрей! Гастролирует по сёлам, в делегаты напрашивается! А я тебе скажу, почему тебя выбирают! Потому что людям на местах заняться есть чем, у всех работа, по заседаниям сидеть времени нет, вот тебя, старика, и шлют!
— Работа, скажите на милость! — глумливо заголосил Проурзин. — То-то я погляжу, у тибя-то ручки все в мозолях! Натрудил, небось, бумажки свои перекладывавши!
— Всё, Проурзин! — угрожающе сказал Боговой. — Ты допизделся. Сейчас собираем мандатную комиссию, аннулируем твой мандат, и пошёл нахуй отсюда, понял?
— Скажите, пожалуйста! — расхохотался Проурзин ему в лицо, комично разводя руками. — Напугал ежа голой жопой! Головотяп! Да уж недолго тибе головотяпствовать осталось! Товарищ военком, ежель вы за народ, так заарестовать Боговых надоть бы, потому они первые виновники восстания есть, чему весь уезд свидетели!
Именно эти последние фразы услышали, поднимаясь по лестнице на второй этаж кооперативного клуба, Бессонов с Занозой.
-
Какое же шенкурское обчество чудесное и живое! Очень яркая и красивая ветка выходит!
|
— Марксистам, конечно, уподобляться не стоит, — заметил Чаплин, — но и преувеличивать роли Миллера я бы не стал, как и этого Филоненки. Как по мне, так Миллер просто исполнял поручение Филоненки, а Филоненко — ещё чьё-то: хорошо бы понять, чьё, — Чаплин задумался, и это дало возможность Мурузи вставить слово:
— А Филоненко — это не тот, которого где-то на фронте выпороли розгами?
— Тот самый, — подтвердил Чаплин.
— Что, правда розгами? — живо заинтересовался Ганжумов. Ему, кажется, очень любопытно было узнать про выпоротого офицера. — А что случилось?
— Я точно не знаю, — покачал головой Чаплин.
— Я, я слышал эту историю, господа, — нетерпеливо вмешался в разговор Чарковский. — Дело в том, что в бытность свою фронтовым офицером этот Филоненко приказывал без разбору пороть солдат и тем, так сказать, снискал себе репутацию самодура. А после приказа номер один солдаты, так сказать… ну вы поняли, вернули должок.
Ганжумов радостно захохотал, прихлопывая ладонью по скатерти.
— Мерзость, — с отвращением прокомментировал Чаплин.
— Однако! — фальцетом воскликнул дес Фонтейнес, криво ухмыляясь одной стороной рта, тогда как вторая мелко ходила в судорожном тике. — После такого только застрелиться.
— Ну, они ж эсеры, им, так сказать, это только на пользу пошло, — комически развёл руками Чарковский. — Так сказать, прикоснулись к жизни обожаемого ими народа.
— Прикоснулись обоими полушариями! — смеясь, добавил Ганжумов.
— А на каком фронте это было? — спросил у Чарковского важно помалкивавший до того Мурузи. Князя, кажется, история про розги не впечатлила — во всяком случае, никак не отразилась на его надменно-холодном выражении лица.
— Не могу сказать, извините, — покачал тот головой. — Я, во всяком случае, свидетелем сему не был, так что за что купил, за то и продаю.
— Сплетня неприятная, конечно, — подумав, сказал Чаплин, — но всё-таки только сплетня. Хотя я, в общем, понимаю, почему Филоненко послал к нам этого Миллера вместо того, чтобы прийти лично. Однако, господа, он всё-таки как-никак оказал нам сегодня услугу, поэтому давайте хотя бы за это воздадим ему должное.
— Я могу ивняка нарвать, — невинно предложил Ганжумов, но, столкнувшись с серьёзным взглядом Чаплина, понял, что более шутить он на эту тему не намерен.
— Можете не уважать Филоненку и не подавать ему руки, — не удостоив реплики Ганжумова ответом, продолжил Чаплин, — но он ещё может быть нам полезен, поэтому так уж в лицо не попрекайте его этим постыдным фактом, если встретите. Да, впрочем, я не думаю, что он сейчас будет гореть желаньем нам надоедать, как и его приятель Миллер. Так что, барон, не беспокойтесь по поводу Миллера — если он сюда заявится, мы с ним как-нибудь сами разберёмся. А лучше вы скажите вот что — вы ведь сегодня ночью не спали?
Рауш подтвердил, что нет, не спал.
— Вот, — кивнул Чаплин, — поэтому у меня к вам есть более важное поручение, чем гоняться за Миллером. Отправляйтесь-ка к себе домой да выспитесь как следует. Вечером вы мне будете нужны свежий и бодрый, а не валящийся с ног. Рук тут у меня хватает, вы мне пока не нужны. В восемь вечера я жду вас здесь, а пока набирайтесь сил. Нас ждут великие дела, барон! — и на последних словах обычно сдержанный и неэмоциональный Чаплин пристукнул кулаком о ладонь, и Рауш увидел, как в глазах командира сверкнуло нетерпение.
-
-
ну и жук он, Чаплин, после этого! Спасаешь ему положение, а он тебя исполнителем называет
|
Романов
11:00
Атмосфера на съезде была невесёлая, хмурая: и вчера-то, в первый день, большинство делегатов сидели как на поминках, а сейчас и в президиуме было мрачновато: Василий Боговой всё дулся на Романова, Иван Боговой вёл съезд раздражённо, а стенографистка Шатрова работала рассеянно, то и дело опуская карандаш. Иван Боговой всё косился на неё, а когда та в очередной раз прекратила писать во время речи учителя Гиацинтова по поводу мобилизации (тот опять вызвался выступать), подошёл к ней, наклонился, начал что-то сердито ей выговаривать. Шатрова некоторое время безучастно слушала, а потом, не в силах сдерживаться, закрыла лицо руками и зарыдала.
— А ещё я, товарищи съезд, хочу сказать, что мобилизация, конечно, нужна, но не такая глупая, ну, то есть, не… — энергично рубя руками воздух и шатая трибуну, голосил Гиацинтов, но, услышав рыдания девушки, остановился, обернувшись. Теперь на Шатрову смотрели все. Стенографистка порывисто поднялась с места и, не отнимая рук от лица, быстрыми шажками пошла к выходу, хлопнула большой белой дверью. Иван Боговой подался было вслед ей, протянул руку, но догонять не решился и сел на своё место.
— Что это было, Ваня? — обернулся к брату Василий Боговой.
— Заткнись, — шикнул на него Иван и раздражённо обратился к съезду: — Продолжаем, продолжаем, товарищи! Продолжайте, товарищ Гиацинтов.
— Да я, собственно… я, собственно, вообще закончил… уже, — растерянно сказал Гиацинтов и, смутившись, пошёл на своё место.
— Ну, закончили, вот и хорошо, — сердито подытожил Иван Боговой. — Давайте, собираем комиссию.
В комиссии по подготовке проекта резолюции по вопросу отношения к мобилизации участвовали те же, что и вчера: земский статистик Щипунов и учитель Гиацинтов. Последнему, кажется, очень понравилось, что Романов в этот раз не зверствует с формулировками, не грозит страшными карами каждому, в прошлом месяце поднявшемуся против мобилизации, которую так неудачно провели в Шенкурске братья Боговые.
— В ходе проведения мобилизации отдельные представители Советской власти допустили некоторые перегибы. Мобилизация населения Шенкурского уезда откладывается до особого распоряжения, — зачитывал с трибуны Романов под одобрительный гул бородатых, настороженно до того глядевших на военкома делегатов. Шатрова в зал так и не вернулась.
— Вот это порядок, вот это дело! — выкрикнул кто-то с места.
Закончил зачитывать, уселся на своё место. Иван Боговой уже хотел было объявлять поимённое голосование за проект, но тут с места поднялся один из смолокуров — пожилой, весь в сетке глубоких, прокопчённых едким смоляным дымом морщин, с седоватыми кудлатыми волосами, мятой шапкой в руке.
— А вот я к опчеству обращусь! — начал он, первый раз подав голос за весь съезд. Иван Боговой попытался было остановить его, замахал карандашом, но дедок не слушал. — Вот товарищ военком баял, де, «перегибы»! А кто за перегибы будет отвечать, я спрашиваю?! Давайте уж тогда перегибальщиков сами того, пере… перегоним! — завершение реплики предполагалось, видимо, остроумным, но получилось нелепо.
— Проурзин, ну куда вы с места кричите? — завёл свою обычную шарманку председатель съезда. — Может, у вас свой проект резолюции есть?
— А мож, и есть! — вздорно крикнул старик, выпячивая козлиную бороду, тыча в сторону председателя заскорузлым пальцем. — А ты, Ванька, помалкивай, потому я о твоей персоне говорю! Ты тут перегибал с братцем своим, тибе и отвечать! Братцы, — в запале, видимо, посчитав, что военком на его стороне, оглянулся он по сторонам, — а ну-кось-ка Ваньку с Васькой вынесем на повестку дня, а?!
Никто не понял, что это должно было означать, но, быстро взглянув на военкома, в президиум, решили, что бунта устраивать не стоит. Старичок, однако, не унимался, видимо, не осознавая ещё, что поддерживать его никто не спешит. Боговой закричал, привстав с места:
— А ну-ка сядьте, Проурзин, а то я вас из зала удалю!
— Удалялка не отросла! — гаркнул тот. — Англичане придут, тибя сами удалят! Уж они Березник взяли, ждать недолго!
Бессонов
11:00
Допрос Викентьева занял много времени: молодой телеграфист через слово хныкал, сбивался, просил его пощадить, несколько раз впадал в истерику — конвульсивно тряс головой, стонал от жалости к себе, умоляюще, по-собачьи глядел на чекистов, в очередной раз принимался винить свою сестру. Вопросы требовалось повторять по нескольку раз, вычленять хоть что-то осмысленное из его сбивчивых ответов, прерываемых умоляющими просьбами, плачем. Наконец, с ним закончили.
— Мда уж, — заметил Глебушка, когда Заноза увёл телеграфиста обратно в свою каюту, приставив у окна красноармейца, чтобы приглядывал. — Если бы тут вся контра такая была, нам бы крупно повезло.
Но контра тут была такая не вся: через несколько минут в дверях появились Заноза с Кузнецовым. Заноза был взмыленный, тёмные его волосы, которые он обычно приглаживал на пробор, были растрёпаны, кожанка расстёгнута. Кузнецов, которого чекист вёл под дулом маузера, выглядел так же — со свежим кровоподтёком на скуле, с разодранным воротом косоворотки под пиджаком. Со своей раненой ногой он еле ковылял, держась за стенки и глядя на всех зло, исподлобья. Заноза грубым ударом в спину втолкнул его в салон: Кузнецов не удержался, повалился на пол, застонал сквозь зубы.
— Во, боевой трофей, — хмуро объявил Заноза, доставая из кармана кожанки молоток на деревянной ручке. — Дурак, по голове приложить хотел. Ты, дурень, думал с парохода, полного красноармейцев, сбежать? — язвительно спросил он у сидящего на полу Кузнецова, заглядывая ему в лицо.
— А моей жизни всё равно конец, так хоть бы тебе, гаду, череп проломил, — мрачно ответил тот.
— Точно дурак, — раздражённо сказал Заноза, с бряканьем кладя молоток на стол. — И стреляли в меня, и саблей на меня махали, и газом травили, а вот молотком ещё не били, хоть я и с завода сам. Самому бы тебе, дурню, по кумполу-то этим вот молотком! — Заноза подобрал инструмент со стола и коротко замахнулся им на Кузнецова.
— Да пошёл ты! — с ненавистью бросил Кузнецов.
— Ладно, ладно, — вмешался Глебушка, подходя к Кузнецову. — Вы, гражданин, давайте на стул лучше сядьте, я вам помогу. У вас второго молотка нет? Меня не ударите? Может, гаечный ключ какой-нибудь ещё припрятали?
Кузнецов зло молчал. Глебушка подхватил его под мышки и, натужившись, помог застонавшему от боли журналисту подняться и усесться на стул, на котором ранее сидел Викентьев.
— Вы где штуку-то эту взяли? — с любопытством спросил молодой чекист.
— Да там он, в каморке взял, — ответил за него Заноза, отошедший к зеркалу, встроенному в одну из панелей, и приглаживавший волосы маленьким костяным гребешком. — Там железок каких-то полно. Говорю я, надо по-нормальному трюм в тюрьму переоборудовать!
— Ладно, ладно, Валерьян, — обернулся к товарищу Глебушка. — Давай не при нашем госте.
— Госте! — фыркнул Кузнецов.
— Вы, может, курить хотите? — ласково обратился к нему Глебушка.
— Ничего мне от вас не надо, — буркнул арестованный и болезненно сморщился, вытягивая забинтованную ногу в разрезанной, лоскутами болтающейся штанине.
По виду Кузнецова было ясно — этот лохматый белобрысый парень в пиджаке собирается отмалчиваться и уже готовится выносить садистские пытки, наверняка ожидая, что сейчас его начнут спрашивать, где скрывается Ракитин со своим отрядом, кто их сообщники в городе, — и Кузнецов совсем не ожидал первого вопроса Бессонова:
Мы хотели бы обменять вас на товарища Иванова. Как и через кого это можно устроить?
— А вот это уже дельный разговор, господин чекист, — с недоверчивым удивлением вскинул на него взгляд арестованный, и Бессонов увидел в его взгляде пока слабую, опасливую надежду. Чекист понял — жить молодому журналисту очень, очень хочется: он отчаянный человек, но не самоубийца, и если есть возможность как-то с достоинством выпутаться из этой передряги, он её не упустит. — Как устроить? — Кузнецов задумался. — Я выдавать своих не стану… да и некого в этом городе мне выдавать, — быстро добавил он, разумеется, соврав. — Попробуйте, например, во всеуслышанье объявить ваше предложение на вашем съезде — он ведь ещё идёт? Кто-нибудь да доложит нашим.
Бессонов задал следующий вопрос:
Вы пролили кровь за Жилкина. Вероятно, он будет более склонен озаботится сохранением вашей ноги, чем мы. Но это не вопрос, скорее, комментарий...
— Если вы о том, готов ли Жилкин обменять вашего Иванова на меня, то я считаю, да, готов, — с нагловатой уверенностью ответил Кузнецов.
— Как, кстати, ваша нога? — участливо осведомился у Кузнецова Глебушка.
— Спасибо, ничего, — с издевательской вежливостью ответил Кузнецов. — Меня, правда, пять минут назад в неё пнули.
— А ты б не выёбывался, — подал голос Заноза.
— Советую обращаться со мной хорошо, — дерзко заявил Кузнецов Бессонову. — Если хотите получить вашего Иванова с двумя ногами и руками.
-
-
+
ну да, не научились еще молчать и хлопать
|
— «Поставить заранее перед фактом» — это оксюморон, — со своим фирменным надменным занудством заявил Мурузи. Сидел князь, откинувшись на спинку стула и с таким видом, будто ему тут всё не просто безразлично, а смертельно скучно, и участвует он в разговоре лишь из одолжения всем присутствующим. — То, что вы предлагаете, правильно назвать иначе: «заявить о намереньях».
— Назовите как хотите, это сути не меняет, — своим обычным тихим и терпеливым тоном обратился к нему Чаплин, затем обернувшись к Раушу. — Барон, ваша мысль понятна, но давайте я сейчас объясню вам и всем остальным, почему этого делать не стоит. Представьте себя на месте английского офицера, которому станет известно о нашем выступлении. Ну, скажем, на месте того же Торнхилла. Что он должен будет сделать в первую очередь, узнав о таком? Конечно, дорожить начальству: например, генералу Пулю. Эти сведения тут же становятся известны всему штабу союзников, затем, — Чаплин кивнул на обедающих в зале дипломатов, — вот этим господам, а там уж и американцам, а через них Чайковскому, который ту же минуту бежит бросаться в ножки Фрэнсису, умоляя его спасти его грешную социалистическую голову. Ничего у нас так, барон, не получится, — печально заключил Чаплин.
— Есть, однако, и другой вариант, — помолчав, снова начал он, — если Торнхилл в нарушение должностных инструкций не будет докладывать о наших планах никому. Вполне вероятно, что он так может поступить. Но знаете, что это будет означать для него в отношении нас? Что мы его подставили, вынудили поддержать нас в нарушение своих прямых обязанностей. И это ещё ничего, если у нас в итоге всё получится: а если не получится? Ведь, господа, — Чаплин ещё раз серьёзно оглядел собравшихся вокруг стола офицеров, — нельзя исключать и того, что наш план провалится. Это, конечно, будет печально для нас всех, здесь собравшихся, но мы хотя бы сможем рассчитывать, что нам поможет Торнхилл. А теперь подумайте — станет он нас выгораживать, если будет знать, что мы его подставили, вовлекли в наш заговор, а потом его ещё и провалили? И какие проблемы будут у него самого, если выяснится, что он знал о нашем заговоре и не доложил своему начальству? Вот поэтому-то я запрещаю разглашать наши планы даже подполковнику Торнхиллу, а уж тем более любым иным представителям союзников.
-
Мурузи великолепный зануда, так и хочется врезать
|
Судя по виду, с которым Чаплин слушал доклад Рауша, капитан успел десять раз пожалеть, что добродушно позволил адъютанту говорить в присутствии других офицеров. Известие о том, что о деле прознала английская разведка, было для Чаплина полной неожиданностью. С удивлением восприняли новости и остальные офицеры, непонимающе переглядываясь.
— И что теперь? — первый выпалил несдержанный, как обычно, Ганжумов, порывисто вскочив со стула. — Всё отменяется, так, что ли?
— Тише, поручик! — поднял на него взгляд Чаплин, делая успокаивающий жест рукой. — Вы ещё со сцены кричать начните.
— Я… просто! — не нашёлся, что сказать, Ганжумов. — Только-только мы все понадеялись, что всё изменится, и что? Георгий Ермолаевич! — просяще обернулся он к Чаплину.
— Погодите, поручик! — сквозь зубы тихо процедил Чаплин, прикладывая ладонь ко лбу. — Извольте помолчать одну чёртову минуту! И сядьте, наконец!
Ганжумов, гневно дыша через нос, сразу густо покрасневший, с грохотом сел обратно, не сводя взгляда с командира. Мурузи вальяжно откинулся на спинку стула, ничего не говоря и с каким-то отстранённым любопытством наблюдая за Чаплиным. Дес Фонтейнес, тоже вопросительно глядевший на Чаплина, перевёл взгляд за спину Рауша и судорожно дёрнул рукой, мол, «прочь отсюда!» — прогнал официантку, подошедшую узнать, угодно ли чего-либо присоединившемуся к компании посетителю. Чарковский, откашлявшись, со скрипом поднялся и подошёл к окну, за которым мокро зеленел сад. Чаплин сидел с выражением напряжённого раздумья, уставившись в скатерть. Наконец, он поднял лицо:
— Ничего не отменяется, — тихо сказал он, обращаясь ко всем и повторил специально для Ганжумова: — ничего не отменяется, поручик. То, что Чайковский отозвал свой приказ, ни о чём не говорит.
— А он его впрямь отозвал? — поинтересовался дес Фонтейнес. — Откуда мы знаем, так ли это?
— Барон, — обернулся Чаплин к Раушу. — Что вам точно сказал Торнхилл?
Рауш пересказал слова англичанина так точно, как помнил, и Чаплин удовлетворённо кивнул.
— Нет, отозвал, отозвал, — успокоительно сказал Чаплин. — Торнхилл нам врать не будет: если он говорит, что решил этот вопрос, значит, решил. Но это ничего не значит: завтра Чайковский придумает что-нибудь ещё. Нет, проблему Чайковского надо устранять как раз сейчас… — Чаплин хотел ещё что-то сказать, но в разговор вмешался Мурузи:
— Вы собираетесь выступать против англичан?
— Я не собираюсь выступать против англичан, князь, — чеканя каждое слово, неприязненно обратился к нему Чаплин. — Против англичан сегодня выступил не я, а Чайковский со своим приказом. И этим он ещё раз показал всем союзникам, насколько ему можно доверять. То, что Торнхилл не арестовал Рауша за самоуправство, говорит как раз о том, что Торнхилл на нашей стороне. А если на нашей стороне он, за нас будет и посол. Американцы будут против, но они не станут ссориться с англичанами из-за Чайковского, который и им уже успел надоесть хуже горькой редьки. Торнхилл, конечно, не мог сказать вам, барон, в открытую «идите свергайте Чайковского»: когда мы это сделаем, нас, возможно, тоже пожурят за дилетантизм, — но только и всего. В общем, те новости, которые вы, барон, принесли нам, скорее убеждают меня в том, что курс мы выбрали правильный. Да и в любом случае, сворачивать уже поздно.
|
Сентябрь 1835 г.
Якутская область,
близ Охотска
Редкий рыжий лиственничный лес, некрасивый, костлявый, беспорядочно заросший кустарником, тянулся по сторонам каменистого осыпающегося тракта так же, как тянулся тысячи вёрст до того, а каждый кандальник уже с нетерпением заглядывал вперёд, поводил носом, прислушивался. И верно: сначала нечётко, потом всё яснее каждый слышал ровный глухой рокот прибоя, ощущал незнакомый большинству свежий йодистый запах. «Море!» — говорил каждый товарищу, в первый раз за многие месяцы мучительного пути с искренней радостью. Море означало — конец тракта, неустроенного, безлюдного, который и трактом-то нельзя было называть, конец мучительным переходам, мошкаре и оводам, бивакам под дождём, страшным ранам под железным браслетом на ноге, если терялся подкандальник. Радовались все: радовался псковский убийца Васька Малой, здоровенный одноглазый бугай с тупой бровастой рожей, радовался Меркулка Прыщ, маленький вертлявый нижегородский шулер, радовался называвший себя Христом лысый хромой педераст, радовались державшиеся особняком от всех полные горькой гордости поляки-повстанцы, радовались два брата-дагестанца, отправленные на каторгу за разбой, — только сумасшедшему людоеду Филимошке Непомнящему, кажется, было на всё наплевать.
Он вообще часто во время долгих изнурительных переходов, механически переставляя ноги с бряканьем кандалов, задумчиво повторял это имя: «Филимон, Филимон». Он пытался понять, откуда оно взялось, но не умел: десятилетия однообразной скотской жизни на цепи, в которой ничего не менялось, будто перемешали в голове воспоминания — теперь они складывались в причудливый многослойный узор, как листок, на одной строке которого что-то написали несколько раз —множились, переплетались, терялись. Он шёл по Сибири в кандалах и вспоминал, как когда-то кому-то говорил «на Сибири привольней» — кому он это говорил, когда? В переполненных, кишащих клопами и крысами пересыльных избах он в красном свете чадящей лучины рассматривал свой бронзовый крест на гайтане и надпись «Симеонъ» на обороте: кто был этот Симеон? Он перебирал в руках лестовку с рассохшимися, облупившимися рябиновыми ягодами, с облезшим лаком на костяшках — что это была за лестовка, почему она была у него в руках? Временами из каких-то тёмных глубин всплывал даже не образ, а тень образа — солнечное утро, пахучее сено, чёрная стрелка ласточки под балками, девочка-татарка в разодранном платье, чей-то белый дрыгающийся прыщеватый зад. Или — тёмный стылый смрад морильни (морильни, так это называлось! — это была маленькая победа, что удалось вспомнить), чьё-то большое белое тело на ледяном полу, упоительный вкус крови, сочащейся из раны. Большой город, толпа людей, обступившая его, пляшущего в луже, а потом они все набросились на какого-то старика…
Впрочем, нет, старика он убивал один, это было совсем недавно: Ерошка неосторожно подошёл к нему, он набросился, вгрызся в пергаментную глотку; Даня, стоя у порога, со слезами на глазах стрелял в него из ружья, с каждым выстрелом отрывая от трапезы, дрожащими руками снова заряжал, а когда понял, что ничего не выходит, бросился бежать. Так Филимона и нашёл урядник, сидящим на корточках над полуобглоданным трупом Ерошки.
—
Декабрь 1835 г.
Якутская область,
Охотский солеваренный завод
Прибытию на место радовались недолго: городок Охотск, сотней чёрных изб раскинувшийся на голом, продуваемом всеми ветрами мысу над свинцовым морем, оказался хуже любого этапа. Постоянно дующий с моря ветер нагонял в устье реки Охоты морскую воду, которую нельзя было пить: теперь каторжников с вёдрами гоняли за тридцать вёрст вверх по течению реки. Раньше ездили на лошадях, но лошади все перемёрли в прошлом году от сибирской язвы; комендант ждал, что их пригонят в этом году, но вместо лошадей пригнали этап кандальников. В октябре ударили морозы и метели, городок засыпало саженными сугробами, два брига на якоре в устье реки вмёрзли в лёд, торча крестами мачт над застывшей белой равниной. Коротким летом местные жили хотя бы рыбным промыслом, ожиданием обозов по тракту, кораблей с Камчатки или Аляски: зимой не было и этого, и город впал в тупое сонно-пьяное оцепенение.
В эти вьюжные безнадёжные зимние месяцы грань между каторжником и свободным жителем Охотска исчезала: само слово «свободный» здесь казалось неуместно — все одинаково были здесь не по своей воле, все одинаково были заперты в грязном, унылом посёлке. Все жрали по преимуществу рыбу, запивая вонючим еловым настоем от цинги: и от того, и от другого воротило, все мечтали об обычном хлебе; но зерно тут было лишь завозное, стоило бешеных денег, а и что было, всё пускали на самогон. Напивались, ввязывались в свары, в поножовщину за баб — их тут было в разы меньше, чем мужиков. Целыми днями играли на занавешенных грязными простынями майданчиках в сальные карты конами по тридцать копеек, по полтине, и азарт был тот же, что при игре на тысячи, и убивали за эти деньги так же. Комендант города, бывший питерский гвардеец, отправленный сюда за какой-то проступок, беспробудно пил, измывался над людьми, держал гарем. Солдаты гарнизона ходили одетые кто как, с незаряженными винтовками: пороха им не выдавали, чтобы не перестреляли друг друга. В ноябре называвший себя Христом педераст не выдержал того, чему целыми сутками его подвергали другие каторжники, и утопился в проруби. Никто не удивился: старые каторжане говорили, что за зиму кончают с собой по десятку человек, а весной ещё с десяток сбегает, чтобы вернуться к осени.
К побегам тут относились спокойно: бежать, по сути, было некуда. Говорили, что если добраться до реки Алдан, оттуда можно уже выйти и на Якутский тракт, и дальше в нерчинские степи; но все прошли этот путь, все знали, как далёк Алдан, сколько нужно к нему идти по диким Охотским горам. И всё-таки каждый год строили планы, каждую весну уходили в тайгу, чтобы вернуться осенью, получить обычное наказанье плетьми, перезимовать, а весной — всё заново. Начальство почти не препятствовало: меньше трат провизии, меньше обузы. В городе каторжники были, по сути, лишь помехой: солеваренный завод, на котором они работали, был старый, маленький и никому не нужный — море близ устья реки было малосолёное, соль получалась ни на что не годная, и даже в самом Охотске предпочитали покупать привозную на кораблях соль, тем более что и стоила она не так уж дорого. Охотский солеваренный завод существовал лишь по бюрократической прихоти какого-то чиновника на другой стороне материка, и очевидная всем бессмысленность его существования делала работу на нём ещё более невыносимой.
— Бежать буду в мае, — говорил Васька Малой, сваливая мешок, полный серой крупной соли, в кучу других на обледенелом плацу. С беспредельной и жутко белоснежной под морозным солнцем равнины моря, щерящейся по краю голубоватыми торосами, задувал рвущий, треплющий одежду, дерущий кожу колючими иглами ветер, снежные змеи позёмки стыло хлестали в ноги. Рядом, свалив свой мешок, остановился Меркулка Прыщ.
— Чего говоришь? — переводя дух и отворачиваясь спиной к ветру, переспросил он.
— Драпать буду в мае, говорю, — хмуро сказал Васька Малой. — Мочи нет тут больше.
— А мне почто говоришь? — одышливо сказал Меркулка, для тепла прихватывая драный тулуп на воротнике. — Зовёшь с тобой бежать, что ли?
— Ну… — будто смущённо отозвался Васька. — Одному невесело, кумпания нужна.
— Ну убежим, — рассудительно сказал Меркулка, — и чего делать будем? По лесам бродить, пока медведь не задерёт?
— К тунгусам пойдём, — с готовностью сказал Васька. — Я уж продумал всё. Заберём ножей, ружьё у караульных, пойдём тунгусов искать. Они народ мирный, боязливый. А там уж и жратва человечья, и бабы, и что хошь.
— К тунгусам ещё выйти надо, — с сомнением сказал Меркулка.
— Выйдем, — уверенно заявил Васька. — Вон, дурачка с собой возьмём, — он показал на Филимошку, медленно переставляющего ноги, тащащего на плечах мешок с солью в снежной солнечной пыли, шатающегося под вьюжными порывами.
— Его-то зачем? — не понял Меркулка.
— Аль не знаешь? — прищурился Васька. — Как еды не хватит, как быть? А вот как, — кивнул он на юношу, — чумазика этого заколем да съедим.
— Человека-то… — задумчиво протянул Меркулка.
— Не ссы, я ел, — уверенно сказал Васька. — Что свинья, что человек, на вкус не отличишь.
—
Июнь 1836 г.
Якутская область,
долина реки Юдома
Трое беглецов шли по шуршащему щебнем склону, в тенистых местах покрытому длинными языками лежалого снега. Зелёно-буроватые горы, покрытые редким, как расчёска на просвет, лесом, складками уходили к далёкому горизонту, местами в клочьях облаков, напоминавших дым от пожара, и эти облачные гривы можно было спутать с настоящим дымком, поднимавшимся от тунгусского становища на берегу быстрой, ледяно бегущей по камням реки Юдомы.
Это было первое человеческое жильё, увиденное беглецами за три недели пути. Взятые из Охотска припасы давно кончились, и Васька с Меркулом уже поглядывали было на тупо, бессмысленно сидящего на часах у костра Филимошку, не обращающего внимания даже на тучи мошки, но повезло — на тракте подвернулся купчина, везший муку: убивать его не стали, потребовали лишь платы. Купец, привычный к бандам каторжников, рыскающих по тракту, спорить не стал, поделился двумя мешками. Неделю после этого Васька с Меркулом пировали выпеченными в золе лепёшками, которые сперва казались слаще мёда, и удивлялись равнодушию Филимошки к еде, к побегу, к мошке, ко всему. Наконец, приелись и лепёшки, двинулись дальше. И вот вчера светлой июньской ночью заметили это небольшое кочевое становище: черно чадящий очажным дымом чум, бурые циновки у порога, плетни, стадо оленей, горб длинной лодки у берега — и тут уж не раздумывали, с утра пошли грабить. Не могли уснуть ночью — мечтали о том, как наедятся оленины, развлекутся с плосколицыми, смуглыми, маленькими тунгусками, потом поплывут прочь на лодочке, с удобствами.
Лес был весь в густом шелестящем на холодном ветру кустарнике, и шли шумно, разбрасывая руки, хрустя ветками. Прятаться, красться не собирались — даже если бы тунгусы убежали, говорил Васька, им достался бы лагерь: крыша над головой, жратва. Меркулка ещё побаивался идти втроём (а по сути вдвоём, не считать же дурачка за подмогу) против десятерых, но Васька его успокоил: тунгусы смирные и боязливые, говорил он, так ему рассказывали другие каторжники, русских они боятся и всё отдадут, тем более что у них — ружьё. Старое кремневое ружьё, правда, было без пороха и пуль (их стащить не удалось), но Васька рассчитывал, что в страх туземцев вгонит один вид оружия. И вот сейчас они втроём спускались по осыпающемуся склону к реке, просвечивающей сквозь чёрно-рыжую гребёнку редколесья какой-то неземной голубизной быстрой ледяной воды с белыми как кости каменистыми отмелями.
Васька только и услышал свист, шум, вскрик. Он обернулся и не увидел Меркула, шедшего рядом, — только примятый кустарник закачался, а в следующий миг что-то остро и сильно ткнуло ему в бок: Васька вскинул ружьё, целясь в качающиеся, мельтешащие перед глазами зелёные кусты, и увидел выскочившую перед ним плосколицую, тёмную фигуру в меховой шапке и вышитом халате. «Застрелю!» — отчаянно закричал Васька, но тунгус уже целил в него луком с костяной стрелой. И второй стрелы не хватило, чтобы убить — стрела болезненно, но неглубоко засела под ключицей. Васька выдернул её, бросился на тунгуса — но тут дух перешибло стрелой, прилетевшей сбоку, угодившей под ребро. Только тогда он рухнул и завопил о пощаде, отмахивался руками, весь уже в крови, а собравшиеся вокруг тунгусы тыкали в него тонкими зазубренными острогами. «Вот и добегался», — только и успел горько подумать Васька, как вдруг удары прекратились: тунгусы отпрянули.
— Бусиэ, бусиэ! — кричали тунгусы, оглядываясь, показывая на что-то в стороне. Кто-то из тунгусов натянул лук, выпустил стрелу, но — тут же бросился бежать, а вслед за ним его товарищи, один за другим, крича только одно это своё непонятное слово «Бусиэ!». Не зная, кого благодарить за нежданное спасение, Васька со стоном, с мучительной болью перевернулся на бок, вскинул окровавленную, разбитую ударом остроги голову — и увидел дурачка Филимошку, истыканного стрелами, но отчего-то не собирающегося падать. Вместо этого бледный дурачок медленно приближался к Ваське.
Сентябрь 1836 г.
Якутская область,
казачий пост Юдомский крест
— Доброе ружьишко у тебя, Негор Коргаевич, — сказал бородатый, рыжий казак Леонтий пожилому морщинистому тунгусу, привезшему оленину на продажу. — Где взял?
— Где взял, там нету, — с хитрецой отвечал Негор Коргаевич, аккуратно пересчитывая затёртые медяки, прежде чем бережно сложить их за подкладку шапки. Они сидели за столом в тесной тёмной избе казачьего поста на Охотском тракте — одном из немногих поселений на этом тысячевёрстом пути по диким горам и тайге.
— Отдай ружьецо, Негорка, — добродушно попросил казак. — На что тебе оно?
— Червонец надо, тогда отдам, — кивнул головой тунгус, как болванчик.
— Эк загнул, червонец, — рассмеялся Леонтий. — А за так отдать не хочешь?
— За так довольно плохо, — убеждённо отозвался тунгус. — А отберёшь, за Алдан мал-мала побегу, сам оленя паси.
— Ладно, ладно, — смягчился Леонтий. — Гляди, что дам, — и полез за печку, достав оттуда кубоватый водочный штоф. Глаза у Негорки так и загорелись, с удовлетворением понял казак — за водку у этих туземцев можно было выменять что угодно.
Водка была плохая, разбавленная, крепости почти не чувствовалось — и всё равно Негорка захмелел чуть не с первого глотка, как с тунгусами и бывало: один-два стакана даже вчетверо разбавленного хлебного вина валили с ног любого, даже самого крепкого туземца. Казак уже предвкушал, как Негорка, нахлебавшись сивушного зелья, отдаст ему всё вырученное за оленину да и одежду заложит, лишь бы получить добавку. Пока Негорка, однако, ещё совсем не окосел, только бормотал что-то на смеси своего наречия и русского, упершись локтями в стол.
— Довольно хороший ты человек, Лёнтий, предупредить тебя мал-мала хочу, — вскинул вдруг Негорка пьяный взгляд на собеседника, развалившегося за столом напротив.
— Что случилось? — заинтересовался казак. — Каторжники в округе появились?
— Каторжники — нет! — размашисто всплеснул рукой Негорка. — Был каторжник, уже всех мал-мала побили! (Ага, вот откуда у него ружьё, — отметил Леонтий) Бусиэ теперь есть, бусиэ довольно страшней.
— Что за бусиэ? — лениво спросил Леонтий.
— Бусиэ и есть бусиэ! — пожал плечами Негорка, не зная, как объяснить, и, наконец, сообразил. — Мертвец по-вашему. Земля мертвеца не берёт, ходит мертвец по тайге, мал-мала других ест.
— Пошёл молоть, — презрительно махнул рукой Леонтий. — У нас на Дону тоже много сказок бают…
— Ай, не сказки! Не сказки! — пьяно возмутился Негорка. — Что говорю, почему не веришь? Думаешь, Негор Коргаевич пьяный, что говорит, не знает? Негор Коргаевич сам бусиэ видел, вот этими глазами очень довольно видел! Ходит по лесу бусиэ, людей ест, кровь пьёт! На вид русский человек, только мал-мала бледный, как из земли достали! Уже троих тунгусов убил, а всё ходит, ходит! По Юдоме ходит, вверх пошёл, вниз пошёл, кого встретил — тот уж потом не живой!
Леонтий молчал, не зная, как относиться к этому пьяному вздору. За толстым мутноватым стеклом в маленьком окошке холодное осеннее солнце закатывалось за чёрные отроги гор, жутко темнела необъятная чаща тайги, белел снежок под окном. «А может, и правда, чёрт ведь их знает, этих тунгусов» — тоскливо подумал Леонтий и очень отчётливо понял, что никогда не вернётся на тихий Дон, к родным сливовым садам, плетням, беленым хатам: так и погибнет тут на неприветливой чужбине, не ставшей домом и через десять лет службы. Короткое лето, невыносимо долгая, тягостная зима, — ещё сентябрь, а снег уже лёг, — беглые каторжники, снующие по тракту, тунгусы, якуты, гольды, медведи, змеи, гнус; теперь вот ещё какое-то бусиэ. «А черт их там разберёт, может, и правда», — повторил про себя Леонтий и вздрогнул от подкатившей жути.
— Ну и как спастись от бусиэ? — спросил он тунгуса.
— Убежать можно, — просто ответил Негорка.
— Что, просто убежать? — не поверил Леонтий.
— Можно, можно! — закивал головой тунгус. — Ты говоришь — сказки! В сказках убежать никак, а на самом деле довольно можно! Я убежал, сын мой с дочерью убежали, значит, довольно можно. Только знаешь, чего нельзя? — низко склонился он над столом и чуть не свалил рукавом полупустой штоф — Леонтий ловко придержал бутылку. — Знаешь, чего нельзя? — жутким шёпотом спросил он.
— Ну и чего?
— Не спрашивай его имя! Никогда не говори ему «как тебя зовут». Спросишь — имя его узнаешь, да только не расскажешь больше никому!
-
Твоя история — она не про вампира. Она про людей вокруг вампира, людей, сталкивающихся с ним так или иначе. Сам Игнат как бы истончается, растворяется, теперь вот вконец оскотинился — чувствуется, что тебе куда интереснее живые люди от эпохи к эпохе. Мелькают один за другим безумный старец старообрядцев и распутная монашка, воевода и царь, суеверный бандит, мятежники-пугачевцы, Пушкин (это же Пушкин был?), теперь вот царская каторга, сама по себе действующее лицо, и язычники тунгусы.
В этой удивительной "человечности" в общем-то достаточно бесчеловечной истории её шарм. Как "Дракула" Стокера, только более жизненно.
-
-
-
Читаешь - и приятная тоска: тоска - потому что тоскливо, а приятная, потому что живешь в 21 веке.
|
-
То, что видит упавший и ждущий взрыва человек, все эти мелкие детальки - превосходно!
-
Да, признаю, круто получилось, туше).
|
Это действительно была дрезина: вглядевшись в темноту, за бьющим через метель бело-радужным лучом прожектора различили чёрный силуэт низенькой самодвижущейся платформы, сгорбившуюся шинельную фигуру на ней. Вглядывались в темноту, пытались разобрать, не идёт ли кто за дрезиной — да нет, кажется, никого не было: только человек (ну, или двое-трое — сказать было сложно) за рычагами на платформе, с винтовкой за спиной.
— Да там один человек, братцы! — громким шёпотом окликнул дружинников Чибисов, оглядываясь от угла вагона на казанцев. Зефиров, сглотнув, перехватил револьвер, присев на колено, изготовившись стрелять, как только дрезина приблизится.
— Да давай, давай, лезь под вагоны, давай стреляй по дрезине! — одновременно с ним закричал Никанор.
— Не стреляй, не стреляй пока! — закричал на товарищей Даня, молодой парень в шали. — Пускай ближе подъедет!
— Едет, едет! Ну едет же! — закричал Зефиров.
— Там один, один человек!
— Не стрелять пока, не стрелять!
— Пли по моей команде! — во всю глотку гаркнул моряк Мартын, устроившийся с винтовкой у сцепки между цистерной и соседним товарным вагоном, и, в общем, тут уже мало значения имело, что кричали Анчар с Герой: им обоим стало ясно, что в этом нервном суматошном оживлении от неожиданного появления дрезины, да ещё и не с той стороны, откуда все её ожидали, не удастся ни докричаться до казанцев, ни тем более заставить их куда-то перебегать — хорошо ещё, если действительно начнут стрелять по команде Мартына, а не просто так, когда кому вздумается.
Со стороны хвоста соседнего состава из метели появился Балакин, трусцой перебегающий между стальных полосок рельсов с бомбой в руках.
— Что там? — вытягивая шею, на бегу крикнул он.
— Давай сюда! — обернулся Зефиров, и, как и Анчар, как и Гера, увидел, как сапог Балакина попал между припорошенных крупчатым снегом тёмных шпал, задел носком за кромку шпалы, неловко подвернув ногу, как инстинктивно выбросил вперёд руки, уже не удерживающие бомбу, — и как со всего размаху грохнулся на железнодорожное полотно, выронив перед собой бомбу, тупо и глухо брякнувшую жестяным боком о рельс.
-
Вот я всегда побаиваюсь ЖХ в апоке, но у тебя они получаются хотя бы довольно неожиданными))).
-
|
Джунгли обступали со всех сторон, не давала вздохнуть парная, парчовая жара, томно липли к телу бархатистые листья, вились лианы, закрывая яркое полуденное небо завесой, и невероятными красками тут и там горели райские цветы, утомляя глаз бесконечной ядовитой пестротой. Всё это испускало тяжёлый, влажный тропический аромат, тёплой сыростью пробирающийся под одежду, парно и густо несло от чёрной земли, и лишь когда станок-американка набирал полный ход, мерно ворочая жирно-чёрными рычагами, к цветочному духу примешивался другой, едкий, керосинный, типографский. 10.04.1906
Нижний Новгород, Большая Печёрская,
оранжерея при цветочной лавке Вениамина ЛазареваРаботать в подпольной типографии — не то же, что заседать в комитете, агитировать на заводе или даже участвовать в терроре: там просто опасно, здесь — опасно и тяжело, там — игра в орлянку со смертью; здесь — добровольная каторга. Ещё когда Константин работал в обычной, легальной типографии, он считал, что труд наборщика тяжёл; посмотрел бы он тогда, каково приходится работнику подпольной типографии, в одиночку тащащему на себе всё дело! Ещё и место для типографии выбрали в жаркой, душной, парной оранжерее, будто нарочно хотели утяжелить труд: шрифткасса делила стол с горшками, из которых на толстых зелёных стеблях лезли разноцветные гиацинты, верстальный стол выдвигался из-под стеллажа, всего тонущего в цветастой зелени нарциссов, лилий, сам же станок располагался в самом зелёном углу оранжереи, стены которого были плотно занавешены волнами плюща-вьюнка, пышными хризантемами в подвешенных на цепях горшках: Константин проверял — можно пройти снаружи оранжереи, заглядывая через стеклянную стену, и не заметить станка. Вообще ловко это Лазарев, глава городского комитета ПСР и владелец местной цветочной лавки, придумал — устроить типографию прямо у себя. Устроили-то типографию недавно, ещё месяца она не проработала: Константин вышел из тюрьмы ещё в феврале, сразу же обратился к Лазареву, тоже только что освободившемуся, — мол, будем восстанавливать типографию или нет? Тот говорит — станок есть, нет денег на бумагу и краску, а ещё где-то шрифт надо доставать: старый весь арестован, запасов нет. Константин начал искать, вышел на большевиков в Сормове — они всегда там были сильны, и даже после декабрьского восстания кое-кто остался — узнал, могут ли они помочь с типографией. Вообще большевики с эсерами ладили по-разному: где-то неплохо, где-то враждовали между собой чуть ли не сильнее, чем с царём. Но в Нижнем отношения были ничего: Цветков, большевик, ведающий их типографией, сказал, что помочь может, — и бумагу, дескать, достанет, и краску, у него есть связи в легальных типографиях, но, само собой, не за бесплатно. Шрифт тоже достать может, и петита, и полужирного, и курсива, и на заголовки отсыплет — по десятку рублей за фунт. Даже учитывая, что этот шрифт кто-то из легальной типографии должен был своровать, цена была дикая. Очевидно, большевики на этом ещё и заработать собирались, но делать нечего — других вариантов не было. Денег, впрочем, тоже пока не было, так что оставалось только ждать. Ждать, однако, пришлось недолго: уже в начале марта Лазарев — пожилой, седобородый, но по-молодому энергичный и увлекающийся глава комитета, сам заявился к Константину домой и, потрясая десятками в кулаке, чуть ли не закричал, что деньги есть, есть, есть! И больше ещё будет — горя глазами, заявил он, — тысячи не тысячи, но на сотни рублей теперь можно рассчитывать! И уже через неделю Цветков, встретившись с Константином в трактире, передал ему под столом тяжёлый холщовый мешок, битком набитый побрякивающими кубоватыми гартовыми литерами. «Бумага будет к среде, газетная, тридцать фунтов листами», — пересчитывая червонцы, сказал большевик. Константин спросил про краску. «А краску хоть завтра забирай, у нас много» — ответил Цветков. С тех пор работа закипела. Вокруг занималась весна, пригревало солнце, по выточенным во льду каньончикам текли ручьи, хрустко шелестел под ногой слежавшийся слюдяной снег — но это всё у других: Константин теперь жил в джунглях. Лазарев сказал, что появляться Константину на улице теперь опасно: охранка знает о том, что он, Вениамин Егорович, — видный в провинции эсер; возможно, за его домом следят. Постоянные и длительные визиты Константина могут вызвать подозрение, поэтому лучше ему на какое-то время вообще перебираться сюда: ночевать у Лазарева дома, днём работать за станком. Ничего необычного в таком предложении не было: работники подпольных типографий часто обрекали себя на подобное затворничество, на работу в четырёх стенах каждый день, без выходных, с утра до вечера, не выходя из помещения со станком — лишь бы была бумага, краска да текст. И, если с материалами ещё и случались перебои, то в текстах недостатка не было: за месяцы простоя типографии со времён декабрьских арестов комитет изголодался по новым брошюрам, листовкам, так что работой Константина загрузили сразу да так, что было не продохнуть. — Вот, держите, Костя, — говорил Лазарев товарищу, протягивая исписанный листок, озаглавленный «Наши задачи». Лазарев, конечно, знал, что Константин Юлианович Сковронский было не настоящим именем печатника, и даже знал настоящее — но предпочитал даже в приватной обстановке придерживаться конспирации. — К завтрашнему дню нужно пять тысяч экземпляров. От этих слов сразу будто придавливало: пять тысяч экземпляров к завтрашнему дню, и всё один! Да, пять тысяч к завтрашнему дню, да, один. Краска есть, бумага есть — и Константин шёл в оранжерейную духоту к хризантемам и станку. Сначала листовку нужно было набрать: садился с верстаткой у шрифткассы, разбирал заковыристый почерк Лазарева, брал из ячеек тяжёлые, мажущие свинцовой краской пальцы столбики литер, складывал их в текст. Потом на верстальном столе выкладывал из кусков набора с верстатки гранку, внимательно читал — в типографиях молодые работники ещё читали гранки через зеркало, ǝɓиʚ wоннǝжɐdɯо ʚ ɯɔʞǝɯ ņоƍoıv vɐɯиҺ оʞɹǝv ǝжʎ ʞиmdоƍɐн ņıqнɯıquо он. Находились опечатки — брал крючок, выковыривал литеру, заменял. Наконец, гранка была готова, оставалось только установить на таллер и начинать печать. Лазарев где-то рядом щёлкал секатором, поливал свои цветочки из шланга, копался с совочком. Константин приступал к печати. Это была самая долгая, самая утомительная часть работы: время в монотонной одинаковости действий измерялось не часами, а экземплярами — первая тысяча, полторы тысячи, — ох, как всегда тяжело переваливать через первую треть: сколько уже сделано, а впереди ещё вдвое больше — две, три тысячи в каком-то бездумном неистовстве открывшегося второго дыхания, — краска кончилась, принести новую банку, по пути обратно чуть-чуть подышать холодным весенним воздухом, присесть передохнуть на пороге и сидеть так час, другой, пока не настигнет понимание, что надо продолжать работу — и возвращаешься в тёплую духоту, и печатаешь три пятьсот, три семьсот, четыре, четыре шестьсот, — очень медленно пошло, а ведь осталось всего четыреста, — четыре восемьсот — и на восемьсот тридцатом экземпляре закончились четвертинки бумаги, пришлось отвлекаться, с какой-то остервенелой лихостью от приближения финала хватать линейку, нож, крест-накрест нарезать газетные листы, будто врага кромсаешь, — наконец, четыре девятьсот пятьдесят, восемьдесят, девяносто пять — и уже с торжествующей злобой на разогнавшейся инерции можно было сунуть в станок пять тысяч первый и пять тысяч второй экземпляр: подавитесь, товарищи, не жалко!  Я уже кидал и эту картинку, и ссылку на это видео в Архангельске, но продублировать и здесь не помешает. В общем, станок-американка работает вот так: ссылкаС кровяным шумом в голове, с воспалёнными глазами, кисло дерущими при закрытых веках, весь очумелый, с непрекращающимся звоном тигеля о таллер в ушах, с пальцами в краске и гарте, с ногами после многих часов нажимания на педаль как две раскалённых гири, Константин оглядывался на стеклянную крышу оранжереи и видел светлое небо: было уже утро. Нужно было что-нибудь поесть, что там Лазарев ему оставил в столовой (при мыслях о еде после такого марафона подташнивало, но Константин знал — если сейчас не поесть, потом будет совсем худо). Затем оставалось умыться и брякнуться на кушетку в не дающей заснуть крутящей, дурной горячке, а потом и в мутном сне слышать всё тот же звон, так же наступать ногой на качающуюся рифлёную педаль, так же руками класть пустую четвертинку на тигель и снимать уже с оттиском — и лучше было не думать, как небрежно будут поступать с этими листовками распространители, как будут разбрасывать их по улице, по цехам, рассчитывая, что хоть одну из десяти, из ста кто-то подберёт, прочитает. Всё ещё не в силах прогнать из головы железный стук станка, примеряя самый ход мысли под механический ритм рычагов и валиков, Константин обедал (завтракал, ужинал?) в маленькой бедной столовой Лазарева на втором этаже его неухоженного мещанского домика: Лазарев был вдовец, и в доме без женской руки у него всё было наперекосяк, и еда была чёрт-те какая: цветы он растил замечательные и комитетом руководил толково, а ни прибраться не умел, ни щей сварить, а прислугу, конечно, не нанимал. За окном дробно падала капель, по-весеннему ярко и весело светило солнце, цокали копыта, шумел утренний народ, а Константин без аппетита грыз оставленную Лазаревым холодную курицу, когда замок залязгал и в доме появился хозяин. — Костя! — не раздеваясь, Лазарев прошёл в столовую, и Константин уже по извиняющемуся взгляду Лазарева с усталым ужасом понял, что он сейчас скажет. — Сегодня надо ещё три тысячи оттисков. На город хватило, но приехал товарищ из Арзамасского уезда, хочет у себя распространять… — и, не спрашивая, готов ли Константин печатать, Лазарев лишь осведомился: — Бумаги, краски достаточно? Достаточно, достаточно было и бумаги, и краски. Пошатываясь, на не своих, будто ходульных, ногах Константин брёл обратно к станку — и так повторялось изо дня в день, и чем дальше, тем работы было больше. В первые недели Константин ещё временами выходил из дома Лазарева, теперь стоял за станком безвылазно: приближался Первомай, возрождающийся комитет с каждым днём всё усиливал работу. Теперь уже это был не просто кружок, — говорил Лазарев, — теперь у них были люди и на основных заводах, и специальные агитаторы для войск (и «Къ солдатамъ» Константин тоже печатал), и отдельная судоходная организация для матросов волжских пароходов начала работу — и всем нужна была литература. На Первомай будет вам, Костя, выходной — пообещал Лазарев, и с усмешкой подумалось, что даже каторжанам (писал Достоевский) дают два выходных дня — на Рождество и Пасху: а вот у революционеров была только рабочая Пасха, а рабочего Рождества не было. А ведь в любой момент к Лазареву с обыском могут нагрянуть жандармы, — и даже с предвкушением об этом думалось: вот нагрянут, застанут Константина у станка, арестуют, посадят в тюремный замок — и какое блаженство будет целыми днями лежать на нарах в камере под сводчатым потолком, не работая! Но пока никто никого не арестовывал, и работы было много — листовки, брошюры, перепечатки из других эсеровских изданий. Сперва Лазарев носил литературу сам, обвязывая стопки листовок вокруг тела в холщовых мешках, чтобы филёры не видели, что он выносит. Потом Лазарев перестал справляться — стопки бумаги оставались в оранжерее, он не успевал их выносить. «Я найду кого-нибудь себе в помощь, — говорил он Константину. — Может, Костя, вам тоже подыскать помощника? Или справляетесь один?» Справлялся он, справлялся один. — В пятницу за литературой придут, — наконец, сообщил Лазарев как-то вечером. — Две барышни, одна постарше, её зовут Гертруда Эдуардовна, другая помоложе, Варя. Проверьте, что пришли именно они: Гертруда должна говорить с прибалтийским акцентом, а Варю попросите перекреститься — она староверка. Обе они в нашем деле люди новые, но, я думаю, если всё получится, носить литературу отсюда они сами и станут. Букеты я им сделаю, чтобы с пустыми руками из лавки не уходили. 15:33 14.04.1906
Нижний Новгород, Большая Печёрская,
оранжерея при цветочной лавке Вениамина ЛазареваИтак, всё было, наконец, готово. К этому дню Варя и Гертруда готовились неделю и, кажется, всё продумали как следует: Варя заканчивает уроки в гимназии в три, Гера встречает её на улице с четырьмя шляпными коробками. В коробках — старые шляпки Вари и Марьи Кузьминичны, уже не нужные. В городе есть благотворительная организация «Белый цветок», она принимает старую одежду для бездомных — то есть, конечно, шляпки она не принимает, это глупость, думать, что босякам с пристаней нужны дамские шляпки с райскими птицами — но кому в доме Сироткиных какое до того дело? Вроде все поверили, что так и есть, да, впрочем, никто и не вдумывался в то, какую там благотворительную инициативу со шляпками Варя с Герой затеяли. Итак, со старыми шляпками они вдвоём отправляются в цветочную лавку на Большой Печёрской. Там их встречает работник подпольной эсеровской типографии (настоящий подпольщик!), передаёт им литературу. Шляпки при этом — долой из коробок, на их место помещаются листовки. С набитыми листовками коробками Варя с Герой возвращаются домой: шляпки отдали, коробки принесли домой, не оставлять же там коробки: хорошие коробки пригодятся (неправдоподобно для дочки миллионщика? Спишем на староверскую бережливость). Правда, коробки будут не пустые, а тяжёлые, но — ничего, как-нибудь, стараясь не особо пригибаться под их весом, проскочим мимо отца, Марьи Кузьминичны, доктора, слуг и инокинь (вот они самые назойливые), ну а дальше просто спрятать в шкафу в Вариной комнате и потом понемногу выносить и передавать тем, кому Вениамин Лазаревич укажет. Кажется, всё просто? Ну, тогда вперёд — первая нелегальная работа началась!
-
Смесь типографии и оранжереи получилась прекрасно, просто прекрасно! Плавное перетекание одних описаний в другие, взаимопроникновение, душность и тяжесть - великолепнейший стиль и богатый язык!
-
а ведь и правда смог прочесть без всякого зеркала
|
Один голос Смирнова дела не решил: ещё и кричали, и спорили, и махали руками, но уже скоро призывавшие нападать на китайцев и сами поняли, что большинство отряда их не поддерживает. Уходить от тёплого, дымящего трубой хуторка, не добыв еды, не обсохнув, не отдохнув, никому не хотелось, но лезть на вооружённых китайцев хотелось ещё меньше и в конце концов все согласились с предложением Григория. — Вы хоть лопату дайте, ходяшки! — недовольно крикнул китайцу-переговорщику Тимофей Иванов, до последнего убеждавший рязанцев идти в бой. Китаец-переговорщик не понял, развёл руками. — Да есть у меня! — надсадно крикнул Захар Языков, у которого на поясе действительно висела маленькая пехотная лопатка. — Пошли отсель, пошли! Видя, что русские уходят, китайцы понемногу начали выглядывать из укрытий — настороженно показались из-за угла сарая, в окнах. Рязанцы засобирались, поднимались изо ржи, поглядывая на китайцев, подходили к убитому Бабкину. Фима повесил себе на плечо его винтовку, Семён, Григорий, Саня Соловьёв подхватили сразу показавшееся очень тяжёлым тело, неотзывчивое, в мокрой шинели, с запрокинутой головой, свисающими руками. Понесли прочь. У кого руки были не заняты, не выпускали из рук винтовок, поминутно оглядываясь на хутор, где на двор выходили китайцы, подходили к телам своих убитых, опускались на корточки рядом. Судя по галдежу, заново поднявшемуся за спиной, китайцы опять о чём-то заспорили, но рязанцы уже были далеко. Длинная поляна неправильной формы протянулась на несколько вёрст вдоль узкой, но тёмной, судя по всему, глубокой и холодной речки. У хутора, приметили, через речку был перекинут пешеходный деревянный мосток, но здесь не было ни мостика, ни брода. Речка текла как раз оттуда, где по словам китайца была Обозерская, и припомнили, что на Обозерской видели речушку, называвшуюся Ваймуга, — может, это она и есть? Точно сказать, конечно, никто не мог.  Шедевр картографии от ОХК.   Примерно те места, ага. От хутора отбрели примерно на версту-другую. Поле тут уже закончилось, шли по некошеному мокрому лугу, уже скоро упирающемуся в стену густого высокого елового леса с белыми нитками желтеющих на общем зелёном фоне берёз. Здесь и остановились. — Ну чего, здеся? — спросил Фима Окладников, оглядываясь назад. Хутор отсюда уже не виднелся. Туман уже совсем рассеялся. Было тихо особой утренней лесной тишиной, которую лишь дополняют скользящие птичьи просвисты и чирки, журчание тёмной, почти чёрной воды под глинистым травянистым бережком, мелкие плески рыбы. Семён, Григорий, Саня опустили тело Бабкина на траву. Кто-то глубоко вздохнул, закидывая винтовку на плечо, кто-то смущённо закашлялся, кто-то полез за куревом. Все молчали, оглядывая местность, друг друга: четырнадцать грязных, промокших мужиков в шинелях с винтовками. — А надо было всё ж… — начал было Тимошка Иванов, усаживаясь на корточки. — Да заткнись ты… — тоскливо посоветовали ему. Закуривали, присаживались на корточки. Кто-то отошёл к воде, низко склонившись, зачерпнул горстями, умыл лицо, сказал «Холодная, сука». — Ладно, давайте, что ли, — Захар Языков вздохнул, достал свою лопатку, присел на колени, с жирным звуком вонзил прямоугольное острие в дёрн, отколупнул пласт. У кого-то нашлась и другая лопатка: вдвоём дело пошло быстрее. Менялись, привычно рыли, как сотни раз до того окопы, бросали серо-рыжую песчанистую землю. Вручив лопатку Смирнову, Фима Окладников вылез из углубления, отряхнул землю со штанин и присел у трупа Бабкина, начав шарить по карманам. «Патроны, — пояснил Фима, не поднимая головы, — патроны надо взять. Патроны наперечёт» — и действительно, снял патронные сумки, но не забыл вытащить и кисет с махоркой, а затем и дешёвенькие часы в тонком серебряном корпусе. На него неодобрительно смотрели, ничего не говоря. «Чего табаку-то пропадать? Коле, чай, уж без надобности он» — хмуро сказал Фима и спрятал кисет за пазуху, но часики всё-таки сунул обратно в карман шинели Бабкина. — Жрать охота… — с выражением тупой коровьей грусти протянул щекастый, большой и рыхловатый, как плюшевый медведь, Саня Соловьёв, сидящий над водой у бережка, бросил в воду окурок самокрутки и длинно сплюнул. — Да не трави душу, — мрачно откликнулся бритый налысо Васька Иванов, стоящий рядом. Действительно, есть хотелось всем: в желудках у всех ныло и бурчало, от курева подташнивало, рот обильно наполнялся слюной. По небу ползли клочковатые облака, временами открывая уже высоко забравшееся над острыми вершинами елей солнце, которое даже чуть-чуть начинало пригревать — нежарко, по-осеннему застенчиво. Со стороны ближнего леса возвращался, широко шагая, Андрюха Макаров с двумя прямыми еловыми палками для креста. Достали ножи, принялись строгать. Наконец, всё было готово: могилу вырыли с полуростовой окоп, сварганили какой-никакой крест из перевязанных бечёвкой (у кого-то нашлась) палок. Кликнули разбредшихся было по округе бойцов, собрались все у могилы, один за другим поснимали шапки по примеру первого снявшего. Молчали, каждый не зная что сказать. Семён, который Бабкину был самым большим другом, ещё с фронта, и которого Бабкин вчера вечером спас от расправы, безмолвно стоял со всеми, опустив голову. Фима Окладников встал чуть в сторонке по староверской привычке держаться в таких церемониях наособицу. Коля Бабкин лежал у ног товарищей с заострившимся, бледным, безмятежным лицом и круглой красно-чёрной раной ровнёхонько в середине лба. — Как-то не по-христиански… — поскребя щёку, по-юношески ломающимся голосом тихо сказал тощий, молодой, в своей шинели с чужого плеча выглядящий пугалом Захарка Языков. — Без батюшки, без всего закапываем. Как кошку. — Чё? — вдруг зло вскинулся на него крупный, коренастый, небритый Андрюха Макаров. — Батюшку тебе надо? Иди, блядь, к ходяшкам, спроси у них, может, кто там сан имеет?! — Тихо, тихо, тихо! — бойцы перехватили Андрюху, бросившегося было к отпрянувшему Захарке. — Хорош, Андрей! Хватит! — Да ладно, ладно… — оправдывался Захарка, — я не хотел. — Действительно, — глухо сказал Семён, оглядывая товарищей. — Давайте уже, — показал он на тело. Семён подхватил Бабкина за плечи, Макаров за ноги. Приподняли, опустили в могилу. Кто-то уже нагнулся к свежей рыхлой земле, чтобы бросить горсть, но Тимошка Иванов жестом показал подождать, сам, встав на колени, наклонился над могилой и сложил руки Коли на груди. «Вот так как-то пристойней, — поднимаясь, сказал он. — А молитвы кто прочитать может? Со святыми упокой?» Он оглянулся по сторонам. Кажется, какие молитвы нужно в этом случае читать, никто не знал, а если и знал, то не помнил наизусть. — Вон Фима должен знать, — показал на стоящего в сторонке старообрядца Семён. — Я не вашей веры, — хмуро откликнулся Фима, отворачиваясь. — Фима, ну ты чего? — попросили у него. — Сказал, не буду! Давайте закапывайте уже! — рявкнул Фима. — Я вообще не знаю, какой веры уже, — буркнул он себе под нос. — Чего встали? — со злой решительностью подался вперёд Андрюха Макаров. — На фронте никогда товарищей не хоронили, что ли? Давай, быстро-быстро и почапали дальше! Подобрав воткнутую в землю лопату, Макаров уже быстро закидывал тело в тёмной шинели землёй.
-
однозначно устроить салют
-
|
12:20
Кафе «Париж»
Когда Рауш уходил отсюда, кафе в крыле губернаторского дома было ещё пустое, непроснувшееся; сейчас «Париж» уже был в своей пристойной, но уже бойкой дневной фазе — той, когда в ресторан ходят ещё не кутить с вином и этуалями, как ближе к вечеру, а пообедать в середине рабочего дня (что, впрочем, вина не исключало). Ещё у порога Рауш приметил каких-то штатских господ, судя по прилизанному, гладкому виду и неродной, но быстрой французской речи — дипломатов, вышедших на ленч из канцелярий своих посольств, расположенных тут же в здании. Дипломаты скосились на проходящего мимо русского офицера: Рауш догадывался, что многим из посольских работников не совсем по душе делить заведение со штабом Чаплина, выделяющимся на общем фоне.
Швейцар услужливо открыл перед Раушем дверь, дежурящий у гардероба латыш в белом переднике дёрнулся было, чтобы проводить нового гостя к свободному столику, но быстро остановился, увидев погоны: если русский офицер, то и так ясно, к кому он. Сцена, как и утром, темно пустовала, но просторный зал был уже местами занят — одиноко обедал какой-то молодой дипломат, в другом конце зала о чём-то со смехом разговаривали два американских офицера, белокурая официантка подошла с подносом к столику, занятому иностранной штатской компанией. От буфетной стойки по Раушу профессионально оценивающим взглядом скользнули рыженькая Лара и после тифа стриженная под мальчика шатенка Муся — обе они, Рауш знал, себя держали высоко и оплату брали исключительно в иностранной валюте.
Штаб Чаплина, как и обычно, располагался в своём углу у окна, за парой заставленных стаканами и тарелками столов. Георгий Ермолаевич был здесь, сидел с папиросой в пальцах, о чём-то оживлённо разговаривая с князем Александром Александровичем Мурузи — моложавым, хоть и немолодым, щеголеватым низкорослым полковником, — лейб-гвардейцем, лётчиком, генштабистом, героем войны.
Представитель старинного греческого рода, Мурузи был одним из немногих дворян в Архангельске, по родовитости превосходящих Рауш фон Траубенбергов, и, может быть, поэтому имел тяжёлый, снобский характер. Это ещё ладно, что к Чайковскому и всем его эсерам он относился даже не как к людям, а как к насекомым каким-то, — но и с товарищами-офицерами он частенько вёл себя так, будто одолжение делает, что снисходит до разговора, и даже Чаплина сейчас слушал с таким видом, откинувшись на спинку стула, закинув ногу на ногу, будто Георгий Ермолаевич у него взаймы просит. Неудивительно, что с таким характером Мурузи не любили и не прощали того, что простили бы иному — например, его службы у красных (где, злословили за спиной, он за Кедровым как собачка бегал). Именно поэтому после переворота офицеры не поддержали Чаплина, когда тот мимоходом поинтересовался у товарищей, как они посмотрят на назначение Мурузи начальником штаба. К мнению офицеров Чаплин прислушался, начальником штаба назначил Маслова (однофамильца главы военного отдела), а Мурузи, рассчитывавший на должность и оскорблённый тем, что его обошли, подался к англичанам организовывать Славяно-британский легион.
Рядом с Мурузи сидел Ганжумов, бывший (видимо, тоже по вредности характера) одним из немногих приятелей Мурузи, а рядом с Ганжумовым со стаканом чая в руке к разговору прислушивался полковник Михаил Михайлович Чарковский, бывший комендант Архангельска. Тридцативосьмилетний полный, с круглым болезненно-рыхлым лицом Чарковский был одним из ближайших сподвижников Чаплина при подготовке августовского переворота, сам нашёл место на винном складе Севкомора, где по вечерам собирались заговорщики (это было глупейшей игрой в карбонариев, которую могла бы разоблачить любая сколь-нибудь толковая контрразведка — но у большевиков не было и её), сам организовывал посты на Троицком проспекте, разоружавшие проходивших мимо матросов и красноармейцев, и потому-то Чарковского и назначили сразу после переворота комендантом Архангельска. Во время своего месячного пребывания на должности, Рауш знал, Чарковский, свободно говоривший по-французски, нашёл общий язык с французским генералом Донопом, которого Пуль назначил генерал-губернатором Северной области, и решал с совместно с ним многие вопросы в обход Чайковского. Всё это, конечно, немало раздражало белобородого патриарха социализма и его эсеров, и вот пару дней назад Чарковского заменили на Узкого, а на место Донопа назначили агронома Дедусенко (правда, сам Доноп этого решения, кажется, не признавал). Неудивительно, что Чарковский, на протяжении этого месяца не так часто заглядывавший в штаб к Чаплину, сейчас был здесь — и погоны, конечно, теперь снова были на его плечах.
А вот в том, что рядом с Чарковским сидел штабс-капитан Эдмунд Эдмундович дес Фонтейнес, удивительного ничего не было. Удивительно скорее было то, что дес Фонтейнеса не было в «Париже» этой ночью — обычно-то он был завсегдатай ночных офицерских кутежей, просто в этот раз решил пропустить. Вообще дес Фонтейнес, двадцатишестилетний немец с тонкими, красивыми чертами лица и мыском тёмных волос над высоким лбом, в штабе Чаплина считался кем-то вроде эксперта по Архангельску — он был местный, родился и вырос здесь, жил в большом купеческом особняке на Троицком проспекте совсем рядом с кафе «Париж» (Рауш сегодня пару раз мимо этого дома прошёл) и был сыном миллионера-лесопромышленника — впрочем, сейчас, после четырёх лет войны и инфляции, слово «миллионер» звучало уже совсем не так громко, как в благословенном 1913 году. Несмотря на происхождение из немецкой купеческой семьи, которая ничего общего не имела с военной службой, с началом войны Эдмунд Эдмундович записался в школу прапорщиков и исправно служил в тыловых частях — и над этим можно было бы насмехаться, но все знали, что в 1916 году дес Фонтейнес был тяжело, по-настоящему контужен на правую сторону головы. Вот и сейчас он сидел за столом, повернувшись к Чаплину неестественно, левым боком — правым ухом он почти не слышал да и вообще избегал сидеть к другим правой стороной: щека на этой стороне у него то и дело начинала дёргаться отвратительным, перекашивающим лицо тиком, который не получалось скрыть, даже придерживая скулу рукой. Своим увечьем дес Фонтейнес, однако, не тяготился, а наоборот — искренне гордился, видя, как надёжно оно защищает от любого пренебрежительного отношения к нему, офицеру военного времени, тыловику, со стороны кадровых офицеров. Сейчас дес Фонтейнес служил адъютантом командира Автомобильного батальона — одной из немногих прилично, хоть и разномастно укомплектованных техническими средствами и личным составом русских частей в Архангельске. Никакой по составу это не батальон, конечно, был, но автомобильная рота — вполне: под сотню человек на разных машинах, оставленных в городе красными. Даже пулемётный броневик свой в батальоне был, чем все особо гордились.
Вошедшего Рауша офицеры пока не замечали.
-
-
с пулеметным броневиком мы, конечно, до Москвы дойдем, вопросов нет
|
Смирнов воевал с немцами, с австрийцами, со своими же русскими тоже, увы, приходилось, с интервентами вчера довелось, а вот с китайцами перестреливался впервые — и сейчас, только вскинув винтовку к плечу и поводя стволом в переплетении бурых стеблей с нависающими колосьями, Григорий понимал, — уж на что их побитое и замёрзшее рязанское воинство жалкие вояки, эти ходя-ходя ещё жальче.
Какой-то бритый щекастый тип в расстёгнутом пальто, широко расставив ноги, стоял посреди двора, как ростовая мишень, и палил по набегающим сзади рязанцам, забыв прятаться — Григорий навёл ствол в середину широкого, тёмного, просящего пули силуэта, нажал спусковой крючок — китаец так и повалился. Выпустил ещё пару пуль по вёрткому пареньку в сером ватнике, который шустро улепётывал по двору: убегал бы тот поперёк линии стрельбы, попасть в него было б сложнее, так нет же — бросился к крыльцу дома, подставляя пулям спину, и то Григорий промазал первый раз, угодив пулей в точёную балясину перил, а второй всё-таки попал: китаец рухнул на порог, тонко, визгливо заорал; его втащили внутрь.
Но на том цели кончились: другие китайцы, не будь дураками, попрятались за сарай, успели скрыться в доме, за его углами. На вытоптанной чёрной земле двора лежали два тела — убитый китайцем часовой и пристреленный Смирновым здоровяк. Китайца с косичкой, из-за которого всё началось, вообще не было видно — он всё стоял безучастно у овина, а потом Григорий отвлёкся на стрельбу, взглянул в ту сторону, а его там уже и не было. Стрельба затихла, но китайцы продолжали галдеть, зло орать друг на друга, — вообще что-то базарное в этом было, будто они тут не воюют, а ругаются, кто кого обвесил. Кто-то высунулся из-за дальнего от залегших во ржи угла сарая, не глядя, метнул в поле гранату — она гулко грохнула далеко от разведчиков, вообще ото всех далеко: только жирные куски земли дробно попадали сверху, шелестя рожью. Кто-то из китайцев попробовал было высунуться из разбитого окна: только за рамой с гребёнкой стёкольных осколков появилась фигура, Фима, державший окно на прицеле, пальнул по нему, — фигура скрылась, истеричные, отчаянные крики, вороньи переругивания китайцев усилились. Несколько китайских голосов истошно орали совсем близко, из-за сарая, но высовываться побаивались. Тем временем сзади уже подбегали рязанцы.
— Кто там, англичане? — кричал Саня Соловьёв, с разбегу бухнувшись на пашню, широко примяв вокруг себя рожь.
— Китаёзы это! — заорал в ответ Фима, оглядываясь.
— Кто-о? — не поверил Саня.
— Shi eguoren! (Это русские!) — орали тем временем китайцы.
— Братцы! Кольку убили! — кричал Семён.
— Hongsede haishi baisede? (Красные или белые?)
— Wo zenme hui zhidao a!!! (А мне откуда знать!!!)
— Обходить их с боков надо!
— Xiaoxin! Tamen you liudan! (Осторожно! У них гранаты!)
— Гранаты у кого есть? — приподнявшись из ржи на локте, приложив ладонь ко рту, закричал Фима, озираясь.
— Nimen! Nimen liangge! Kuai guolai zhe'er! (Вы! Вы двое! Сюда, живей!) — из-за угла дома высунулись два китайца: тут же несколько рязанцев враз начали стрелять по ним, выбивая щепки из толстых брёвен. Не попали: китайцы быстро скрылись обратно за углом.
— Bu neng guolai! Tamen zai kaiqiang ne! (Не пройти! Они стреляют!)
— Гранаты, говорю, у кого есть?
— Nimen liangge shabi, bu yao paoqu zhe’er, jiu yong nabi'erde chenghu liujin fangzi a! Chunhuo! (Вы два дебила, куда вы бежите? Лезьте через окно с той стороны! Идиоты!)
— Чё разорался, китаёза?!
— Гранаты у кого есть, спрашиваю?
— Нет гранат! Ни у кого!
— Laoliao, Laoliu zai nali? (Где Ляо, где Лю?)
— Laoliao zai zhe'er, tamen ba ta shale! (Ляо здесь! Они его убили!)
— Wo, wo zai zheli! Yao gaosu tamen shenme ne? (Я, я здесь! Что им сказать?)
— У меня тоже нет!
— Чё они орут, как наскипидаренные?
— Gaosu tamen women shi wushige ren, you yige jiqiang! (Скажи им, что нас пятьдесят и у нас пулемёт!)
— Lusikie! Lusikie! Zenme shuo bu yao? (Lusikie! Lusikie! Как сказать «не надо»)
— Васёк, Тимошка, айда к тому овину!
— Nie nada!
— Nie nada! Lusikie, nie nada!
— Обходим сбоку их, давай, братцы, прикрывай нас!
-
За экспрессию атаки и ходя-ходя!
-
перестрелка вышла очень хаотичая, кто-то бежит, кто-то кричит, кто-то стреляет, ничего не понятно. Все как в жизни
|
28.09.1833 г.
Астраханская губерния,
Веха 24
Когда путник очнулся от тряского, мотающего дорожного сна, первым, что он ощутил, была сильная, застойная боль в неудобно подвёрнутой, затекшей шее. Занемевшие под меховой полостью ноги ощущались как закостенелые, тупо ныли в коленях. Он провёл рукой по колючему, обветренному, противно липкому от сонного пота лицу, сглотнул, ощутил тяжёлый ледяной ком в груди. Отчаянно хотелось горячего чаю, чтобы разогнать эту снулую муть. Проезжий, часто моргая, приподнялся на кожаном сиденье ямского тарантаса, осоловело оглянулся по сторонам. Вокруг широко раскинулась рыжая степь под мелким посверкивающим на солнце дождём. Был тот короткий момент пасмурного дня, когда закатное солнце проглядывает в узкую щель между грядой сплошных белесых облаков и плоским ровным горизонтом — красно, с бронзовой искрой оно теперь светило в глаза, не слепя, сверкало дождевыми каплями. Видимо, от этого света проезжий и проснулся.
— Сав… хм! Савва! — хрипло прокашлялся пассажир, обращаясь к ямщику. — Далеко ль до станции?
— А, проснулися, — оглянулся на пассажира ямщик, курчавый, краснорожий казак. — Чай, недалече уж, барин. Проехать бы её, да лошади устали: менять надобно.
— А какая это губерния, Савва? — спросил проезжий, потягиваясь, глубоко дыша знобистым мокрым ветерком, чтобы разгуляться. — Ещё Астраханская или уже Саратовская?
— А бес его весть, барин, — безразлично пожал плечами Савва, не оборачиваясь, а пассажир подумал — в самом деле, какая разница? Почему-то в пути от безделья часто задаются подобными вопросами: а что это за деревня, а какая это губерния, а с какой станции эта встречная курьерская тройка? — хотя, казалось бы, что тебе за дело? И в этом тоже была особая прелесть путешествия.
Этот проезжий вообще много где бывал — и в центральных губерниях ему были знакомы все главные тракты, и на Кавказ его заносила судьба, и в Крым, и в Бессарабию; ему вообще нравились долгие, однообразные поездки по России, нравилась сама их томительная, протяжная скука, мутный дорожный сон, вынужденное многочасовое недвижное нахождение будто в тряском коконе: без всего этого не было бы острого, почти болезненного удовольствия после многочасовой изматывающей поездки сойти с тарантаса, размять ноги на станционном дворе, пройти в парное тепло станции, потребовать чаю, борща: и чай-то будет жидкий, и борщ неважный, как из плохого трактира, скупо, не для себя приготовленный, но есть какое-то отдельное удовольствие в том, что ешь их не столько чтобы насытиться, а чтобы развлечься от однообразия пути, и сразу оттого и еда вкусней, и чай душистей, и табак приносит больше наслаждения. Теперь проезжий с нетерпением ждал станции, вспоминал циферки вёрст в «Новейшем дорожнике» — сорок, пятьдесят вёрст, ох и долгие же в этих степях перегоны! — заглядывал за плечо ямщика: ничего там не было видать, только степь: исполинские застывшие волны балок — верста вверх, верста вниз, и совсем игрушечной кажется полоска шляха у дальнего гребня, — ржавая трава, вязкие чёрные глинистые колеи тракта с медно-рыжими закатными лужами.
—
К станции подъехали, когда уже совсем стемнело: раздуваемая пронзительным хлёстким ветром огненная заря потухла, трава посерела в скудном жёлтом свете качающегося фонарика у облучка, горизонт пропал в ночной беззвёздной тьме, сыпавшей мелким дождиком, пеленой тонких серебряных нитей высвечивающимся перед фонарём. Ещё издалека, как всё всегда видно издалека в степи, они приметили тусклый огонёк станции — одинокого двора, стоящего посередь травянистого поля, как кость выпирающего из степной глади, — а со станции, конечно, приметили их: когда заезжали, ворота конюшни были уже распахнуты, какой-то паренёк показывал, куда заводить лошадей. По пустому виду слабо освещённой фонарём конюшни было ясно: сменных нет, придётся ждать.
Оставив Савву распрягать, путник, деревянно вышагивая за затёкших ногах, потягиваясь и глубоко, с удовольствием зевая, прошёл в маленькие тёмные сенца, размотал с плеч мокрую мохнатую шаль, снял, отряхнув о колено, широкополую шляпу, повесил на крючок плащ, поискал зеркало — оно висело там, тёмное как омут, исцарапанное и облупившееся по краям. Заглянул: из зеркала в темноту смотрело молодое, но осунувшееся, вымотанное дорогой лицо с немытыми, липкими курчавыми волосами, многодневной чёрной щетиной, переходящей в кудлатые баки. «Ещё дня три, добраться до Языкова, — и в баню» — с мучительным мечтанием подумал путник, оправляя на себе помятый дорожный сюртук.
— Эй, хозяева! Есть кто? Смотритель! — позвал путник, заходя в гостиную, тёмную, лишь с красным огоньком лампадки у иконы в углу. Всё здесь было, как обычно в таких станциях — стол, пара кроватей, облезлый диванчик, печка, литографии по стенам: «Возвращенiе блуднаго сына» — прочитал проезжий и повёл носом: пахло тут неприятно, затхло, чем-то вроде погреба, чем-то нежилым. Из-за перегородки против входной двери вышел старик-смотритель в шлафроке и колпаке, со свечкой на блюдце.
— Чего гостей не встречаешь? — недовольно обратился к смотрителю. — Чаю давай.
— Вашу подорожную пожалуйте, — обратился смотритель. Путник достал из-за пазухи сложенный документ, хозяин станции принялся вчитываться, поднося бумагу к огню так близко, что сам лист будто начинал светиться жёлтым.
— Что, не генерал? — насмешливо обратился путник. Он-то знал, что подорожная у него дрянная, с прогонами за две лошади, и потому угодливости от станционной прислуги не ждал. — Тройку курьерскую от тебя мне не ждать, я чай?
— Курьерской-то и нет, барин, — скрипуче отозвался старик, возвращая подорожную.
— Да уж вижу, что нет… Ну хоть чаю-то дашь? — смиренно попросил путник, уселся за стол и с наслаждением вытянул ноги, положив сапоги на другой стул.
— Чаю можно, — с достоинством ответил смотритель и обернулся, крикнув за перегородку: — Эй, Даня! Поставь самовар да сходи за сливками!
Из-за перегородки появился тот самый юноша, который открывал ворота конюшни. Беззвучно кивнув, он удалился.
— Что, внук? — поинтересовался путник.
— Нет, — ответил смотритель, зажигая по одной свечки в большом канделябре, от которого в горнице сразу стало жёлто, светло. — Сирота. На воспитании тут у меня.
— Ага, — вздохнул путник и потянулся. — Вдвоём тут живёте?
— Вдвоём, как есть вдвоём, — подтвердил смотритель. — Старуху третий год как схоронил, а вот — живая душа со мной да помощник как есть.
— Скучно, небось, жить-то так?
— Да в моих годах-то ничего уже не весело… — откликнулся смотритель и, сгорбившись, пошёл за перегородку, по-старчески горбясь и потирая бок, который у него, видимо, болел.
—
Спать не хотелось, курить не хотелось, чаю не хотелось, читать не хотелось и ничего не хотелось, но что-то нужно было делать, как-то себя занять — и вот в этой дождливой осенней степной ночи путник доставал и снова откладывал опостылевший и дурно написанный французский роман, вставал с жаркой простыни с пятнами от клопов, ходил курить на крыльцо в зябко накинутом плаще, тупо глядя в бесконечную, жуткую своей чернотой степь, потом возвращался, садился за стол, требовал ещё чаю. Рассматривал засиженные мухами литографии по стенам, на жёлтые с синей сердцевиной огоньки свеч, остающиеся яркими пляшущими пятнами под веками, бессмысленно следил за движением минутной стрелки, мечтая о том, чтобы наконец пришла сонливость. Сон не приходил: путник выспался в дороге. Старик-смотритель занимался своими делами, где-то бродил за стенкой, гремел какими-то железками, посудой, что ли. «Видно, до утра сменных лошадей не ждать», — с тоской подумал путник, глядя на часы: половина двенадцатого. Всё чесалось, грязная одежда была противна, хотелось поскорей добраться до Языкова и вымыться. Дани видно не было, ямщик Савва смирно посапывал на соседней кровати, напившись чаю.
— Старик, — от скуки позвал путник смотрителя, повысив голос, — а сколько тебе лет?
— Восьмой десяток уж, — откликнулся тот из-за перегородки, готовя новый самовар. Путник несколько оживился.
— Да? Я и не подумал. Восьмой десяток, стало быть? Значит, ты и Пугачёва помнишь? Он же в ваших краях тут лютовал?
Смотритель некоторое время не отвечал, а затем появился из-за перегородки с перехваченным полотенцем самоваром. Он молча поставил пышащий едким сладковатым берёзовым угаром самовар на стол, закинул горячее полотенце себе на плечо и лишь тогда ответил, хмуро и ворчливо, без тени подобострастия:
— Это вам, барам, он Пугачёв, а мне был и есть государь Пётр Фёдорович.
— Вот как? — оживился путник. — Это интересно! Что же ты мне про него можешь рассказать?
— А тебе что с того… барин? — на мгновение показалось, что старик не добавит последнего слова, сгрубит, но нет, добавил в последний момент.
— Может, я книгу о нём написать хочу, — серьёзно сказал путник.
— А! — махнул рукой старик. — Вы и напишете! Что я ни скажи, всё по-своему, по-барски переврёте. А я так скажу — мне от Петра Фёдоровича одно благо было, ничего худого он мне не сделал.
— А не боишься так-то открыто говорить? — с любопытством спросил путник, напуская в стакан исходящего паром кипятку из самовара. За перегородкой кто-то громыхнул чем-то железным.
— А чего мне бояться? — пожал плечами старик, присаживаясь за стол. — Что меня, на глаголе за ребро вздёрнут? — он неприятно хохотнул. — А кто за станцией следить станет тогда?
— Тоже верно, — кивнул путник. — Ну а что, видел ты, старик, самого Пугача?
— Петра Фёдоровича, — упрямо поправил смотритель. — Как не видеть. Все видели… И как по Берде он ездил, и палату его золотую видал, и бывал там…
— Что, верно золотую? — поднял бровь путник.
— Верно, — убеждённо кивнул старик. За стенкой снова чем-то громыхнули.
— А вот и неверно, — грустно сказал путник. — Золочёной бумагой была его палата обклеена, как обоями. Я в Берде был, дом тот видал… Да кто там у тебя за стенкой шарится? — обратил он внимание на непрекращающиеся звуки из-за перегородки.
— Данька, небось, — не отрывая пытливого взгляда от постояльца, ответил старик. — А про палату верно говорю, золотая она была… Он мне в ней табакерку преподнёс, а в табакерке той сидели…
Тут дверь из сенцев отворилась, и на пороге появился Даня — подросток-помощник смотрителя.
— Барин, а барин! — бесцеремонно обратился он к путнику. — Ваш чумодан сюда принести али в коляске оставить?
— Оставь, я думаю, — задумчиво сказал путник и обернулся к смотрителю, глядя на него с невысказанным вопросом. Смотритель глядел на путника пусто, без выражения, притворяясь, что не понимает, что тот хочет спросить. Однако, вопрос задал не он, а ямщик Савва, который, как оказалось, давно уже не спит, а прислушивается к разговору со своей кровати:
— Коль Данька твой там, — показал он на сенцы, а потом на перегородку, — кто ж там-то?
— Выходит, что никого, — бесстрастно и бессмысленно ответил смотритель.
— Однако, я слышал звук, — заметил путник, — да и ты сам его слышал.
— Вестимо, кошка, — сказал смотритель, поднялся из-за стола и удалился за перегородку.
—
— Барин, кошки-то у них тут нет, — настороженно сказал ямщик, сидя на кровати в горнице, оглядываясь по сторонам. Старика не было, Даня тоже куда-то ушёл, звуки из-за стенки временами то стихали, то снова возобновлялись.
— Да уж я вижу, — встревоженно сказал путник. — Может, девка какая? Боятся показать? А, кой чёрт!
Путник порывисто встал с места, направился к перегородке, но ямщик тут же вскочил вслед за ним, задержал его за рукав.
— Не надо! — тихо сказал Савва, напряжённо поглядывая в сторону двери. — Не ровен час… плохая у этой станции слава. Люди, говорят, пропадают тут.
— Чего ж ты меня сюда привёз-то, олух? — вслед за Саввой сразу перешёл на шёпот путник.
— Куда ещё везти-то было, — хмуро откликнулся ямщик. — Да и думал, не одни мы тут будем…
— Вот то-то, что мы и не одни… — сказал путник.
— У тебя пистолет есть, барин? — серьёзно спросил ямщик.
— Нет, не взял. А у тебя?
— Свинчатка только, — ямщик показал тяжёлый свинцовый шарик, который он, как оказалось, давно уже держит в кулаке.
Путник долго посмотрел на свинчатку и вдруг легко рассмеялся:
— Да уж, напугал ты меня, Савка! Ей-ей, как барышню на святки! Да девка там наверняка сидит, кто ещё! Дедок её там спрятал, чтобы гусар какой проезжий не увёз, она сидит там, дрожит от страха, а мы тут от её дрожи перепугались и сами дрожим! Чистая комедия! — и с этими словами путник снова было двинулся к двери, но ямщик снова придержал его.
— Говорю, не ходи! — зло шикнул он на барина. — Слышал я…
— Чего ты слышал? — раздражённо обратился к нему путник.
— Много чего, — хмуро буркнул Савва, — да немного чего говорить велят. Не ходи туда, барин, пожалеешь!
— Да хватит твоих бабьих бредней, — отмахнулся путник. — Что там, тридцать три разбойника с ножами? Если нет, уж как-нибудь справлюсь.
— Я с тобой, барин, туда не пойду, уж как хочешь, — решительно покачал головой Савва.
— И не нужен ты мне там, — ответил путник и уже подошёл было к двери, как та отворилась, и из неё вышел Даня.
— Вам чаво, барин? — быстро спросил он. Савва присел за стол, сложив руки в замок, подозрительно глядя на паренька.
— А скажи-ка мне, милый друг, — начал путник, приобнимая подростка за плечо, — что это у вас там за дверью грохает?
— Это? — Даня кивнул на перегородку. — Это Филимон.
— Кто? — удивился путник.
— Филимон, — просто повторил Даня.
— А разве не девка?
— Не, — убеждённо мотнул головой паренёк. — Мужичок. Филимоном звать.
— И что там делает ваш Филимон? — с интересом спросил путник.
— А пойдём, покажу, — легко предложил Даня.
— Пойдём! — согласился путник, и Савва вскочил из-за стола, подбежал к барину в последней попытке удержать его:
— Не ходи туда, барин, Христом-богом молю, не ходи!
— Отцепись ты от меня, дурак! — раздражённо крикнул путник и хотел было уже вслед за Даней пройти в чёрный непроглядный проём двери, за которым что-то железно брякало, дёргало, повизгивало — но тут вдруг со двора донёсся стук копыт, ржание, неровный перестук бубенцов, чьи-то голоса: «Хозяин, принимай сменных!»
— Что такое? — сразу отвлёкся путник. — Неужто сменных пригнали?
— Точно так, барин! — радостно откликнулся Савва, прильнувший к окошку. — Две тройки! Запрягать?
— Спрашиваешь! — оживлённо отозвался путник. — Запрягай, конечно, сразу и поедем! Давай, ищи старика, — уже позабыв о том, что таится за той дверью, путник принялся скоро собирать разбросанные по комнате вещи, натягивать сапоги.
Уже через час они ехали в дождливой осенней ночи на запад, оставив станцию за спиной. Путник дремал в коляске, завернувшись в плащ, косо растянувшись на кожаном сиденье, неудобно подвернув шею. Савва гнал пару лошадей по тёмной, беспредельной степной равнине вперёд.
А Филимон тем временем рвался с цепи, визжал, вопил, выл, метаясь из угла в угол, сколько позволяла цепь, драл ногтями брёвна, катался по полу. Он не пил крови уже третью неделю, и его сводило с ума, что всё это время два живых, наполненных кровью человека сидели за тонкой стенкой (и как тяжело было удерживаться, чтобы не закричать!), а Ерошка никак не заводит их к нему, как обычно бывало все эти десятилетия. И сейчас, когда Ерошка, постаревший, сгорбившийся, но острыми, птичьими чертами лица всё ещё напоминающий того молодого пугачёвца с Волги, зашёл в его каморку, Филимон вскинулся с пола и, туго натягивая цепь, выгнувшись вперёд, зачастил одним только словом, которое всегда повторял, когда был недоволен и голоден:
— Филимон! Филимон! Филимон!
-
-
Неожиданный, однако, поворот.
-
-
|
Яцек вышел от ростовщика с увесистым мешочком, глухо позвякивающим золотом. Не то, чтобы ему не доводилось раньше видеть таких денег, но доводилось нечасто, и оттого вес золотых монет, тяжело позвякивающих под тканью, наполнял Яцека странным чувством: то ли потратить всё сразу хотелось, то ли, наоборот, сложить куда-нибудь и разглядывать их. Выйдя за порог, Яцек сунул мешочек Збышеку; тот принял, и во взгляде, который десятник поднял на Яцека, взвесив гроши в руках, читалось одно слово: много! Яцек, ничего не говоря, ответил Збышеку довольной ухмылкой: да, Збышек, много!
— Пошли, — скомандовал Яцек, направляясь к коновязи, у которой, низко склонив вороную шею к корыту, стоял Грачик. Бойцы, кто где расположившиеся у входа, засобирались, заподнимались, пошли к своим коням. Туша продолжал стоять у входа в дом ростовщика, как каменный истукан. Когда кавалькадой двинулись по узким улицам гетто мимо деревянных заборов, тёмных бревенчатых стен, Яцек чувствовал, что едущему рядом с мешком золотых Збышеку не терпится спросить о том, как всё прошло, и не спрашивает тот лишь из опасения, не слишком нагло ли прозвучит такой вопрос хозяину. Яцек действительно не намерен был распространяться перед подчинёнными о том, что их не касалось, и решил сам спросить Збышека об ином.
— А этот амбал, — Яцек указал назад, где за углом остался Туша, — он вообще живой?
— Да вроде живой, — непонимающе ответил Збышек.
— Удивительно, — покачал головой Яцек. — Я думал, его жиды из глины сделали и бумажку с заклинанием на лоб прилепили, чтоб ожил. Рассказывали мне о таком.
— Не, — подумав, ответил Збышек. — Этот точно живой. У него детей чуть не десять штук.
— А тебе почём знать? Может, детей они тоже из глины лепят? — пожал плечами Яцек.
— Может быть, — тупо согласился Збышек, и Яцек с интересом скосился на десятника: неужели правда верит? Конечно, от жидов всего можно было ожидать, и про подземелья под домом Моше Яцек вполне верил, но ожившие глиняные истуканы — это всё-таки было немного чересчур.
Тем временем доехали до поместья. В середине чёрного вытоптанного двора конюхи Филуш и Мирек заезжали молодую двухлетнюю пегую кобылку, которую только недавно поставили под седло, ещё без уздечки и стремян, чтобы только привыкала: Филуш длинной хворостиной подстёгивал лошадь, а та нервно, подаваясь из стороны в сторону, делала круги вокруг Мирека, державшего её на обмотанном вокруг кисти корде.
— Ну как? — широко шагая к дому, походя спросил Яцек, кивнув на кобылу.
— Ничё! — откликнулся Филуш, легко поддав лошадь по крупу. Он был почти карлик (и до плеча Яцеку не доставал) — глядя на этого невзрачного и немолодого смешного человечка с остатками седо-рыжих волос вокруг большой блестящей лысины, сложно было и предположить в нём прекрасного наездника и прирождённого конюха, разбирающегося в лошадях лучше, чем кто-либо виденный Яцеком, лучше, чем он сам. С его-то умом и чутьём Филуш мог бы быть первым если не в мире, то уж на Литве коневодом, но — беда! — в лошадях-то он разбирался, а вот в деньгах нет: был застенчив, не умел попросить прибавки, а что зарабатывал — быстро спускал на вино и женщин, потому-то выше конюха и не поднялся ни при прежнем хозяине поместья, ни сейчас при Юхновичах. И не поднимется никогда — с удовлетворением подумал Яцек.
— Может, уже посадку пора? — спросил Яцек, останавливаясь.
— Не, — уверенно откликнулся Филуш. — Пока зажатая ещё она. Вона какая пуганая!
— Ну смотри, — сказал Яцек и прошёл к дому.
В доме всё так же, как и перед его уходом, пели пилы, стучали молотки, в зале на высокой стремянке сидел рабочий с ведром на шее: из ведра он брал мох и конопатил щели между свежеструганными, светло-золотистыми брёвнами.
— А чего, конопатить начали? — спросил Яцек, задирая голову. — Мох подвезли, что ли?
— Так как есть подвезли, — откликнулся рабочий со стремянки.
— А почему мне не доложили?
— Так пана не было, — просто ответил рабочий.
— А кто платил за мох?
— Так десятник пана, Вацек, или как его там? Пан же ему гроши оставлял!
— Я не оставлял, — покачал головой Яцек. — Может, брат?
— Так кажется, вы, пан. Но я не уверен…
— Значит, брат, — заключил Яцек. К тому, что никто никогда не уверен, кого из Юхновичей только что видел, Яцек был привычен с детства. Кто давно работал в поместье, конечно, различали хозяев по одежде, но строители в таких тонкостях ещё не разобрались. — А где Матеуш? — спросил он и, получив ответ, направился в указанную комнату.
Матеуш, прораб, сейчас сидел в одной из пустых комнат, где на голый дощатый пол была высыпана рыжая гора волокнистого кукушкина льна, разносящая по помещению упоительно свежий лесной и грибной дух. Несколько рабочих разбирали мох, а Матеуш, крепкий мужик с туповатым бровастым лицом, сидел на свежесколоченной скамье, объедая куриную лапку. Немного поговорив о мхе и работах по конопаченью, Яцек позвал Матеуша на улицу.
— Смотри, новая задача, — деловито принялся объяснять ему Яцек, выходя на крыльцо. — Вон там у ворот сможешь сколотить что-нибудь такое… ну как сказать… — Яцек изобразил руками нечто кубоватое, — ну, вроде прилавка, что ли! Вон, доски есть, — показал он на штабель у крыльца, — вот из них сваргань.
— Сделать-то чего б нельзя, — хмыкнул прораб, — но понимать бы, для чего. А то ведь сделаем, да не так.
— Ну как тебе сказать, — начал Яцек, — завтра ко мне люди в поместье начнут приходить, вот надо, чтобы они сразу такие заходили вон оттуда и видели, к кому можно обратиться, чтобы был вот такой прилавок тут. Только не напротив входа, конечно: мешать будет выезжать. Вот как-то так, — Яцек, наклонив голову вбок, принялся показывать руками, — вот как-то так, рядом с колодцем, что ли… нет, рядом с колодцем не стоит, лучше с другой стороны, во-он там!
— Как балаган, что ли, на ярмарке? — спросил прораб. — С крышей?
— Нет, с крышей не надо. Просто мне как нужно: вот представь, ты человек, пришёл ко мне с каким-то вопросом. Вот ты зашёл через ворота, а что, кого искать, где искать? — Яцек развёл руками, оглядываясь по сторонам. — А так, вот — зашёл, перед тобой сразу прилавок, а за прилавком сидит, ну вот, скажем, Вацек, — кивнул он на десятника, расположившегося у поленницы со своими парнями.
— Так может, стол просто поставить? — спросил прораб. — Зачем чего-то городить? Доски вон есть, сколотим стол простенький.
— Хм, верно, — согласился Яцек. — Ну, значит, колоти стол. До завтра сделаешь?
— Чего б не сделать? — откликнулся прораб. — Дело нехитрое. Только мы с хлопцами пока мох разбираем, это непременно нужно за сегодня сделать, потому что…
— Ладно-ладно, это я вам не мешаю, — перебил его Яцек. — Со мхом закончите, потом делайте стол.
И, оставив Матеуша, Яцек двинулся дальше по делам. У него ещё много было тут дел.
-
Вот ради таких атмосферных постов и стоит водить!
-
скоро всех домашних по именам знать будем!
|
Распрощавшись с комендантом, с пропуском в кармане Рауш отправился обратно — в который уже раз за сегодня? — по Троицкому проспекту, мимо Думы и пожарной части, присутственных мест, губернаторского дома и комендатуры. На проспекте, как и говорил солдат комендантской команды, стоял пустой трамвай — пассажиры уже разбрелись, только кондуктор с вагоновожатым переговаривались, одни сидя на лакированных деревянных лавках в салоне. Проехала мимо гружёная чем-то под мокрым брезентом телега, по другой стороне улице оглушительно протарахтел, подняв из лужи веер брызг, американец в пилотке на мотоцикле. Небо было всё таким же жидко-серым, как разведённая тушь или вода из поломойного ведра, по-осеннему скучным, низким; черно тянулись вверх переплетения облетающих деревьев, задувал сырой, зябкий ветерок. Морось всё не прекращалась, жирно блестела грязь на проезжей части, зыбью дрожали лужи, упруго пружинили под ногами тёмные деревянные мостки, закиданные рыжими листьями, с белыми пятнами чаячьего помёта. Полуоторванными лоскутами печально свисали с афишной тумбы пожелтевшие рекламные листы, бело мокли свежие, выступая в середине пузырём. Вообще осенний Архангельск — очень грязный город, в очередной раз отметил Рауш, и дело тут не в одной лишь военной разрухе, а в самой природе — бели не бели эту каменную изгородь, а месяц таких дождей, и побелка покроется серыми разводами, краска потрескается, облупится, жесть пойдёт ржавчиной.  Троицкий собор. По его имени и назван главный архангельский проспект.  Почтово-телеграфная контора — справа от шляпного магазина Людвига Пейкера Рауш миновал пятиглавый собор с большими выцветшими, давно не подновляемыми панно на стене и свернул на Соборную улицу, где в полусотне шагов от проспекта и находилась почтово-телеграфная контора. Пройдя через маленькие сенца между скрипучими застеклёнными дверями в сумрачный зал, Рауш понял — электричество ещё не дали. Из-за массивной тёмной стойки со стеклянной стеночкой поверх виднелись головы работников, какой-то господин в пальто, задирая плохим железным пером шершавую бумагу бланка, шкрябал текст телеграммы на конторке, встав в пол-оборота так, чтобы на листок попадал серый свет из окна. Рауш немедленно прошёл в служебные помещения (его уже помнили и не подумали останавливать) и мимо аппаратной комнаты, в которой кто-то зло и быстро пищал ключом (телеграфным аппаратам подключение к электросети, конечно, не требовалось), прошёл на лестницу к кабинету Молоствова на третьем этаже. — Нет-нет, ничего ещё не приносили, — ответил телеграфист, отрываясь от рассматривания длинно протянувшейся бумажной ленты. Рауш решил дожидаться курьера. Сидеть в кабинете в виду Молоствова было бы и неловко, и неудобно для работы самого начальника конторы, поэтому Рауш вышел в пустой белый коридор, нашёл сиротливо оставленный кем-то стул и присел у окна, выходящего на рыжие крыши дворовых пристроек, поленницу, затоптанный двор в антрацитовой грязи, с досками через лужи. Уже через некоторое время он понял, что засыпает: нервное напряжение последних часов отпускало, сказывалась бессонная ночь — голова падала на грудь, по сложенным на груди пальцам пробегали лёгкие электрические искорки. Можно было бы встать, глубоко подышать, помахать руками, разгоняя сонливость, и Рауш даже временами думал, что это делает, — но оказывалось, что делает он это во сне. За окном уныло шумел дождь на два тона — тихим шелестом мороси и крупными, нестройными шлепками капель с крыши о железный отлив окна. Время от времени сквозь дрёму прорезались сердитые голоса с улицы — что-то о телеге, о бочках, и всё это бесшовно, ловко встраивалось в плывущий, как на коньках уезжающий куда-то в сторону сон. Хлопали двери, по коридору с кашлем проходили шаги — глухо вдалеке, звонко вблизи, снова глухо. Иногда кто-то заходил к Молоствову; Рауш сидел рядом с его дверью и сквозь тонкий, несплошной сон слышал это; тогда он разлеплял глаза и осоловело глядел, кто это — странно смотрящая на офицера барышня-телеграфистка, потом лысый человечек в подтяжках и нарукавниках, а курьера так и не было. После таких пробуждений сонливость резко и бесследно отступала, будто в середине бодрого дня, и можно было даже встать, пройтись по коридору, выкурить утоляющую после сна папиросу… но эта лёгкость была обманчива, и как только Рауш присаживался обратно, сон снова накатывался резко и бесповоротно. 12:10Он сперва услышал эти шаги и понял, что нужно открыть глаза, а только потом сообразил, почему: шаги были не местного работника, ступали с чётким, военным тембром, и шёл не один человек. Рауш открыл глаза и увидел, как по коридору от лестницы к нему направляются британский офицер и два солдата с винтовками. Он как раз успел подняться до того, как офицер остановился перед ним. — Господин Рауш вон Траубенберг, я полагаю? — спросил офицер с круглым, чуть азиатским лицом и густыми ровно подстриженными усами. Говорил он по-русски с удивительной чистотой, почти без акцента, разве что с мягким «е» не справляясь, но немецкую приставку к фамилии произнёс так, как привык по-английски, через «в». — Подполковник Катберт Торнхилл. Я узнал, что вы проводите некую ответственную операцию. Это так?
-
пейзаж натуральнейший, так и хочется удавиться от тоски
-
И правда жизненное описание
|
— Да ты чего, командир? — возмутились бойцы. — Какой кокаин?! Мы с самого Архангельска как в монастыре, ни капли, ни хрена!
— Скот не брали! — угрюмо вскинулся Фома. — А что гуся взяли, так невелика потеря! А и нам не одну ж пустую картоху жрать! Уж поперёк горла стоит!
— Цыц, цыц, братва! — неожиданно встал на сторону командира комвзвода Падалка. — Раз командир говорит, нехай так буде. Ложь бутылки, кому говорю. Не можно так не можно.
— Расколочу тогда, — с мрачной решительностью сказал Иван Пырьин, перехватив полштоф, как гранату, за горло.
— Не треба, — остановил его Падалка, и в его словах, в успокаивающем взгляде и в том, как взводный мягко вынул из рук Пырьина бутылку, Романову показался какой-то намёк. — Ложь, ложь всё назад, трымай революционную дисциплину.
По требованию Романова Серафим Лаврович, двигаясь как кукла, плохо соображая, что делает, достал из буфета две большие синие чайные чашки и, поставив их на стол, с бульканьем наполнил доверху мутноватым самогоном. Трезвенник Глебушка неодобрительно на это посмотрел, покачал головой, но возражать не стал — отошёл к окну, не глядя присел на подоконник: придавленная молочного цвета тюлевая занавеска натянулась за его спиной полосами и с треском оторвалась от гардины, повиснув широким лоскутом. Глебушка встал, озадаченно посмотрел вверх, пробормотал «Извините». Романов взял одну чашку, дал Анастасии — та замотала головой, отказываясь, прижимая хнычущего ребёнка к груди, качаясь вместе с ним влево-вправо, тоже хныча и что-то неразборчиво приговаривая. Лавр, однако, от выпивки не отказался: взял чашку обеими руками, глубоко отхлебнул раз, другой — и сопливо закашлялся, скривился лицом, зажимая ладонью рот. Бойцы жадно смотрели, как молодой телеграфист пьёт. «Ты б хоть занюхал, парень» — посоветовали ему. Лавр, продолжая кривиться, не глядя отставил недопитую чашку на стол.
— Этого-то понятно, что брать, — ответил на вопрос Бессонова Заноза, отстранённо и внимательно наблюдающий за происходящим. — А бабу чего, оставляем, что ли?
-
Верю в этих людей. Хитрый, наглых - но живых, натуральных.
|
…а уже через несколько дней Варя первый раз побывала на сходке у Фейтов.
Предлог уйти из дома вечером подобрали простой и надёжный — Гера сказала Дмитрию Васильевичу, что хочет ради языковой практики познакомить Варю с живущим сейчас в Нижнем доктором, англичанином по отцу, mr. Fate, — английское переложение фамилии Андрея Юльевича отдавало какой-то театральщиной, оскаруайльдовщиной, но для Сироткина, языков не знающего, выглядело правдоподобно. И вот в февральский морозный вечер они отправились к Фейтам. Ещё по пути, на извозчике, скрипящем полозьями саней по тёмной улице в медном свете фонарей, Варя гадала, как может выглядеть встреча подпольщиков, кто там будет — какие-то карбонарии в чёрных плащах и масках? Каторжники со звериными рожами и наколками?
Ни первых, ни вторых там не оказалось, а оказалось, что сходка проходит в квартирке среднего достатка с полосатыми обоями и грудой тёмной одежды на вешалках, что участвуют в ней какие-то всё больше бородатые, растрёпано одетые люди сильно старше Вари: по двадцать пять, тридцать, сорок, пятьдесят лет. Заходя в набитую народом, полную едким папиросным дымом гостиную, где кто-то пил чай, кто-то спорил, Варя испугалась было, что её все сейчас заметят, начнут приставать к непонятными расспросами — а что вы делаете в революции да какая у вас платформа, да какой вы партии? Но нет — в тот вечер на неё внимания почти не обращали: все праздновали возвращение из тюрьмы арестованных в декабре Лазарева и Колосова.
Пятидесятилетний седобородый, очень солидно и пожило выглядящий Вениамин Егорович Лазарев был — удивительно для революционера! — садовником, владельцем цветочной лавки на Большой Печёрской улице, и Варя вспомнила, как во время октябрьского митинга в прошлом году на пороге именно той лавки стоял приказчик, раздававший всем красные гвоздики. Лазарева, кажется, здесь любили и уважали — все поздравляли его с выходом из тюрьмы, с тем, что ему позволили остаться в Нижнем — а ведь могли, говорил со смехом хозяин квартиры, Фейт, законопатить за Байкал! Лазарев очень деловито разговаривал с каждым, покровительственно кладя собеседнику ладонь на предплечье или берясь за пуговицу, говорил о каких-то планах восстанавливать работу комитета и вообще, отметила Варя, немного напоминал отца, когда тот говорил с конторскими приказчиками и капитанами пароходов.
Вместе с Лазаревым наперебой поздравляли с освобождением и Евгения Евгеньевича Колосова, двадцатишестилетнего плотного, коренастого молодого человека, с тёмными волосами и рыжеватыми бородкой с усиками на круглом правильном лице с чуть раскосыми глазами, как у азиата. Колосов, как рассказали Варе потом, был не просто революционер — он был революционер потомственный: против царя боролся ещё его отец, которого за это сослали в глухие дебри Сибири, где тот женился на тунгуске. Их сын стал революционером естественным образом, как становятся старообрядцами выросшие в старообрядческой семье, — он ушёл в подпольную работу с головой, когда был ещё младше Вари, в старших классах реального училища, да так с тех пор и жил: от ареста к ссылке, от ссылки к аресту, мотался между городами как неприкаянный, без дома, из года в год по каким-то съёмным квартирам, дешёвым номерам: позавчера в Одессе, вчера в Москве, сегодня в Нижнем, а завтра, может, и на виселице. Самое же удивительное было, что при такой-то жизни у него ещё и жена была — тоже революционерка, тоже ссыльная — и маленький сын, тоже Женя (все надеялись что хотя бы ему продолжать дело отца и деда не придётся). Так они втроём по меблированным комнатам, с переездами из конца в конец страны в третьем классе с чемоданами, набитыми литературой, и жили уже который год. Варя раньше не представляла, что такие люди вообще существуют, а однако ж, вот, существовали, жили своим очень особым миром, устроенным по иным правилам, исповедующим иные ценности, очень отличным от всего, что Варя до этого знала.
Этот мир, в котором жили Колосов, Лебедев, Ашмарин, Панафигина, вообще сильно отличался от того, как Варя представляла себе взрослый мир. С кристальной ясностью, с которой дети и подростки видят ложь, Варя понимала — мир взрослых построен на лицемерии и вранье: сперва несчастного человека, вынужденного работать за гроши, ежедневно терпеть унижения и издевательства, доводили до восстания и называли «смутьяном», потом стреляли в него из пушек и винтовок и называли это «умиротворением», потом устраивали комедию, в которой важные, как индюки, старики изображали, что ищут истину, хотя итог был известен заранее, потом этому человеку вязали за спиной руки и подвешивали за шею, а человек в рясе с книжкой в руках, в которой явно и недвусмысленно запрещалось убивать людей, лицемерно прощал — даже не убийц, а убиваемого. И ещё пару недель назад Варе казалось, что эту пучину несправедливости, это нагромождение лжи видит она одна, что все остальные молчаливо соглашаются с лицемерием мира и, с удовольствием, против воли ли, но участвуют в этом чудовищном спектакле.
А оказалось — нет, не все, и, когда Варя на вопрос, что вообще она думает по поводу происходящего в стране, начала сбивчиво рассказывать Колосову, Лебедеву, Ашмарину примерно то же, что в тот вечер Гере, её собеседники и не думали смеяться.
— Да-да, — серьёзно согласился Лебедев, внимательно выслушав Варю, — всё так. Но позвольте спросить, Варечка, а какую же вы видите альтернативу?
Приободрившись, Варя опять повторила то, что говорила Гере: что неплохо было бы если бы государством управляли такие люди, как её батюшка. И вот тут очень неожиданно — ведь мысль казалась такой очевидной и простой — её собеседники расплылись в снисходительных улыбках.
— Ууу… — длинно протянул Колосов. — Вы, сударынька, я погляжу, больше по романам, а политического-то ничего, поди, не читывали?
Это было очень обидно и несправедливо, но в разговор тут же вмешался Лебедев:
— Что ты такое говоришь, Женя, как тебе не стыдно! Легко тебе насмехаться, если тебе отец, как ты рассказывал, ещё в колыбели Некрасова читал! А Варе откуда всё это знать? Вы, Варечка, — обернулся он к ней, по-отечески положив руку ей на плечо, — не обижайтесь на него, Женя у нас революционер с младых ногтей, его всей теоретической базе отец обучил. И тут, кстати, Женя, гордиться особо нечем — тебе всё другие дали, а вот Варя до своих мыслей сама дошла. Ну а что позиция у вас, Варечка, пока нечёткая, так это ничего страшного: мы вам литературы дадим, начнёте просвещаться.
Уже когда они с Герой собирались уходить — время близилось к девяти вечера, а посиделки у Фейтов, кажется, затягивались допоздна — Колосов нагнал их, одевающихся, в прихожей.
— Вы меня извините, Христа ради, — с виноватой улыбкой сказал он, — я не хотел вас обидеть. А просвещаться вам, Варечка, всё-таки надо: вы уж, Гертруда Эдуардовна, проследите, хорошо? И вот мы тут посовещались, с чего вам лучше всего начать, ну так вот, начните с этого, — и Колосов вручил Варе книгу в растрёпанном переплёте, с потрескавшейся, измочаленной по краям простой одноцветной обложкой, на которой было только имя автора и короткое заглавие: «Что дѣлать?»
Эта книга, которую Варя начала читать в тот же вечер, оказалась удивительной: во всяком случае, подобных книг Варя до того не читала. Эта книга была написана без изящества, без таланта даже — временами жеманничающим, сюсюкающим тоном дамского романа, временами как бесхитростный фельетон, чуть ли не лубок, — но всё это убожество здесь смотрелось хитрой конспирацией, будто бомбист напялил армяк, вонючую шапку и притворился разносчиком папирос; главное же в этой книге было иным — здесь было о том, как люди отрицают ложь этого мира и выбирают что-то подлинное: Вера Павловна отказывается от навязываемого ей брака, не боясь идти против общества, Лопухов оставляет разлюбившую его Веру Павловну, не желая создавать пошлейшего любовного треугольника, а Рахметов — о, Рахметов оставляет весь мир целиком, все до единого удовольствия, принимая на себя, как инок, тяжёлый обет бороться ради неназванной, но всем понятной цели. О таких героях не писали романов, Варя и не знала, что о таком можно писать романы. Оказалось — можно.
Тем временем продолжались занятия в гимназии: настойчивое «Подымайся, Варюшка» от горничной Матрёны в половине восьмого, тёмное зимнее утро с метелью и хмуро тащащимися на службу замотанными людьми на снежной улице, сменная обувь и сводчатые коридоры гимназии, высокие белые двери класса — а за дверями опять насмешливые взгляды, записочки, полное одиночество. Не все, конечно, одноклассницы присоединялись к травле Вари, но многие боялись открыто выражать ей своё сочувствие, полагая, что могут стать следующей мишенью для насмешек; другие же охотно присоединялись к издевательствам — очень уж удобной целью Варя оказалась: мало того, что незаконнорождённая (о, на эту тему каждую шутку перешутили по десять раз — впрочем, все шутки были похожи), так ещё и староверка.
— Ты ведь, Варечка, не пойдёшь на бал, я думаю? — с притворным сочувствием спрашивала Зина Ребровская, окружённая своей верной подхихикивающей свитой. — Я слышала, что в вашей вере танцы считаются грехом? Очень жаль! Ты была бы звездой этого бала!
Ну конечно, сейчас в классе всех разговоров только и было, что о бале* — он должен был состояться в апреле совместно с первой мужской гимназией, и готовиться одноклассницы к нему начали ещё чуть ли не с августа. И как-то это не вязалось одно с другим — с одной стороны вечера у Фейтов, общество революционеров, где у каждого за плечами были аресты, ссылки, подпольная работа, а с другой — алгебра с тригонометрией, домашние задания, записочки, насмешечки, тому подобные мелочи, подготовка к балу. И не то чтобы нужно было выбирать что-то одно, но… может, и правда, ну его к чёрту, этот бал? Если уж становиться революционеркой, то становиться как следует, без компромиссов, без балов — только беззаветная борьба и упорный труд ради всеобщего счастья, как в «Что делать». Можно ли было представить себе вальсирующего Рахметова?
Варя была не так наивна, чтобы не понимать: то, что её так быстро приняли в подпольный кружок, где она самая младшая по возрасту, не может не быть как-то связано с состоянием её отца. И нет-нет да проскальзывало гадкое сравнение Лебедева, рассказывающего о социалистическом устройстве общества и необходимости борьбы за него, с той монашкой из Белой Криницы, которая так упоённо разливалась перед Варей о сладости монастырской жизни.
Это действительно было похоже: как тогда, так и сейчас главное слово, ради чего был затеян весь разговор, «деньги», ни разу не произносилось, не намекалось на то, что Варе будут так рады — в скиту ли, в партии ли — именно из-за отцовского состояния; и всё-таки разговор был именно об этом. Это вызывало горькое разочарование — неужели даже тут, в революции, всё, как в обычном взрослом мире, где все всегда друг другу врут и так уже запутались в этой лжи, что не знают, как можно по-другому? И вот как-то, на третье, на четвёртое ли посещение Фейтов, в порыве этого разочарования Варя взяла да и спросила — правда ли, что вы, взрослые, опытные люди, возитесь с ней, семнадцатилетней девчонкой, только потому что у неё отец миллионщик?
Лебедев от такого прямого вопроса растерялся, понёс что-то про то, что, конечно, нет, что приобщение молодёжи к идеалам революции есть его долг — в общем, пошёл плести примерно то же, что плела бы мать-игуменья в скиту, если бы Варя задала такой вопрос ей, но положение неожиданно спасла Елизавета Михайловна Панафигина — невысокая скромно одетая женщина одного возраста с Герой, с двумя толстыми тугими косами за спиной:
— Послушайте, Варя, — серьёзно ответила она, — ну, конечно, деньги вашего отца для нас важны. Как они могут быть не важны? Вы знаете, что у нас с кассой? Нет-нет, Вениамин Егорович, подождите, я скажу: вы знаете, Варя, сколько в нашу кассу вносят рабочие из Сормова? Кто по десять копеек, кто по двадцать, с цеха хорошо если рубль соберут. Но мы и за то им благодарны: вы знаете, Варя, сколько получают рабочие в Сормове?
Варя не знала. Она вообще не очень разбиралась, сколько получают рабочие или прислуга, только знала, что очень мало, а сколько именно — не представляла. Она знала, что извозчик от школы до дома довозит за полтину, что кофе с пирожными в кондитерской обходятся копеек в тридцать, что её платье, купленное в прошлом году в Париже, стоит в пересчёте около трёхсот рублей и что состояние её отца составляет около полутора миллионов…
— Двадцать пять рублей в месяц, — горько сказала Панафигина.
— Двадцать пять ещё не каждый имеет, — заметил развалившийся на диване, с ногами на валике и папиросой в зубах Колосов, который жил в Сормове. — Ближе к двадцати большинство.
— Вот именно, — кивнула Панафигина. — Вы представляете, как на двадцать рублей в месяц жить?
Варя не представляла.
— А как на такое жалованье прожить с семьёй? — продолжала Панафигина. — У большинства ведь семьи. Жена, конечно, в таких семьях тоже работает — шьёт, стирает или тоже трудится на заводе. Но женщинам платят куда меньше, чем мужчинам, так что это в лучшем случае тридцать рублей на двух человек и детей. И они с этих денег ещё дают нам какую-то копеечку, представляете? Или вот взять наших партийцев, — Панафигина показала на Витольда Ашмарина, молодого ссыльного поляка с копной чёрных волос на голове и остроносым, вертлявым лицом. Ашмарин в этом кружке был самый молодой после Вари и, кажется, считался человеком легкомысленным. Панафигина продолжала: — Вот как вы думаете, сколько Вите, как ссыльнопоселенцу, выдаёт на проживание наше щедрое государство? Шесть рублей в месяц. Как вы думаете, на такое можно прожить?
— И недели нельзя, но я ещё даю уроки, — ответил Ашмарин за Варю.
— И всё равно Витя, несмотря на свою бедность, каждый месяц вносит рубль в нашу кассу. Понимаете, зачем я всё это вам говорю? Конечно, нам важны ваши деньги! Как они могут быть нам не важны, если вы легко можете расстаться с десятком, с сотней рублей, а рабочие отрывают от себя по гривеннику? Ведь мы тратим эти деньги не на себя: мы собираемся восстанавливать типографию. Да-да, Женя, — обернулась она к вскинувшемуся было Колосову, — я не вижу, зачем мы должны это таить от Вари и Гертруды. Станок есть, но нужны деньги на квартиру, на бумагу, на краску… Это не значит, что вы, Варя, нужны нам только за этим, но я скажу честно — да, деньги нам очень нужны.
И на следующую встречу Варя уже пришла с пятьюдесятью рублями, выпрошенными у отца якобы на новую муфту — муфту-то она действительно купила, но дешёвенькую, лисью, и из других денег, а пятьдесят рублей принесла в кассу, которой заведовала Панафигина. Елизавета Михайловна приняла взнос с благодарностью, но без подобострастия, и это тоже было как-то очень по-революционному — будто Варя не отдала просто так довольно большие деньги, а выполнила какое-то партийное задание, которое и так обязана была выполнить, — вот её за это скупо поблагодарили, и всё. Она потом ещё несколько раз приносила взносы.
В другой раз подобная расточительность, наверное, не укрылась бы от взгляда отца и Марьи Кузьминичны, но так уж совпало, что сейчас им было не до того. Через некоторое время после того, как Варя начала посещать с Гертрудой вечера у Фейтов, по особняку на Ильинской прокатилось невероятное радостное известие: Марья Кузьминична забеременела.
Кажется, в это уже не верил никто, — ни Марья Кузьминична, ни отец, ни скитские постницы, каждый день возносившие за это молитвы, ни доктора — но теперь, к марту, стало очевидно: Марья Кузьминична беременна. Вся жизнь в особняке на Ильинской перевернулась вверх дном, особняк стал полон людьми — в гостевой комнате по соседству с той, которую заняла Гертруда, поселился тонкоусый, в пенсне доктор из Петербурга, судя по всему много бравший за свои услуги и пока не занимающийся ничем особым, кроме флирта с Гертрудой да политических разговоров с отцом. Две другие гостевые комнаты заняли инокини-черницы из Семидевьего скита, днями простаивающие на коленях в моленной и глядящие на Гертруду и доктора с откровенной глухой враждой — о, Варя, не одно лето проведшая на послушании в скитах, лучше прочих знала, с каким переходящим в ненависть отторжением могут глядеть черницы на любого чужака и на всё чуждое древлему благочестию. Марья Кузьминична стала задумчива, много ела, много молилась, ещё больше плакала; отец, временами к ней грубый, как он вообще бывал временами ко всем груб, стал предупредительно-нежен и неуклюже заботлив, что подчас выражалось в странных формах — например, когда он совершенно в своём прежнем духе начал орать на Марью Кузьминичну, когда ей вздумалось перенести в другое место довольно тяжёлый горшок с цветком.
— Да ты, Василич, ругайся-то хоть потише, — улыбаясь сквозь слёзы, упрекала мужа Марья Кузьминична, — от крику-то тоже пользы немного, — и отец умолкал.
Что там делают Варя и Гертруда, на какие встречи ходят, на какие покупки берут деньги — на это сейчас не обращал внимания никто: в первый раз Варя побывала у Фейтов в феврале, а к марту уже перестала спрашивать разрешения — все как-то само собой приняли, что пару раз в неделю Варя с учительницей куда-то уходят, а куда именно — всем было не до того, тем более что отец был занят не только заботой о жене, но и выборами.
В стране происходило историческое событие: выбирали Думу, первый в истории российский парламент. О выборах говорили все, каждая газета пестрела невиданными, только появившимися выражениями — курии, избирательный ценз, выборные ступени. Без числа проходили собрания каких-то представителей, съезды. И даже несмотря на беременность Марьи Кузьминичны, отец не мог такого пропустить и, хоть сам в Думу не баллотировался, но в избирательной кампании участвовал с жаром и азартом: выступал на предвыборных собраниях, ездил в Москву и Петербург, ассигновал средства на партию кадетов, ещё и дома постоянно спорил с доктором, возьмут кадеты выборы или не возьмут (доктор утверждал, что кадеты провалятся). А вот в кружке Фейта к этим выборам относились совсем иначе.
— Варечка, — вздыхал Лебедев, отставляя от себя стакан с рубиновым чаем, — ну конечно, ваш батюшка поддерживает эти выборы, ведь избирательная система устроена так, что его голос весит… во сколько там раз? Витенька, ты ведь считал?
— Я считал, но уже сам запутался, — отвечал сидящий в стороне на диване Ашмарин, с тихим треньканьем настраивающий гитару.
— В общем, я хочу сказать, что эти выборы устроены так хитро, что голос одного капиталиста или землевладельца весит столько же, сколько голоса сотен, а то и тысяч крестьян или рабочих. Это не выборы, это насмешка над идеей парламентаризма. Наша партия этот спектакль бойкотирует.
«Наша партия» — означало партию социалистов-революционеров, других в этом кружке не было. Варя пока не очень понимала, принадлежит ли она уже к Нашей Партии, — документов тут никто никому не выписывал, люди просто начинали считать себя принадлежащими к эсеровской партии, называть себя эсерами, вот и всё. Наверное, если бы Варя и про себя теперь сказала «я эсерка», никто бы её поправлять не стал.
— Я уже не говорю про то, Варя, — заметила, входя в комнату с самоваром, Панафигина, — что мы с вами и Гертрудой Эдуардовной лишены удовольствия участвовать в этом фарсе даже с таким мизерным голосом, как у крестьянина. Догадываетесь, почему?
— Предположим, что в Европе у женщин избирательного права тоже нет, — заметил Георгий Евстигнеевич Шаховской. Молодой, но с густой, окладистой бородой и бритым черепом, сложением и лицом немного напоминающий покойного Александра III, Шаховской был вообще загадочным человеком — вроде как аристократом, чуть ли не князем, покинувшим столицы ради неприметной работы земским врачом в Арзамасском уезде (всё как из Чернышевского!). В кружке у Фейтов он бывал нечасто, только когда приезжал в Нижний из своего села.
— Это вы к чему сейчас? — обернулась к нему Панафигина.
— К тому, что давайте не будем бежать впереди паровоза, Елизавета Михайловна, — спокойно откликнулся Шаховской. — И вообще я считаю, что лучше уж такая Дума, чем никакой.
— А я думаю, лучше уж никакой, чем такая! — пылко возразила Панафигина, и пошёл жаркий спор.
Вообще спорить тут любили и спорили часто, с удовольствием, с жаром, но без особой злобы, и даже, Варя поняла, гордились тем, как часто не совпадают у разных членов партии мнения. «Ну, мы же не большевики, чтобы все по стойке смирно стоять», — говорил Колосов. Большевиков и меньшевиков, то есть эсдеков, тут время от времени поминали — то иронически, когда шутили над заскорузлостью и фанатической догматичностью марксистов, которые искали ответы на все вопросы жизни в «Капитале», как начётчики-евреи в Торе, то зло, когда сетовали на то, каким влиянием эсдеки пользуются среди рабочих, то сочувственно — когда говорили об очередном арестованном большевике. Между эсерами и эсдеками были сложные отношения, но, кажется, скорее дружественные, чем враждебные. Во всяком случае, дело с типографией сдвинулось с мёртвой точки в конце марта именно благодаря большевикам.
— Ну что-с, — потирая руки, говорил Лебедев, — кажется, дело пошло, с апреля у нас уже пойдёт литература! Спасибо эсдекам: долго их уговаривал, но, кажется, уговорил — помогут нам со шрифтом, полпуда из типографии получим, у эсдеков там хорошие связи. Человек на станок у меня уже есть, парень надёжный, так что за печать можем не беспокоиться. А вот кому поручить складировать… Варя, Гертруда, вы уже давно к нам на собрания ходите, почему бы вам не взяться за это дело? Ничего сложного: пачку литературы забрали с типографии, потом сложили в надёжном месте, потом отнесли, кому сказано. Ну что, возьмётесь?
-
Как же все образно,ьвыпыкло, колоритно! Я положительно в восторге.
|
Шумное приветствие народа поначалу ошеломило Яцека: он, конечно, знал, что простой гродненский люд к нему хорошо относится, но такой встречи не ожидал. Кажется, многим из низов пришлось по душе, что Юхновича выбрали одним из претендентов на княжеский пост, и, конечно, просто так этот момент народной любви упускать было нельзя.
— Держи, держи, Казик! — не терпя возражений сунул он гончару серебряную монету, а кувшин передал одному из парней Збышека, шедших следом. — О, тётка Февронья, ну уж мимо твоих кнедликов я не проеду, — и, взяв один, с набитым ртом комично замахал на разносчицу, — всё, всё, прячь корзину скорее, пока Збышек с парнями тебя не объели!
От приглашения выпить Яцек, однако, отказался: походя цокая по грязной улице на своём вороном жеребце, Юхнович крикнул рассевшимся у корчмы подмастерьям, что занят, — по делам, дескать, еду. Пускай Юхновичи и были людьми из народа, но бражничать по первому приглашению каких-то подмастерьев тоже не годилось — такого человека, который готов заставить своё дело ждать, лишь бы поскорей усы в пиве смочить, никто бы не рассматривал всерьёз, а в первую очередь и сами бражники. Нет, нет, пускай видят, что Яцек человек хоть и свойский, а всё-таки занятой: не просто так на коне по улицам разъезжает, а, значит, дела имеет.
— Ну ты даёшь, Богуся! — искренне удивлённо воскликнул Яцек, оторвавшись от пухлых, влажных губ цветочницы, косо свесившись с седла. Яцек-то думал, что она ему цветочек из корзинки хочет под отворот чёрно-алой клювастой шляпы, что ли, приставить, вот и склонился к ней, а она вместо этого закинула ему руки за шею, прижалась губами, высоко запрокинув лицо. — Какая ты стала бойкая, однако! Давно ли в куклы играла, а сейчас гляди-ка! Смотри, девка, увезу, погублю! — шутливо-угрожающим громким шёпотом закончил он и сделал такое движение, будто хочет подхватить сейчас цветочницу под мышки, перевалить через седло да надать пятками в бока коню. Богуся взвизгнула, отпрянула, Яцек строго погрозил ей пальцем.
Выпрямившись в седле, Яцек уже хотел было двинуться дальше, но оглянулся по сторонам — выходка Богуси собрала зрителей, да и вообще место было бойкое, торговое — разносчицы кнедликов и цветов ходят, и корчма с пивом рядом, и лавки ремесленников недалеко… Яцек очень отчётливо понял, что сейчас должен что-то сказать — именно теперь от него ждали каких-то слов: весть о выборе претендентов на княжеский титул уже разлетелась по городу, но никто из жителей ещё толком не успел толком осмыслить, что значат для него лично фигуры каждого из кандидатов, чего ждать от каждого. Нет, нет, нужно было что-то сказать — понимал Яцек, оглядываясь на Богусю, на подмастерий за почерневшим от времени деревянным столом под тканым навесом у шинка, на вышедших из дверей лавок ремесленников, на тётушку Февронью с кнедликами…
— Добрый народ! — зычно крикнул Яцек, заставив Грачика настороженно прижать уши, нервно переступить копытами по грязи перекрёстка. — Добрый народ! — повторил он ещё раз и продолжил, лишь когда увидел, что собрал на себя взгляды, привлёк внимание. — Вы все слышали волю нашего великого князя, все знаете, что через пять седмиц у нашего города будет новый князь! Пять имён назвал великий князь, из них одно моё! Ничего не хочу дурного про других панов сказать — все благородные, родовитые, не то что я! Многие и скажут, мол, Юхновичи паны без году неделя — и правда это! Могут мне припомнить, как я тут ещё зим десять тому как голодный во рванье вот по этой улице ходил — правда, ходил, и есть здесь, кто подтвердить это может. Вон хоть тётку Февронью взять, — Яцек широко простёр руку, обращаясь к разносчице, — помнишь, тётка, как пирожками меня подкармливала? А, помнишь, да? Всегда самые подгорелые совала, а и те мне манной небесной казались! Ну так вот: всё это так, много что про меня можно сказать — и что навоз за лошадьми убирал, и что в хлеву зимой спал, — всякое бывало! Но вот чего про меня никто, не покривив душой, сказать не сможет, — Яцек понизил голос, сменил прежний задорный, шутливый тон на серьёзный, проникновенный, — так это что я хозяин плохой. Что ленивый, что злой, что неблагодарный — уж такое про меня говорить несправедливо, это напраслина будет, и каждый, кто на меня работал, такое скажет. Так ведь, Збышек? (Збышек кивнул) То-то же. А что такое наш славный город, как не общий дом наш? Разве ему справный хозяин не потребен? Вот и думайте, гродненцы, кто вам ближе — Волкович, от которого кожевенники сбежали, магнат Вилковский, который со своих земель кормится и которому до вас дела нет, судья, который… а, да не мне вам объяснять, как в суде к простому человеку относятся! — Яцек горько махнул рукой. — Или вообще немец Корф, который нас тут всех рыцарям сдаст? Вот думайте, гродненцы, думайте, кто вам ближе!
Яцек выдержал паузу, кругом оборачиваясь на коне, потом продолжил:
— А пока вот чего хочу вам всем сказать: с завтрашнего дня, с самого утра, ежели у вас какой-то вопрос или беда какая — приходите ко мне в поместье. Что помогу — пока обещать не буду: не князь же я покудова, чтобы такое обещать! Но что могу — сделаю, а что не смогу — запишу, запомню. А и вы так же — обвёл он взглядом лица прохожих кругом, — если мне чем-то можете помочь, заходите! Раз уж я за вас, так и вы за меня теперь будьте, а уж вместе нас ни одна сила, кроме Божьего соизволения, не остановит! Так что заходите, заходите все, двери открыты! Только, — с прежним шутливым тоном Яцек предостерегающе вскинул палец, — водку с брагой не несите, а то хорош я буду князь, если вместо того, чтобы дела делать, мы перепьёмся все! И ты, Янек, — обратился он к цветочнику, наблюдающему за речью из двери лавки, — за Богуськой-то своей следи! Огонь девка: прибежит первая, а тут уж я и не знаю, как удержусь! — Яцек с комичной виноватостью развёл руками.
—
Оставив десяток бойцов у входа рядом с Тушей, Яцек прошёл в светлицу, поклонился ростовщику в ответ, обменялся приветствиями, дождавшись приглашения, уселся. Он не собирался принимать по-еврейски хитрый тон старого Моше — в исполнении нееврея он звучал бы оскорбительно, — не собирался и рассыпаться любезностями, уверениями в нежных чувствах к еврейскому народу: Моше был ростовщик, а значит, наверняка не дурак, чтобы покупаться на такое. Особой любви к евреям Яцек и правда не испытывал, даже, скорее, испытывал недоумённую неприязнь к жидовскому стремлению жить наособицу, отвергая Христа, — ну неужели сложно, как все, принять истинную веру, разве обязательно упорствовать в заблуждениях? Но вообще говоря, это было не его дело: хотят попасть после смерти в ад, пускай идут, — в конце концов, мало ли христиан по своей воле занимались вещами куда страшней ростовщичества? Да и вообще, что плохого в ростовщичестве? Неприятное, но полезное занятие. И всё же — неприятное: вообще всегда неприятно у кого-то что-то просить.
— Конечно, я за злотыми, — прямо ответил Яцек. —Вы не дурак и, конечно, понимаете, в связи с чем мне потребовались деньги. Впереди меня ждут затратные пять седмиц.
-
Настоящее мастерство - развернуть сценку для атмосферности в действие!
-
|
— Так точно, господин ротмистр, споймали, — ухмыльнувшись, ответил один из солдат, оторвавшись от работы. — Господин капитан его пока в дом отвели.
Рауш прошёл во двор, а оттуда через парадный вход и маленькие тёмные сенца, никем не останавливаемый, зашёл в правительственное общежитие. Он здесь ещё ни разу не бывал и сейчас с любопытством осматривал это место: в общем, дом немного чем отличался от обычного жилища богатого и образованного купца первой гильдии. Прошёл через столовую, миновал какие-то закрытые комнаты — жаль, что без табличек на дверях, а было бы любопытно знать, что вот в этой комнате изволит почивать Маслов, вот тут Мартюшин, а вот тут сам Чайковский, — вышёл в пустую, темноватую в сером свете дождливого дня гостиную с полосатыми обоями, фотографиями в овальных рамочках по стенкам, камином с малахитовой отделкой. На столиках газеты, пустые пепельницы, забытая кем-то книжка на диване — «Госпожа Бовари». На стене, приметил Рауш, было что-то вроде доски объявлений — приколотые булавками клочки бумаги. Пригляделся, разбирая чужие почерки, высматривая что-нибудь важное: нет, ничего такого, только объявления вроде «Товарищи! Кто взял из библиотеки "Мелк. кредит" Чупрова и Уэбба о кооп. движ. в Великобритании, пожалуйста, верните в библиотеку или сразу Лихачу! Очень надо для работы!!!» или «Коллеги! Среди нас завёлся то ли большевик, то ли барин, привыкший, чтобы за ним убирали слуги. Кто-то очень нечистоплотно пользуется ванной, оставляя после себя волосы на стенках и в стоке. Видит Бог, это не та беседа, которую я хочу проводить с каждым из вас, поэтому просто оставляю эту записку здесь и надеюсь, что виновник прочитает и сделает выводы. Давайте уважать друг друга! Ч.»
— А, барон! — оторвало Рауша от чтения записок приветствие. Рауш обернулся и увидел, как в гостиную вслед за ним вошёл комендант Архангельска — тридцатичетырёхлетний долговязый, часто сутулящийся Александр Ильич Узкий — в противоположность своей фамилии с широким чухонским лицом со светлыми редкими усиками и россыпью родинок, выделяющихся на белой, почти бледной коже. Раушу сразу бросилось в глаза, неприятно резануло — Узкий был без погон. На должности коменданта города он был всего третий день, а до того регулярно бывал завсегдатаем офицерских пирушек чаплинского штаба, ещё не в «Париже» тогда, в других местах. Тогда-то он, конечно, как и все, носил погоны, фрондируя, а сейчас вот снял: Рауш не видал его после назначения на новую должность и не знал, что Узкий вот так вот просто расстался со знаком офицерской чести. Узкий, кажется, догадался, что Рауш смотрит на темноватые пятна, оставшиеся на выгоревшем кителе на месте погон, и поспешил перевести разговор в другое русло. — А, тоже любопытствуете? — со смехом показал он на доску. — Удивительное чтиво, конечно. Про волосы читали? Это ещё что, тут про ёршик было объявление Чайковского, только уже сняли. Удивительно, конечно. Какая мелочность! — Узкий покачал головой.
Рауш спросил про вандала.
— А, этот? — усмехнулся Узкий. — Честно скажу, барон, такого тупицы я давно не встречал. Спрашиваю: ну ладно, решил ты на стене надпись оставить, часового твой приятель отвлёк, хорошо. Но зачем ты средь бела дня-то полез? Молчит. Как рыба глазами водит из стороны в сторону, — Узкий комично показал, как, — и молчит. Профсоюзники подослали, к гадалке не ходи, они на Чайковского давно зуб точат, слишком правый он для этих эсдеков недорезанных.
|
Август 1774 г.,
Волга близ Тетюш,
Веха 17
Утро
Река была как запотевшее зеркало: дальний берег в дымчатой шири, ещё не освещённый лучами солнца, сизовел и казался сразу не объёмным, перенесённым на плоскость в мельчайших, будто тонко и бледно вырисованных деталях — тёмных кущах на берегу, крутых холмах с тончайшей жёлтой строчкой тропинки, чёрных шапках лесов с выделяющимися ниточками берёз. Мелко и тихо, как в корыте, маслянисто плескалась тяжёлая тёмная вода о бревенчатый край плота, и всё это было так мирно, так спокойно, что совершенно невыносимо было на это глядеть, и опять, не сдерживаясь, запрокинув шею к высокому розовому рассветному небу, истошно, он сорванным голосом закричал, не в силах более терпеть рвущего, дерущего плоть крюка, которым был зацеплен за ребро.
Крик вывел из забытья Гришку — тот тоже был подвешен рядом: под ребро с правого бока ему воткнули железный крюк, связали руки за спиной, чтобы тот не мог схватиться за цепь, подняли на пару вершков над брёвнами плота, оставили так висеть. Гришка сперва орал, извиваясь как рыба, пытался высвободить руки, потом, крутясь на цепи, ловил ртом железное звено — поймал: кроша зубы, впился в железо, стремясь чуть подтянуться, ослабить рвущую боль в боку, держался так какое-то время с натянутыми на шее жилами, с безумным собачьим взглядом из-под прижатой к щеке цепи, рыча от боли и ужаса, — но слишком тяжёл он был: челюсть свело, Гришка разжал зубы, дёрнулся на цепи, и ребро не выдержало, хрустнуло, переломилось, крюк с мясным звуком вырвался из тела, Гришка, истошно крича, рухнул на плот, покачнув его на воде, — и броситься бы ему сейчас в реку: не выплыл бы со связанными руками, так хоть бы утонул, но нет —потерял сознание, распластался на брёвнах с жуткой чёрной дырой в боку. С расшивы, на которой плыли солдаты, спустили лодку, приплыли к плоту, повесили Гришку заново за другой бок, в этот раз понадёжней зацепив, за два ребра.
Сложно было поверить, что всё это продолжается лишь несколько часов: плот колотили вчера, и долго все тогда, сидя в сарае, гадали — правда ли плотники готовят виселицу зарёберную, как обещал поручик, или всё же зашейную: многие говорили, что поручик просто пугает, а будет зашейная. Про зашейную все уже думали — ничего: минута, другая и конец, а вот корчиться на зарёберной было страшно. А как всех выгнали, вывели к спуску, все увидели в дрожащей отражениями костров чёрной воде страшный плот с рамой и десятком крючьев на цепях, как на скотобойне, — сразу все обомлели, оцепенели в тупом смертельном ужасе: солдаты били прикладами, тащили за шивороты, волокли упавших, а пленные валились в пыль, кричали, выли.
Полдень
Не было избавления — веса не хватало, чтобы крюк сломал ребро, как Гришке: крюк железно впивался в бок, надёжно, как гвоздь в доске, устроился под ребром и, конечно, не мог убить, но драл, драл плоть, причиняя невыносимые страдания даже в недвижности, но вдесятеро более — при малейшей волне, любом точке, повороте, движении. Гришка, уже не приходящий в сознание, тяжёлой тушей висел рядом со страшной рваной раной в боку, с сахарным обломком косточки из-под рваного мясного лоскута, с залитым кровью боком. Кровь притягивала взгляд, манила яркой живостью, с которой текла по бледному боку, живая, влажная — и оставалось только ловить печной солнечный воздух пересохшим ртом, как вынутая из воды рыба.
То и дело кто-то из висящих, будто очнувшись от мучительного сна, разевал рот, заходился отчаянным, разносящимся по речному простору криком, бранью. Друг с другом почти не разговаривали, погружённые в собственные страдания; только вопили наперебой встречной лодке, увиденным на берегу рыбакам, оторопело снимающим шапки, — материли, просили помощи, молили о прощении, кто что. Или вот увидели чернильно-чёрную тучу далеко слева, закричали «туча, туча!», следя взглядами, страстно желая, чтобы наплыла, прикрыла палящее солнце, освежила пересохшие губы дождём — но туча протянула светлый сноп дождя далеко в стороне. Горько матерились на неё, на судьбу, на Бога.
Тёмная, бутылочного цвета вода издевательски прохладно плескалась под брёвнами плота, влекла зеленоватой глубиной, рассыпалась солнечной рябью, миллионом сверкающих искр на голубой зыбистой глади. С одной стороны тянулись пологие луга, а когда ветер поворачивал подвешенное тело к правому борту, открывались крутые зелёные холмы, известняковые утёсы. До Симбирска было ещё долго: поручик говорил, что если кто доживёт на крюке до Симбирска, там ему, так уж и быть, милостиво заменят крюк петлёй. Гришка, кажется, дожить точно не мог, остальные — кто как. То и дело оглядывались на корму расшивы с солдатами, на буксире за которой шёл плот — не поднимут ли парус, чтобы шибче идти: не поднимали, слаб был ветер, тихонько шла крутобокая белая расшива вниз по течению, — только кормовым веслом время от времени подгребали на стрежень.
С отчаянной попыткой хоть как-то отвлечься от нестерпимой муки он запрокинул голову, переведя расплывающийся жаром взгляд на расшиву, заскрежетал зубами, увидев собравшихся на палубе, рассевшихся в кружок солдат и в центре кружка — ненавистного, укравшего у него единственную возможность избежать страшного крюка человека, белобрысого юнца, который сейчас, как паяц, выделывал перед хохочущими солдатами коленца, кривлялся, строил рожи, что-то упоённо им рассказывал, размахивая руками. Не в силах на это глядеть, Ерошка тихо завыл, закрывая пляшущие солнечными пятнами глаза.
—
Вечер
— Ну что, сукины дети, ворьё? Кто тут жить хочет? — с грозным добродушием сказал поручик, с фонарём в руке заходя в сарай, где вдоль стен, обхватив руками колена, сидели пленные пугачёвцы. За поручиком через дверь повалили солдаты в париках, мундирах, с ружьями.
Жить хотели все: только какой-то татарин, не понимавший по-русски, не сразу вскочил с места, но и тот, оглянувшись и поняв, что к чему, вслед за всеми метнулся к поручику. Ерошка тоже бросился к офицеру, моля о пощаде, не веря своему счастью — уже с утра всем было объявлено, что их ждёт повешение, весь день все слушали, как снизу, у пристани, работают плотники, сколачивая плавучий эшафот, на котором можно было бы везти повешенных в назидание. Солдаты принялись тыкать штыками, бить прикладами упавших наземь пленных, отгонять тех, кто очень уж настырно лез, стремился припасть к грязному сапогу поручика, тянул руки. Ерошка стремился пролезть вперёд, кричал, пытаясь поймать скользящий по пленным насмешливый взгляд поручика.
— Нет, сволочь бунташная, — смеясь, продолжил поручик, — так дело не пойдёт. Мы вас за рёбра вешать будем, но вот какая штука: вас тут одиннадцать, а крючьев с цепями мы только десять нашли. Могли бы заколоть лишнего, но я решил — помилую одного.
Все замерли с остановившимся дыханием, ожидая, что скажет поручик дальше.
— А кого же мне помиловать-то? А вот как я решил: кто моих солдат больше всех развеселит, того и помилуем. Ну, что зырите, ворьё? Давай, давай! — поручик всплеснул руками, подгоняя. — Покажи, кто на что горазд, повесели нас!
Сначала пленные не поняли, что от них хотят, переглядывались: но солдаты, ухмыляясь в усы, показывали им — давай, мол, начинай, светили фонарями на растерянных, остолбенелых пленников. Поручик стоял с кривой усмешкой, сложив руки на груди. Наконец, кто-то сообразил, начал первый медленно, неуклюже выделывать коленца, прихлопывать в ладоши, кричать «Тра-та-та!» — и сразу же остальные, поняв, что нельзя отставать, нужно выгрызать этот единственный на одиннадцать человек шанс, принялись делать то же. Это выглядело не смешно, а нелепо, жутко — одиннадцать избитых, во рванье мужиков в дрожащем жёлтом фонарном свете в пустом сарае на разные лады неуклюже, неумело, без веселья дёргано плясали, размахивали руками, кричали петухами, мяукали, хрюкали, что-то изображали, закатывали глаза, корчили рожи. Кто-то не выдержал, повалился, принялся с плачем просить пощады — его ударили прикладом, закричали «Пляши, пляши, сукин сын!»
Плясал и Ерошка — судорожно дрыгался, махал руками, мотал головой, кричал что-то нечленораздельное, ловил взгляды криво скалящихся, сплёвывающих на пол солдат: не смеются, смотрят на других, с ужасом думал он и оттого плясал всё нескладней, да и не плясал даже, а трясся, толкая других, валясь боком то вправо, то влево. Все кричали, голосили, кто-то безумно вопил «А что ели, кашку, а что пили, бражку!», и, не в силах вспомнить слова дальше, повторял эту фразу снова и снова. Рядом, переваливаясь, надувал щёки Гришка, подвывал, изображая то ли медведя, то ли корову. Со внезапным наитием Ерошка вспрыгнул ему на широкую спину, схватил за шею, заорал «Ноо!», изображая всадника, — Гришка повалил его на землю, начал тяжело, как чугунными гирями, лупить по лицу — солдаты нестройно засмеялись, и Ерошка уже счастливо думал, что, наконец, нашёл способ привлечь к себе внимание, но, подняв взгляд на солдат, увидел, что те смотрят не на него.
Они глядели на Игнатку, зловонного сумасшедшего, любителя пить кровь, который плясал, подбоченившись, с гордым, надменным видом крича: «Я Пугач! Гляди, гляди, народ, на своего царя! Вшивый царь, вонючий царь Емелька едет! Бородища — о! Зубища — о! И когтища на руках, и копыта на ногах! А тело-то жабье, а шея змеиная, а голова свиная, и три рта больших! Одним-то ртом он водку пьёт, а другим указы говорит, кого казнить велит! А третьим ртом он Бога кроет, а в лапах петушиных…»
Ерошка понял, что отставать нельзя, что на Игнатку обращены все взгляды солдат: вскочив с пола, он, не умея придумать ничего лучше, заорал: «Я, я Пугач!», заколотил себя в грудь, но Игнатка тут же откликнулся: «Самозванец! Гляди, народ, самозванец себя Пугачом называет!». Солдаты посмеивались, улыбнулся и поручик, и, видя это, Ерошка, Гришка, другие бросились был на Игнатку, чтобы заткнуть его, забить, но поручик распорядился: «Давай, давай, вытаскивай этого малого, пускай дальше пляшет!» И Игнат плясал дальше.
-
Круто дезинформируешь читателя, когда кажется, что это Игнат на виселице, а оказывается, Ерошка. Ну и конечно казнь вполне в духе XVIII века с его модой на пытки.
|
12.07.1774
Казань
Веха 19Генерал-майор Нефёд Кудрявцев был не просто стар — он был древен: ему шёл девяносто девятый год. Кудрявцев видел всё: боярскую допетровскую Москву, Полтавскую баталию, Бирона, Елисавет Петровну, царствующую ныне матушку-императрицу, наконец, — и всё помнил. Тело Нефёда Никитича одряхлело, ссохлось, сгорбилось, укутанное в душегрейку, дрожало в могильном ознобе даже под солнцем, но память была по-юношески цепкой. Нефёд Никитич любил цитировать из Екклесиаста и говорил всегда, что новости ему неинтересны, так как стоит покопаться в памяти и окажется — что-то подобное уже когда-то было. И сейчас Нефёд Никитич понимал, как ошибался: такого, наступления на Казань двадцатитысячной орды восставших крепостных, инородцев, казаков, он никогда не видывал и никогда не испытывал того, что сейчас: животного ужаса, перехватывающего дыхание трепета в ожидании того, как бунтовщики неизбежно ворвутся в жарко, банно пахнущую ладаном и потом, переполненную воющую, стонущую, молящую монастырскую церковь. Пугачёвцы подошли к Казани вчера вечером, встали огромным лагерем на высоком Царицынском бугре в виду города: горожане в оторопи глядели, как в синей ночи бугор зажигается сотнями костров, как гуннское становище. В городе спешно ставили всех под ружьё: слобожан, пожарные команды, служащих Адмиралтейства, даже гимназистов, выдавали ржавые копья, помнящие ещё Ивана Грозного, пыльные мушкеты. Солнечным сизым утром орда самозванца пошла на приступ: пугачёвцы двигали пушки на предместья у Арского поля под едкой дымовой завесой горящих сенных возов, расстреливали немногочисленные заслоны. Пугачёв отрядил часть войск пробираться овражным, лесным косогором над Казанкой, который прикрывали только те самые гимназисты с одной пушкой. Гимназисты успели дать один жидкий залп, из пушки выстрелить не успели — вооружённые дрекольем, ножами, косами мятежники забили до смерти попавших им в руки. Самозванец гарцевал на вороном коне перед рабочим предместьем, Суконной слободой, где у трактира для смелости поили водкой мобилизованных рабочих. У них там тоже была пушка: она выстрелила по Пугачёву раз, ядро шлёпнулось в чёрную грязь, — и, вместо того, чтобы пустить второе ядро, с грохотом разорвалась чугунным бутоном, запустив в воздух колесо, поубивав прислугу. Пугачёв в приступе куража дико хохотал, показывая нагайкой. На соседнем холме показались всадники в мохнатых шапках, с кривыми луками, принялись засыпать слобожан градом стрел, пушки Пугачёва начали бить картечью: слобожане побежали, оборона рухнула. Мятежники лупили ядрами вдоль улиц, рвались вперёд; горожане хлынули кто прочь из города, ктo за стены крепости, кто, как Нефёд Никитич, в Богородицкий монастырь. Тесно набившаяся в церковь толпа в ужасе завопила, когда совсем рядом оглушительно бахнул пушечный выстрел, и в окованные медью двери с чугунным грохотом и треском ударило пушечное ядро, погнув металл, своротив створки с петель, наполнив уши громовым звоном. Срывая створки, внутрь полезли какие-то люди, начали стрелять в толпу, застилая всё сизым дымом, через который ярко сквозили косые полосы света. Вокруг визжали, плакали, обнимались, молились, беспомощно оглядывались; бунтовщики палили, били, тащили людей наружу. Во дворе гремела беспорядочная стрельба, раздавались крики, перекатывался хохот. Нефёд Никитич, прижатый между беременной бабой и безногим калекой на скамеечке для немощных, придерживал веснушчатой ладонью дрожащую челюсть и, прикрыв глаза, думал об одном — надо как римлянин, обязательно как римлянин, смело взглянуть им в глаза и сказать что-нибудь вечное. Он долго уже перебирал в уме выражения и, наконец, придумал подходящее: «Избежал шведской пули, персидской сабли, прусского штыка, чтобы погибнуть от русских вил!» — но его выволок на двор не русский, а башкирец. — Генерал, генерал! — радостно скалясь, кричал бритый налысо смуглый башкирец через пальбу, вопли и визги, волоча по грязному двору старичка в мундире со звёздами, в съехавшем парике. Нефёда Никитича под гогот пнули под зад, наотмашь ударили палкой по рёбрам, перешибив дух. Глотая воздух, собирая мундиром чёрную грязь, старик ещё думал, что сейчас сможет подняться хотя бы на колени, сказать заготовленное — он уже не помнил, что, — но тут увидал в толпе знакомое лицо и вдруг с неожиданным для себя ужасом понял, что видит давно мёртвого человека. Он уже видел его как-то в юности, давным-давно — мгновенным сполохом высветилась в памяти картинка: грязная осенняя Москва, торжище на Красной площади, молодая и сильная рука на эфесе шпаги, длинное небритое лицо Лефорта из приоткрытой дверцы переваливающейся по грязи кареты, — и измазанный грязью светловолосый юноша-юрод в рубище среди толпы. И, узнав это невозможное, невесть откуда (да, впрочем, кристально ясно было, откуда) появившееся через столько десятилетий бледное лицо, Нефёд Никитич от нахлынувшего ужаса, сразу затмившего ужас перед смертью, жалко и визгливо закричал, повалился в грязь, — а его уже тыкали, кололи, колотили.  Фёдор Моллер, «Взятие Казани Пугачёвым». На картине изображено как раз убийство генерала Кудрявцева.  Кудрявцев был убит где-то здесь. Примерно от красного здания (в 1774 году его ещё не было) вдоль по улице по Кремлю стреляла пушка — Казань полыхала: огромное войско саранчой расползлось по захваченному городу, жгло, грабило, убивало, насиловало. Старая крепость, куда собралось всё начальство, часть горожан и остатки правительственных войск, ещё держалась; по крепости лупила пушка с паперти Богородицкого монастыря. Собравшиеся вокруг мятежники с азартом наблюдали, как очередной выстрел сотрясает ветхую кирпичную кладку, разражались одобрительными возгласами при удачном выстреле, показывали пальцем на перебегающего за парапетом солдата с ружьём. В тёмном ладанном сумраке церкви шёл грабёж — тащили скомканную тяжёлую ризу, зло дрались за сорванный с иконы оклад. За углом надрывно визжали женщины, их били. Поручик Минеев, перешедший на сторону Пугачёва офицер, независимо вышагивал по двору в своём мундире, делая вид, что кем-то командует. Игнат некоторое время с любопытством понаблюдал за стрельбой из пушки и, не останавливаемый никем, прошёл через белёную арочку монастырских ворот. Он побрёл по городу, с интересом разглядывая здания. На соседней улице грабили гимназию: из одного окна кидали разлетающиеся ворохи бумаг, из другого, с хрустом и звоном высадив раму, выталкивали человека с петлёй на шее, верещавшего и цепляющегося окровавленными ладонями за осколки стёкол по краю рамы. Вниз по улице с топотом, гиканьем и визгами промчались башкирцы на взмыленных, каких-то безумных конях, чуть не затоптав увернувшегося Игната. Рядом полыхал деревянный дом: рыжее косматое пламя с печным жаром вырывалась из-под наличников, огненной гривой охватывало уже обуглившиеся, но ещё не рухнувшие стропила, каменный стояк печи, с треском разлеталось красными углями, головёшками, от которых разбегались ищущие поживы бунтовщики. Последние несколько месяцев были самым счастливым временем Игната: он чувствовал, что попал в какой-то край молочных рек с кисельными берегами — угощение было везде, куда ни глянь, здесь повешенный, там заколотый на обочине, тут расстрелянный или забитый до смерти. Игнат впервые, сколько себя помнил, чувствовал сытость: первое время, когда они ещё ходили по Уралу от завода к заводу, он едва мог сдержаться, чтобы не пить кровь из каждого встречного трупа, потом стал разборчивей, а теперь и вовсе ощущал странное, непривычное чувство пресыщения — бывало, он не удерживался от того, чтобы присосаться к какому-нибудь особо аппетитному трупу, и потом его подташнивало, мутило. И всё-таки в такие дни, как этот, очень тяжело было удерживать себя, и шагая по разгромленным казанским улицам, натыкаясь на тащащих награбленное повстанцев, заглядывая в чёрные провалы высаженных дверей, Игнат и хотел прильнуть к лужице крови под разбитой головой лежащего на обочине человека в немецком платье, и не хотел, чувствуя, что больше крови уже в себя не вольёт. Всё-таки не удержался: опустился на четвереньки, немного полакал. Он вообще не стеснялся пить кровь при своих: сперва таился, но потом всё равно прознали. Большого неприятия это у товарищей не вызывало — разве что временами просили перекреститься для верности, прочитать «Отче наш». Кто-то считал, что Игнат спятил от долгого сидения в Пропащей Яме, другие — что он заговорённый и поддерживает тем самым на себе заклятье, но беды ни в том, ни в другом никто не видел. Игната в отряде не то чтобы уважали, но относились к нему с опасливой отстранённостью: и привычка к крови, и запах, и не бесстрашие даже, а какое-то безразличие, с которым он ходил на приступы — всё это отталкивало от него людей. Под Магнитной несколько человек видели, как Игнату разбили голову палашом, и удивились, когда на следующий день Игнат показался невредимым: все поняли, что этот бледный юнец заговорён, что он, вероятно, какой-то колдун и с ним лучше не связываться. И не связывались, предпочитали держаться подальше. Игната это устраивало — из всех членов перфильевского отряда он сошёлся разве что с братьями Гришкой и Ерошкой — теми самыми, кто в апреле вытащили его из пещеры. Гришка и Ерошка тоже были сумасшедшими — тоже, потому что безумцев в пугачёвской армии было много, и временами казалось, что она вся состоит из умалишённых, кровавым карнавалом в огненном хохоте катящихся по земле, лихорадочно, судорожно пляшущих на пепелищах. Безумие неожиданно проявлялось даже в таких осмысленных действиях, как грабёж, — повстанцы тащили из домов ненужное им неподъёмное барахло, тут же его со смехом бросали, зато щедро раскидывали вокруг себя серебро, подражая Пугачу (он всегда это делал, когда въезжал в новый город). Безумие сквозило в самой дикой комедии представления самозванца царём Петром — каждый в войске, кто не был совсем уж дураком, понимал, что никакой он не царь, но то и дело где-то колотили кого-то из своих, обмолвившегося об этом открыто, — а на следующее утро сами же колотившие называли вожака Емелькой. И, конечно, сердцевиной, оком бури безумия был сам Пугач: он предавал смерти за косой взгляд, но прощал, когда забивали его любимую наложницу; он терпел поражение за поражением, бегал от отрядов, впятеро меньших числом, — а войско его только росло; вовлекая соратников в собственный маскарад, он раздавал атаманам не только титулы, но и фамилии сановников — один стал «графом Паниным», другой «графом Чернышёвым». Он мог приказать что угодно, никто не знал, что у Пугача на уме: Игнат видел, как на подходе к Казани казаки из свиты Пугача нашли прячущихся в стоге сена, насмерть перепуганных двух девушек, привели к вожаку. Пугач брать девушек в наложницы отказался, но и своим подчинённым насиловать их запретил, зато в порыве людоедского задора тут же повелел принести верёвки и вздёрнуть обеих на ближайшем дереве. За такое-то Пугача и боялись. Игнат увидел предводителя, поднявшись на холм, по вершине которого прямая каменная улица выходила к главным воротам крепости под белой шатровой башней. У пылающего Гостиного двора и разграбляемых присутственных мест стояли пушки, из которых раз за разом лупили по башне. Из-за парапета крепости нестройно стреляли из ружей, надрывным набатом заходились колокола Благовещенского собора за стеной. Пугач разъезжал на коне перед пушками, крича оскорбления в адрес укрывшихся в крепости; пушки раз за разом оглушительно грохали, впечатывая ядра в древнюю каменную кладку башни, в кирпич стен. За пушками разномастной оравой расположились повстанцы, больше похожие не на войско, а на вооружённый базар — один сидел на узорчатом татарском коврике для молитвы, другой тащил мятый медный самовар, третий стоял с ружьём у ноги и серебряной плевательницей на плече. Толпа текла, расползалась — кто-то приходил почувствовать в осаде, присаживался, глядя на стрельбу, кто-то уходил, наглядевшись.  Вот примерно отсюда Пугачёв из пушек по Кремлю и палил. Гостиный двор слева, но это, конечно, здание уже перестроенное на месте выгоревшего. Присутственные места — ближайшее к Кремлю здание по правой стороне (сейчас мэрия). Правда, не очень понятно, оно тогда уже было построено или ещё нет. Игнат тоже пошёл посмотреть, что там творится, и успел как раз, когда под общий восторженный рёв (даже пушки перестали стрелять) начали валиться внутрь перекрытия горящего Гостиного двора — пламя пышно вырывалось из окон, облизывало каменный скелет стен, чёрные клубы дыма косо поднимались в высокое безоблачное небо, близ огня было жарко стоять. С площади перед крепостью открывался широкий вид на нижнюю часть города, всю в дымах пожаров, далёкую и безразлично мирную Волгу, холмы в бледной синеве за ней. От подножия холма тоже грохали пушки, пуская клубистые облака порохового дыма, обстреливая крепость с разных сторон. Ветхие стены шатались, шли трещинами, осыпались кирпичным крошевом, но отягощённые добычей бунтовщики на штурм не шли, и вряд ли сам Пугач мог их заставить. Здесь-то, оглядывая через головы рассевшуюся по мостовой за пушками толпу, Игнат и приметил Гришку с Ерошкой: братья хмуро, ожесточённо и зло мутозили друг друга в подворотне: никто не обращал на них внимания. Заинтересовавшись, Игнат направился к ним, переступая через колени сидящих, протискиваясь в толпе. Когда он подошёл, Гришка — слабоумный мордоворот с бугристым черепом и переломанным носом — нависал над братом, припадочным юнцом, утверждавшим, что у него в подчинении есть два личных чёрта, сидящих в табакерке. Гришка уже достал тесак, готовясь раскромсать брату череп; брат тянулся за отброшенным в сторону пистолетом. Игнат подскочил, свалил Гришку с брата, выбил тесак из рук, принялся растаскивать дерущихся. — — А чё он! — пуская слюну, кричал Гришка, указывая на брата мясистой рукой. Страсти немного поутихли, братья расползлись в разные стороны подворотни. Сейчас уже можно было разобраться, в чём была причина их ссоры. Не то, чтобы Игнату было это очень интересно, но ему не хотелось, чтобы Гришка с Ерошкой переубивали друг друга — они всё-таки ему были друзья-не друзья, но свои люди, не воротящие нос от запаха и вида Игната, лакающего кровь. — А ты чё? — вскидывался на брата Ерошка. — Ожерелье я нашёл! — Я, я нашёл! — обиженно вскрикнул Гришка, глядя на Игната с надеждой, чтобы тот поддержал его. — Ты дом нашёл, а я сундучок! — зло тараторил носастый, чернявый Ерошка. — Чего за ожерелье-то, чего за сундучок? — спросил Игнат. Оказалось, что дело не стоило выеденного яйца — братья подрались из-за обычного дешёвого ожерелья с серебряными монетами на дырочках, каких-то серёжек, ещё небольшой пригоршни дешёвых безделушек. Игнат предложил безделушки разделить, серьги тоже — по одной Гришке и Ерошке, а ожерелье разобрать по монеткам. — А зачем нам монеты-то? — ухмыляясь, спросил Ерошка. — Если незачем, выкиньте, — посоветовал Игнат, и эта мысль показалась всем очень здравой. — Дайте хоть погляжу, чего у вас там. Игнат раскрыл рогожный мешок с награбленным, увидел обычное барахло — бронзовый подсвечник, позолоченный кусок картинной рамы, спутанное ожерелье, серебряные серёжки со следами крови на дужках… Вдруг один предмет привлёк внимание Игната. К удивлению Гришки, Игнат нагло запустил руку в мешок и извлёк находку: — А это откуда? — застревающим голосом спросил Игнат, оглядывая братьев. — А черт его знает, — ответил Гришка. — Монашки какие-то были там, — неопределённо махнул рукой Ерошка. — Обобрали как следует, ну и уж как водится… — он показал жестом, как водится. — А… обгорелая там была? — напряжённо глядя Ерошке в лицо, спросил Игнат. — Была, была! — заулыбался Ерошка. — Ох и страхолюдина же! Я вон Гришке предлагал — даже он не захотел! Ну, закололи и в озеро выкинули. — Я эту лестовку себе заберу. Вы всё равно никониане, вам она ни к чему, — сказал Игнат, перебирая в пальцах сухие красные зёрна, отдававшиеся с каждым касанием новым воспоминанием: жаркое лето, пахучий сеновал, лукавый взгляд из-за плеча, потом — глухая смрадная чернота морильни, потом глухой лес, строгий скит, труп с раскрытым горлом на полу горницы, обожжённая Ирина. Что она здесь делала, как оказалась тут? — думал Игнат и не мог сообразить.
-
Ну очень круто! Взятие Казани пугачевцами - не совсем то, что ждешь от истории про вампира, но от этого только круче. Жаль только, что император Петр, кажется, все таки не был вампиром. Но может Павел будет? =)
-
Ох, какие шикарные посты.
-
Кровавый карнавал безумцев как пугачевское восстание — это ново и круто! Вот честно, у тебя очень получается образ этакого бунта, не в советском ключе, где Пугачев чуть не борец за коммунизм, а более... Реалистично.
-
-
|
12:10 24.07.1906 (понедельник)
Нижний Новгород,
местность Слуда на правобережье Оки
+30 °С, облачноАнчарПлотные облака висели периной, в низком пухлом небе носились ласточки, воздух был весь томный, парной. Одежда противно липла к телу, и только обдувающий встречный ветерок остужал крупно выступающий по лицу пот. Когда Анчар выходил с Шаховским из Биржевой гостиницы (в нижней части города, на набережной у пристаней), он посмотрел на барометр в вестибюле: барометр сильно упал. Все ждали грозы, и когда Анчар с Шаховским взъехали на коляске к Кремлю в верхнюю часть города, оглянувшись, Анчар увидел далеко за зелёным простором заволжских лесов чернильно-чёрную тучу и маленькую, как искорка, мелькнувшую из-под тучи молнию, а через некоторое время тихо, далеко и неясно прокатился гром, как картошка по полу. Сейчас они с Шаховским ехали смотреть дачу в Слуде, местности на крутом и живописном правом берегу Оки близ железной дороги, идущей вдоль берега. Ехали на купленной Шаховским пролётке, которую он с радостью демонстрировал Анчару — резиновые шины, матово-чёрный лак, остро, по-новому, горячо пахнущее и свежо скрипящее кожаное сиденье. Всё это было очень обычно, такое в каждой пролётке было, но Шаховской с удовольствием показывал, как складывается перепончатый верх, говорил о мягкости хода на эллиптических рессорах и упругости шин. И, конечно, с особой гордостью он демонстрировал лошадь, вымытую до зеркального блеска в реке гнедую кобылу-трёхлетку с точёными, но длинноватыми бабками, сильной спиной, глубокой грудью, грустным лиловым взглядом, косящим из-под смоляной прямой гривы, — в общем, вполне приличную полукровку: уже не пахотную крестьянку, ещё не поджарую тонкошеюю донку. Шаховскому покупка нравилась — кобылу он приобрёл лишь вчера, пролётку и вовсе сегодня с утра и ещё не отошёл от горячей радости обладания новой дорогой вещью, от удовольствия внове пользоваться чем-то, чего вчера у тебя ещё не было. — Мне какой-то проходимец всё втюхивал запалённого коня, — радостно рассказывал Шаховской, пока они с Анчаром ехали по шоссе, с правой стороны которого за леском просверкивал окский простор. — Считал меня за дурака или за глухого, что ли? И ходит, ходит за мной всю дорогу: насилу отбился. А потом вот эту красавицу отыскал. Смирная, выносливая — грудь вон какая! Призов на скачках, конечно, не возьмёт, да и вообще крестьянка, но и цена соответственная — за сто тридцать рублей сторговал. То есть всего двести рублей вышло: сто тридцать за лошадь и семьдесят за пролётку. Вообще-то это дёшево для неё: я думал, рублей сто пятьдесят запросят. Но там парнишка молодой, деревенский торговал. Я чего-то даже сначала неладное заподозрил, но нет, бумаги на неё вроде все в порядке. А больше всего мне её кличка понравилась: Гильза! Хорошо подходит, правда? Гильза! — услыхав своё имя, лошадь настороженно повела остренькими ушами, махнула пышным чёрным хвостом. Город уже оставался позади: пролётка миновала большой монастырь с белыми церквями, тонущими в пышной зелени, и теперь лошадь бодро стучала копытами по рассохшейся трещинами пыльной дороге на Арзамас. Шаховской был в своей обычной косоворотке, подпоясанной тонким кожаным ремешком, в серых штанах и мягких сапогах: всё неброское, но непролетарское, без печати нужды, которая читалась на грязных свитерах и толстых драповых пальто декабрьских московских дружинников — сразу видно: этот носит косоворотку, потому что ему так хочется, и пуговички у него на вороте перламутровые, и ремешок непростой, какой-то кавказский, что ли. Поэтому, борода-не борода, а на извозчика он не походил, на кучера ещё менее, а стало быть, и Анчару ехать на пассажирском сиденье было бы странно. Вот и ехал Анчар на козлах, рядом с Шаховским: это выглядело неподозрительно — мало ли, едут куда-то два приятеля. Шаховской толкнул Анчара в бок, указывая влево, где за грядой кустов проглядывали какие-то белые палатки, обвислый триколор на флагштоке. — Лагеря, — пояснил он. — Эти гаврики тут целыми днями сидят. Кадеты из корпуса имени, представьте себе, славного графа Аракчеева. Немного неудобно, конечно: эти кадетики, говорят, тут по соседским дачам бегают. Но уж что нашёл, то нашёл. А вот, кстати, и наш поворот. Пролётка завернула на тёмную, густо зелёную аллею с черно сходящимися в высоте кленовыми кронами: в чехарде стволов проглядывались домики с верандами, у одного в мгновенном просвете между стволами Анчар увидел нескольких человек в окружении густых лопухов у стола за самоваром. «Нам чуть дальше», — сказал Шаховской, и пролётка выехала из леса на сразу широко распахнувшийся серо-стальной пасмурный простор Оки, как-то, несмотря на жару, очень по-осеннему уже выглядящий в этой хмурой предгрозовой духоте. Пыльная дорога здесь шла по-над высоким крутым косогором, прорезанному ниткой рельсов посередине. Как раз, когда они выехали, со стороны города появился паровоз с широким, на чёрный тюрбан похожим конусом искрогасителя на трубе. Натужно пыхтя, паровоз тянул за собой разноцветные пассажирские вагоны с открытыми настежь окнами и выплеснувшейся наружу занавеской, чугунно погромыхивал. Да, здесь придётся выбирать — либо дача с широким красивым видом, но громыхающими всю ночь поездами, либо в леске, где потише, — но там и снять её стоит наверняка дороже. — Где-то тут, — сказал Шаховской, оглядываясь, — а, ну да, вот там дача. 12:10 24.07.1906
Нижегородский уезд,
КунавиноЛёвин не без труда отыскал нужный дом у вокзала. Он хорошо помнил лестницу того дома — но не видел же он её снаружи? Он хорошо помнил глухой брандмауэр со щербатыми клеймлёными красными кирпичами, у которого собирал одежду, — но сколько тут было подобных кирпичных стен? Он помнил, как потом шёл от публичного дома к вокзалу — и, как оказалось, помнил неправильно, весь прошлый день искал вообще не там. Но вот сегодня, выходя из ярмарочной гостиницы «Волжско-камское подворье», твёрдо решил, что нужный дом найдёт, — и нашёл почти сразу. Мгновенное узнавание прострелило в голове: конечно, и рассохшаяся резная дверь с облупившейся краской и почерневшей медной ручкой, и тёмная прихожая с клетчатой плиткой, и лестница с пыльной облезлой ковровой дорожкой, от которой всё так же пахло кошачьей мочой, — всё было именно то, пускай и непривычно выглядело в дневном свете. К визитам в столь ранний час здесь не привыкли: весь дом спал. Лёвин вспомнил, что на втором этаже тут было что-то вроде гостиной, салона, что ли: он провёл в нём совсем немного времени, но помнил бордовые портьеры, оркестрион, полосатые кресла, оттоманку — и всё это так и было здесь, когда Лёвин, не дождавшись ответа на стук, повернул ручку и зашёл внутрь. Только тогда вечером это всё тонуло в ярком электрическом свете, в смехе, в механическом треньканье оркестриона, а сейчас помещение было серо, тихо и пусто. На столике у оттоманки стояло серебряное блюдо с объеденной костлявой виноградной веткой и несколькими сморщенными ягодами, лежалыми дольками апельсина, белесыми корками. «Угостите девушку апельсином», — вспомнил Лёвин: да, именно так тогда эта Нелли или Зина (хотя на самом деле, скорее всего, Матрёна) жеманно обратилась к нему в первый раз, присев рядом, тесно прислонившись горячим мягким боком. Вслед за Лёвиным через ту же дверь зашёл сонный детина в жилете с искрой. Один из тех, кто его бил? Лёвин не помнил. — Чего надо? — с зевком спросил детина. Лёвин объяснил, что. — Зинку? Наверху посмотри: третий этаж, вторая комната. Сейчас не примет, точно говорю. Третий этаж, вторая комната, ну да, — припомнил Лёвин, — это ж та самая комната с потресканным потолком и была. Он поднялся на этаж выше, постучал: никто не откликался. Он попробовал подёргать дверь: заперто. Он постучал погромче: никто не откликался. Он грохнул пару раз в дверь, и неожиданно открылась дверь за спиной: Лёвин обернулся и увидел Зину. Сейчас невозможно было поверить, что тогда вечером Лёвин находил в этой женщине какое-то сходство с Дарьей Михайловной — волосы растрёпаны, лицо помятое, заспанное, какое-то сразу очень некрасивое; а вот халатик был тот же — чёрный, японский, с журавлями. Был бы другой — может, Лёвин бы так просто Зину даже и не узнал. — Чё надо? — с сонной хрипотцой спросила Зина, протирая кулачком глаза, а протерев, несколько раз сморгнула, вглядываясь в лицо Лёвина. — Уууу, иди к лешему!… — со странным то ли боязливым, то ли угрожающим выражением выпалила она и тут же захлопнула перед собой дверь, щёкнула замком.
-
Приятно чувствовать, что мастера вдохновляет его игра.
|
— А то как же, — шёпотом ответил Бабкин, обернувшись. — Обязательно побалакаем. Только балакать-то лучше, коли нас поболя будят… Т-с-с… — приложил он грязный, с обгрызенным ногтем палец к губам, чутко прислушиваясь. Задул холодный ветерок, зашевеливший колосья шелестящими волнами; туман поплыл, разрежаясь, и за изгородью открылись очертания по-северному большого деревенского дома из зачернелых брёвен — половина таких домов отводилась под скотину и кладовые, двора в липкой чёрной грязи, заросшего высокой травой огорода, поленницы. Из трубы над аспидно-серой тёсаной крышей поднимался сизый дымок, заметили разведчики.  Дом с сараем. За сараем прячутся разведчики, и там же стоит часовой.  Овин с гумном Несмотря на то, что туман отступил, человека с винтовкой видно не стало: он стоял за сарайчиком, к задней стороне которого подобрались Бабкин с товарищами. Зато увидели спину второго — тот, коренастый, с ёжиком коротких волос на круглой голове, в накинутой на плечи русской военной шинели без погон и с оборванным хлястиком, прошлёпал по грязи двора за угол дома, с кем-то там заговорил. Разведчики напряжённо молчали, присев на колено. — Taoyan zhege guojia, (Ненавижу эту страну) — сам себе мрачно сказал китаец с винтовкой и задумчиво вышел из-за сарая, усталым движением закинул себе на плечо винтовку без штыка, — этот оказался низеньким, смуглым, почти тёмным китайчонком, на вид совсем подростком, в ватнике с чужого плеча (из рукавов только пальцы торчали) и лопоухой ушанке. Бабкин немедленно плюхнулся животом в жирную раскисшую землю; Окладников и Смирнов сделали то же. Теперь ничего не было видно, только чересполосица ржаво-бурых дугами гнущихся стеблей перед глазами, две покатые крыши, бледнеющие в унылой холодной дымке, ряды наползающих друг на друга меловых облаков в утреннем небе. Судя по чирканью спичек, китаец в ватнике закурил, бесцельно прохаживаясь по двору. Из-за дома донёсся знакомый звук: кто-то колол дрова. — Назад ползём? — тихо наклонился к Бабкину Окладников. Бабкин уже собирался кивнуть, но тут снова поднял палец, прислушивась: своим чутким ухом он опять услышал первым, что Смирнов разобрал лишь потом — новые шаги. Кто-то приближался справа, кто-то новый: Григорий чуть поднял голову, глядя в пересечения росистых рыжих стеблей с набухшими, низко склонёнными колосьями. За стеблями смутно проглядывалась фигура давешнего китайский парнишка в ватнике: он заинтересованно обернулся на звук шагов. — Laozhou, shi ni ma? Laopeng he ni zai yiqi ma? (Чжоу, это ты? Пэн с тобой?) — позвал он приближающегося человека. Тот ничего не ответил, и скоро Смирнов увидел, к кому китайчонок в ватнике обращался — это был смгулый скуластый китаец с тонкой туго заплетённой косичкой ниже плеч, в грязном овчинном бекеше, измазанных грязью городских клетчатых брюках. В руках он нёс карабин. — Laozhou, ni zenme le? Ni kaiqiang le ma? (Чжоу, ты чего? Ты стрелял, что ли?) — продолжал настойчиво спрашивать китайчонок в ватнике товарища. — Wo sha le ta, (Я его убил) — без выражения сказал китаец с косичкой, пусто глядя на товарища. — Sha le shei? (Кого убил?) — не понял паренёк. — Laopeng, (Пэна) — тихо ответил китаец с косичкой. — Wo ganggang ba ta sha le. (Я его только что застрелил)— Ni zenme le? (Чего?) — удивлённо и непонимающе переспросил паренёк, и в этот момент китаец с косичкой вскинул свой карабин и выстрелил парню в грудь: тот так и повалился на спину, не успев схватиться за висящую на плече винтовку. Лежащие на пашне разведчики вздрогнули, переглянулись. «Твою мать…» — прошептал Фима Окладников, а китаец с косичкой тем временем быстрым шагом направился к крыльцу дома, взбежал по ступенькам, достал что-то из-за пазухи — сразу стало ясно, что это граната — и, приоткрыв дверь, кинул её внутрь, а сам быстро бросился обратно. Через несколько мгновений грохнуло, из окон со звоном полетели стёкла с занавесками, дверь маятником распахнулась, ударив в перила крылечка, раздались крики, вопли. Из-за угла выбежал давешний китаец в шинели и в ушанке; китаец с косичкой поднял на него карабин, выстрелил, не попал — тот заверещал, быстро бросился обратно за угол, по пути упав на колено и быстро вскочив. Тот, что с косичкой, широким шагом с карабином наизготовку направился за ним. — Что делать, командир? — настойчивым шёпотом спросил Фима. — Лежи, лежи, — шикнул на него Бабкин. — Рехнулся, нябось! В доме истошно, болезненно кричали, как кричат раненые, из-за дома донёсся ещё выстрел, затем ещё один. Из двери дома один за другим посыпали китайцы — в нерусского вида широких рубахах на завязках, в грязных свитерах, в ватниках, кто с винтовкой, кто с револьвером, всего человек десять-пятнадцать. Китайцы показывали на труп паренька-часового, лежавший на дворе, недоумённо озирались по сторонам, наперебой кричали, как сороки: «Eguoren?!» (Русские?) «Hongjun zhanshi?» (Красная Армия?), «Shei kaiqiang le?!» (Кто стрелял?), «Women bei gongji le ma?!» (Нас атакуют?), кто-то подбежал к трупу, озираясь по сторонам. Китаец с косичкой тем временем показался с другой стороны дома, остановившись у овина. Оглядывающиеся по сторонам соплеменники то ли не замечали его, а то ли не считали угрозой. Вдруг кто-то из китайцев закричал, перекрывая остальных, показывая в сторону разведчиков, но куда-то поверх их голов: «Eguoren!» (Русские!)Григорий вместе со всеми оглянулся и увидел, как в рассеивающемся тумане через поле редкой цепью бегут с оружием рязанцы — видимо, они услышали выстрелы и решили, что товарищей нужно выручать. Китайцы бросились кто куда — кто-то сразу начал палить из винтовки с колена, кто-то бросился обратно в дом, иные к сараю. И тут Бабкин не выдержал: порывисто вскинувшись из ржи, он закричал, показывая рукой на китайца с косичкой, всё так же безразлично стоявшего у овина: «Да вот он! В няго стряляйте, дурни!!!» — и тут же рухнул с дырой во лбу.
-
И тут Бабкин не выдержал: порывисто вскинувшись из ржи, он закричал, показывая рукой на китайца с косичкой, всё так же безразлично стоявшего у овина: «Да вот он! В няго стряляйте, дурни!!!» — и тут же рухнул с дырой во лбу.Нет слов.
-
Да вот он! В няго стряляйте, дурни!!!» — и тут же рухнул с дырой во лбу.ОХК очень хочет, чтобы красноармейцы объединились и ударили по буржуям.
А вообще прощальный плюс Бабкину. Классный был мужик. Не стал латыша слушать, увёл своих людей, сам в разведку ходил — жаль, что так глупо слился.
-
трехсторонний бой, конечно, остросюжетно закрутился
|
Молоствов на всё с готовностью согласился, вопросов не имел, и Рауш покинул телеграфное отделение, направившись в комендатуру. И снова долго идти не пришлось — учреждения Северной области все были размещены на небольшом пятачке вокруг Гостиного двора, губернаторского дома и Присутственных мест, — вот и комендатура располагалась прямо напротив большого колонного здания, где заседало Верховное управление и куда направился Миллер. Комендатура занимала скромное двухэтажное строение, а вот в соседнем представительном здании торгового дома Данишевских несколько дней назад обосновался Финансовый отдел ВУСО во главе с эсером Мартюшиным: известные пароходчики и смолоторговцы Данишевские были вынуждены потесниться, отдав под нужды правительства два этажа — почему-то первый и третий — и были очень недовольны. Слева от торгового дома Данишевских стояли «Коммерческие номера», в прошлом обычная недорогая провинциальная гостиница, а сейчас — штаб Славяно-британского легиона. Кажется, в этой части проспекта не осталось ни одного здания, которое бы сейчас не занимало какое-то из новообразованных учреждений — хотя нет: остались Дума и пожарная часть. Эта отражалось и в самом виде улицы — людей обывательского вида почти не было заметно, зато вот перебежал дорогу с картонной папкой на завязочках в руках какой-то шпак, вот мимо прошли, козырнув, два офицера в британской форме без погон (даже не скажешь, в каком звании!), вот остановилась на крыльце, открывая зонтик, барышня-пишмашинистка в бумазейной юбке, с устало-злым, раздражённым на весь мир выражением некрасивого лица. Мальчишка-чистильщик обуви в огромной серой кепке сидел со своим ящиком и щётками у стены комендатуры, с завистью поглядывая на своего коллегу, которому досталось более прибыльное место у входа в штаб СБЛ. Рауш потянул на себя пружинно скрипящую, очень тяжёлую дверь и прошёл в вестибюль комендатуры. Это здание тоже было отобрано у какой-то торговой конторы, и дежурный сидел на импровизированном посту за неудобно, косо в тесном вестибюльчике поставленным столом, так что мимо него нужно было боком проходить. На столе была электрическая лампа, но розетки рядом не было, и шнур в тканой оплётке змеёй уходил по полу куда-то под дверь. Оторвавшись от бумаг, скучающий дежурный сообщил Раушу, что капитана Узкого на месте нет, — не далее как пятнадцать минут назад тот ушёл по делам. Рауш спросил, где можно сейчас найти коменданта, и дежурный, поколебавшись, решил сказать, — всё-таки тут знали, что адъютанту Чаплина можно доверять, — что Узкий уехал разбираться с какой-то проблемой в правительственном общежитии. То есть, понял Рауш, ему нужно было ехать почти домой. Барон жил совсем рядом с правительственным общежитием, наискосок через перекрёсток: эту квартиру во флигеле аккуратного мещанского дома с араукариями в горшках и ружьём «Пибоди» на стене он по рекомендации Чаплина занял, только прибыв в Архангельск, ещё при советах. Хозяин, пятидесятилетний, всегда очень занятой Артур Фридрихович Пец, был переводчиком с английского и немецкого на архангельской таможне. Он происходил из старого купеческого рода архангелитов — иностранных жителей Архангельска, многие из которых, как и Пец, возводили родство к первым немецким колонистам, прибывшим на Двину ещё в позапрошлом веке. Пец превосходно говорил на трёх языках (он был англичанин по матери), жил с женой Пелагеей Алексеевной и семилетней дочерью Тамарочкой, а в конце прошлого года отослал на учёбу в Англию племянницу-сироту, которая воспитывалась в их доме. В её-то комнате Рауша и поселили: непривычно и неловко было устраиваться в комнате, где каждый предмет, каждая деталь кричала, что здесь жила юная девушка, — гимназические учебники, романы Чарской и сборники Надсона на полках, столик с баночками и флакончиками, расчёска с длинными светлыми волосами, найденная под матрасом тетрадка с выражениями вроде «Дружба — это любовь без крыльев» и куплетами в духе «Линдес стряпает котлетки, дес Фонтейнес шьет жилетки», перевязанная муаровой ленточкой стопка писем в ящике стола, приколотые к обоям фотопортреты Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса. Пецу, кажется, тоже было неловко селить офицера в такую комнату, но другой не было, и хозяин пообещал, что при первой возможности уберёт из комнаты всё ненужное, тем более что Леночка скоро возвращаться не собирается, — но, видимо, возможность так и не представилась. Он был очень занятой человек, этот Пец, постоянно пропадал на службе: переводчики с английского были наперечёт. А мягкая пружинная постель, даже несмотря на чистое белье, долго ещё пахла чем-то таким, волнующим, что ли.  Дом Артура Пеца, где живёт Рауш. Напротив дома — Александровский сад, за левым краем снимка общежитие правительства.  Дом Пеца — белый справа. Общежитие правительства в правом нижнем углу .  Общежитие правительства  Артур Фридрихович (видимо, в значительно более юном возрасте) Уже свернув с Троицкого проспекта на Успенскую улицу и размышляя, стоит ли зачем-то заходить домой, Рауш взглянул на здание правительственного общежития и сразу понял, зачем коменданту потребовалось сюда выезжать: по забору, ограждающему двор, шла жирная надпись красной краской, косо выведенная широкой кистью: «УБЛЮ» — видимо, дописать задуманное вандал не успел. Надпись уже оттирали двое солдат комендантской команды — смачивали тряпки скипидаром из бутылки, принимались усиленно тереть, размазывая красные буквы. Капитана Узкого пока видно нигде не было.
-
Вау! Это круто, когда вот так вот даже с рандомным практически домом оказывается связана маленькая история.
|
7:15 05.09.1918
Леса близ Обозерской
Винтовочный выстрел с хлёстким шипящим звуком разлетелся в туманной утренней тишине, подняв далёкий беспорядочный птичий грай. Бабкин остановился, остановились и рязанцы, шедшие за ним.
— А вот, кажись, куда-то и пришли, — тихо сказал вожак.
Они шли по лесу уже часа два — вышли в молочно-белой предрассветной мгле, в которой ничего было не разглядеть за пару шагов. Компаса ни у кого не было, солнце ещё не взошло, и попёрли куда-то наугад — как вчера уходили лишь бы подальше от англичан, так сейчас от латышей. Дождик кончился, сверху нестройно бежали рваные серые тучи, открывая розоватые просветы рассветного неба. Всё было мокро, шинели прело воняли отсырелой шерстью, никто не выспался, все были голодные, а в груди у каждого будто засел ледяной ком — так хотелось согреться чаем или хотя бы пустым кипятком. И всё-таки никто не ныл, не возражал Бабкину, уверенно ведущему отряд в непонятном направлении, — все понимали, лучше уж так, чем оставаться с этими латышами.
Осинник сменился тесным чёрным ельником, разлаписто тянущим колючие, царапающие мокрые иглы. Попёрли прямо через него, хрустко ломая сучья, и тут повезло, за ельником показалась тропинка — совсем рядом она была от того места, где они ночевали, и версты не прошли. Куда вела, откуда — никто, конечно, не понимал, но куда-то ведь вела? Тропинка была нехоженая, заросшая высокой росистой травой, но всё же проходимая, и идти по ней было несравнимо легче, чем продираться через первобытную чащобу. Бабкин решительно показал — идём по тропинке в ту сторону. Пошли.
Что направление выбрали правильно, поняли, когда из-за леса начали пробиваться первые солнечные лучи. Высоко бегущие облака пылали красно, как угли, небо в ветреных просветах пронзительно синело, — всем стало ясно, что солнце встаёт слева, а значит, они идут на юг. Тракта не переходили, значит, он оставался где-то справа, а что в этих краях есть, кроме этого тракта, никто не знал. Гадали, где Обозерская, — одни говорили, что тропинка выведет прямо на неё, другие — что станция останется далеко сбоку. Двигались дальше.
И вот они шли уже два часа, длинно растянувшись по тропинке, когда до них донёсся выстрел, прозвучавший где-то впереди, где перемежающийся тонкими берёзами ельник потихоньку редел, и уже проглядывалось в белой чехарде стволов поле.
— Обозерская? — спросил Семён — рязанец, которого Бабкин вчера спас от расправы.
— Непохоже, — покачал головой Бабкин. — Но чявой-то там есть… Тихо все за мной. Впярёд батьки не суйтеся.
Примолкнув, отряд понемногу потянулся дальше; бойцы снимали с плеч винтовки, настороженно оглядывались по сторонам. Наконец, остановились у заросшей берёзовым подлеском опушки, за которой после лесной тесноты очень широко распахнулось поле, по которому медленно ползли белые гривы тумана. Зелёно-рыжая стена леса уходила влево и вправо, охватывая поляну большим продолговатым кольцом — на взгляд до противоположного края леса было не менее версты. Из утренней туманной тиши очень мирно проглядывали верха чёрных построек в середине полянки — крытый тёсом овин, большая крестьянская изба. Ещё и река там текла — в клочковатых туманных разрывах показывалась серо-стальная лента лесной речушки в кустистых берегах, через свисты, щелчки и чирки птиц доносился монотонный тихий плеск.
— Ну чего, айда, — Окладников, выглядывая из-за раскидистого куста орешника, показал на лесной хуторок.
— Няльзя так переть, Фима, — не оглядываясь, сказал Бабкин, сидящий рядом, наблюдающий за хуторком из-за пересечения веток. — А ну там англичане?
— Можно лесом обойти, — предложил Саня Соловьёв, сапожник из Пронска.
— Можно, — согласился Бабкин. — А через речку ты как пяреходить будешь? Мало вчера вымок? А тут навярняка у них мостик есть или брод. Надо, в опчем, разведать всё как полагается. Может, там один мужичок с ружьецом… В опчем, так, братва, подь все сюда, — Бабкин обернулся и, не вставая с колена, дождался, пока его маленький отряд соберётся вокруг командира. — Сейчас на разведку идём я, — Бабкин обвёл бойцов взглядом, — вон Фима со мной, и вот Гришаня. Сёма, ты за старшого тут остаёшься.
Семён, преданно глядящий на Бабкина, кивнул.
— Пошли, — сразу понизив голос, будто уже в десяти шагах от вражеской траншеи, обратился Бабкин к Фиме и Григорию. — Надо тяперь идти, пока туман.
Двинулись. Сразу за опушкой начиналось неубранное ржаное поле — перезрелые колосья уже чернели, загнивали, тяжело гнулись к земле, но всё же были достаточно высоки, чтобы скрыть лежащего в них. Этого, однако, пока не требовалось — густой туман всё ещё висел над полем, уже в паре шагов скрывая за слепой молочной пеленой широкую шинельную спину Фимы с винтовкой штыком вниз. Густые росистые гниловатые стебли ржи мокро скользили по бокам, уже скоро вымочив полы шинели так, будто Смирнов окунул их в воду. Оставшийся сзади лес пропал из виду, не было ничего видно и спереди, и по сторонам — только теряющаяся в белесой хмари буроватая загнивающая рожь. Все трое разведчиков, кажется, думали об одном — что-то здесь стряслось, раз поле осталось неубранным.
Вдруг Коля безмолвно вскинул руку и опустился на колено, замерев. Фима, тихонько, пригнувшись, подошёл к нему; то же сделал и Григорий. Вглядываясь в туман, он уже различал изгородь из толстых кривых жердин, серую постройку сарая, приваленное к стене тележное колесо, но пока ничего больше. Григорий обернулся на Бабкина, тот приложил палец к губам. Все напряжённо прислушались и уловили, что Бабкин услышал раньше прочих — скрип двери, чьи-то шаги. Кто-то, судя по звуку шагов, сошёл с крыльца, пошлёпал куда-то по двору, а затем до разведчиков донеслись неожиданные слова на чужом, мяукающем языке:
— Xiaobai! Xiaobai, ni zai zhe’er ma? (Бай! Бай, ты тут?) — позвал один.
— Zai zheli. Shi ni, Laotan? (Тута. Это ты, Тань?) — откликнулся другой голос.
— Wo. Mei kandao ni. Nongmi yanwu a. (Я. Не заметил тебя. Туман — хоть глаза выколи)
— En, (Ага) — согласно протянул второй.
— Shei gang kaiqiang le, zhidao ma? (Кто стрелял, знаешь?)
— Bu zhidao. (Не знаю)
— Zenme bu zhidao? (Как так, не знаешь?) — в первом голосе прорезалось раздражение. — Ni shi shaobi'er, hai bu zhidao shei zai ni pangbi’er kaiqiang ma? (Ты в карауле и не знаешь, кто стрелял?)
— Wo zenme keyi zhidao? (А мне как знать?) — тоже раздражённо ответил второй. — Wo zai zheli kanshou, zai nail fasheng shenme, zhe yu wo wanquan bu guan. (Я здеся стою, а что тама делается, до меня не касается)
— Zheli, nail! (Здеся, тама!)— первый крикливо, как-то по-вороньему возмутился. — Nimen Shandongren bu hui shuo zhengquede Zhongwen ma? (Вы шаньдунцы, по-китайски правильно говорить не умеете, что ли?)
— Guan ni shenme shi a? (А тебе какое дело?) — повысил голос и второй.
— Ruguo wo shuo shi wode shi’er, shi wode shi’er! (Если я говорю, что это моё дело, значит, моё!)
— Ni bu shi wode zhihuiguan, bie zai jiuchan wo le a! Zou ba! (Ты мне не командир, мной тут не командуй! Иди отсюда!) — послышался знакомый звук: говорящий передёрнул затвор винтовки. — Ni bu zou dehua, wo yao jiu… (Если не пойдёшь, я тебя…)
— Haode, haode… (Ладно, ладно…)— судя по примирительному тону, первый отступил. — Women yihou zai yao shuo, (Потом ещё поговорим)— с прощальной угрозой добавил он, уже удаляясь. Замершие во ржи разведчики переглянулись.
Появление китайцев на затерянном в северных лесах хуторке, конечно, было делом удивительным, но не настолько, как можно было бы подумать: Григорий знал, — за годы войны в Россию приехали тысячи, может, и сотни тысяч китайцев, замещая ушедших на фронт мужчин на разных чёрных работах. Очень многие китайцы работали дворниками в крупных городах, иные приезжали целыми деревнями для работы на стройках — например, Мурманской железной дороги. Многие уже в России и обосновывались — наверное, в каждом сколь-нибудь крупном городе страны можно было теперь встретить китайца-старьёвщика, лоточника, продавца парных пирожков баоцзы, можно было найти прачечную, а если знать, где искать, — едальню, общежитие, бордель, опиумную курильню для своих. В общем, китайцев сейчас в России было много, даже прозвище у них появилось среди местных — «ходя-ходя»: это потому, что китайцы всегда, даже зачастую не понимая, о чём с ними говорят русские, согласно кивали как болванчики, приговаривая «хаодэ, хаодэ» — то есть «хорошо» по-ихнему.
-
русский и китаец братья навек!
-
Явление китайцев из утреннего тумана это такой прям эффектный сюрреалистичный поворот. Еще очень запали описательные моменты природы. Словом, очень хорошо.
-
+
осиники, да ельники, вот и вся война
|
По виду Богового было понятно, что тому не терпится как-то возразить Романову — о, у Богового было, что возразить: и что он устаёт как лошадь на партийной работе, а должен ещё на телеграфе сидеть (это правда: уставал много, спал плохо), и что он никогда не напивается до положения риз (на самом деле разное бывало), и что уж раз в неделю-то выпить он имеет право (на самом деле раза три-четыре), и что самогон дядя Ефим делает — чистая слеза, от которого в голове только ясней (на самом деле первак был мутноват), и много ещё каких оправданий мог бы привести Боговой — но опасливо взглянул на Чмаровых с ведром и ничего возражать не стал, судорожно сглотнув и кивнув, когда Романов спросил, понял ли он внушение.
— Печать? — похоже, мысли Богового были далеки от украденной печати, Жилкина: он ещё раз кинул взгляд на переминающихся у входа ветлужан. — Да, это очень хорошо, что вы её нашли.
Чмаровы, как и было велено, оставили ведро в углу и удалились вслед за остальными. Ветлужане, кажется, остались недовольны, что обошлось без водных процедур.
— А то-то была б картина, — задумчиво сказал Степан, притворяя за собой дверь телеграфа.
Кликнули бойцов — кто-то отходил отлить к забору, — собрались, пошли на Питерскую. Шли по тёмным улицам с призрачно-серыми деревьями, палисадниками, тёплыми огоньками за ситцевыми занавесками. В чёрном небе между быстро ползущих белесых облаков не по-городскому ярко, остро горели многочисленные звёзды, через облака холодно просвечивал месяц. Навстречу показались какие-то два молодых парня в кепках, при виде отряда сразу остановившиеся, повернувшие и пустившиеся наутёк, гулко стуча сапогами по деревянным мосткам. Бойцы переглянулись — догонять? Да не было смысла догонять — те уже скрылись в густой темноте неосвещённой улицы, ещё и наверняка свернули куда-то в заросшую чёрными кустами подворотню между двухэтажными дощатыми бараками.
Свернули на Питерскую, миновали закрытую потребиловку с пирамидкой консервов на бархатной витрине, пустым покинутым прилавком, железную колонку с забрызганным деревянным настилом под краном. Постучались в одно из освещённых окошек, спросили, где дом Викентьевых — хозяйка показала. Пошли туда.
Викентьевы жили почти на окраине города, где Питерская уже сменялась грунтовой дорогой, уходившей в тёмный, по-ночному жуткий еловый лес. Здесь-то, на окраине, и был дом Викентьевых — совсем деревенский, с тремя окошками под резными наличниками, мезонином сверху. Заслышав приближение отряда, залаяла, зазвенела цепью собака у будки. Открыли калитку, не обращая внимание на надрывающегося, рвущегося с цепи пса, быстро прошли по обсаженной цветами дорожке к крыльцу, не успели взойти — дверь распахнулась, вышел пожилой мужичок с густой седой бородой, в телогрейке, ватных штанах. Заноза в своих скрипучих кожаных доспехах привычно вышел вперёд:
— Гражданин Викентьев? — грозно спросил он.
— Ну? — непонимающе ответил хозяин.
— Валерьян, — тихо обратился к товарищу Глебушка, — это не тот Викентьев. Наш вон тот, — указал он на выглянувшего из двери вслед за мужичком молодого парня, одного с Глебушкой возраста, чуть ли не подростка с птичьим испуганным лицом.
-
...и не выиграл, а проиграл
|
9:30 05.09.1918
Архангельск, угол Соборной ул. и Троицкого проспекта
Почтово-телеграфная контора
Что начальник Почтово-телеграфной конторы Вадим Владимирович Молоствов эту ночь не спал, следовало из всего: из того, что оба высоких окна были плотно зашторены, а кабинет освещался дрожащим электрическим светом потолочной лампы, из двух высоких стаканов с остатками чая, переполненной пепельницы и застойного табачного духа, да и из вида самого этого Молоствова — воспалённых усталых его глаз на осунувшемся лице с пшеничными усами. Молоствову было, кажется, что-то около тридцати лет, но сейчас, разбитый, невыспавшийся, небритый, в мятой сорочке под цивильным пиджаком с кожаными нашлёпками на локтях, он выглядел на все сорок. Когда секретарша пропустила Рауша в кабинет, Молоствов сидел вполоборота к столу с наушниками на голове; увидев вошедшего, он сдвинул наушники на шею и поднялся со стула: спутанный провод диагонально протянулся к какому-то устройству сбоку стола.
Не сказать, что Рауш много знал об этом типе: слышал, впрочем, что это был фронтовой радиоинженер, прапорщик, что ли, которого перевели в Архангельск аккурат под Февральскую революцию — да так он тут и остался. Рауш не знал бы всего этого (не выяснял же он подробности биографии каждого мелкого начальника в Архангельске), но больно уж примечательно было, как Молоствов — а ведь дворянская, между прочим, фамилия — умудрился удержаться на своей должности тут и при Керенском, и при советах, и вот сейчас, при Чайковском. Конечно, он был эсер, кто ж ещё, но при советах он вроде как был эсером левым, а теперь поправел, вот его и терпели: телеграфистом он был больно уж хорошим, как говорили. Видимо, не врали: рабочий кабинет Молоствова был и аппаратной — перпендикулярно зелёносуконному столу с бумагами, письменным прибором, стаканами и пепельницей стоял стол с телеграфными устройствами, из многообразных механизмов, валиков, колёсиков, проводов и шкал со стрелками в которых Рауш понимал назначение только морзяночного ключа да колёс с бумажными лентами: ленты курчаво вились, уходя под стол — похоже, ночью аппараты не бездействовали.
— Я сейчас открою шторы, — спохватился Молоствов, приглашая Рауша присаживаться. Телеграфист снял с шеи наушники на спутанном проводе, небрежно бросил их к остальной аппаратуре, а сам отошёл к окну, шумно раздвигая тяжёлые портьеры. В кабинет хлынул серый свет хмурого северного утра, стекло было покрыто мелкой моросью, по жестяному отливу окна нестройно бились капли, слетающие с крыши. Рауш перевёл взгляд на бумаги на столе Молоствова: «Крах крах крах крах» — было крупно выведено сверху одной, а ниже —чернильная черкотня, какие-то здания, рожицы. Внимание Рауша привлекла странная безделица рядом с тяжёлой бронзовой чернильницей — рамочка, в которой обычно ставят на стол фотографию, но в этой, увидел Рауш, на белой подложке под стеклом был помещён не портрет, а неровно отхваченный ножницами кусок красной материи.
— Электричество у нас такое, что и выключать не жалко, — странно сказал Молоствов, повернув рожок чёрного бакелитового выключателя на стене. Кабинет сразу холодно посерел. — Напряжение у них на станции ни к чёрту, постоянно свет дрожит, — добавил он, возвращаясь к столу. Сел, заметил лежащий на виду листок с черкотнёй, быстро сунул его под остальные, собирая бумаги в стопку. Свет-то, конечно, в Архангельске всегда дрожал, это знали все, а вот Рауш заметил, что и руки у Молоствова тоже дрожат мелким тремором. Молоствов, кажется, заметил, что Рауш смотрит на его руки, и поспешил сложить пальцы в замок на столе.
— Чаю? — предложил он гостю. — Я могу спросить. Удивительное дело, — усмехнулся он в усы, — двадцатый век, столько техники, а самовар ставят на дворе и растапливают сапогом.
-
Вадимка! Это ж он!
За интертекст, чего))
-
Вот никто не напомнил, я и забыл, что должен был плюс за интертекст(2)
|
Привычка рано вставать осталась у Яцека сызмальства, когда родители выгоняли его из постели с первыми петухами. Тогда ему нужно было следить за скотиной, а сейчас… а сейчас просто не хотелось проводить лишнего времени в своём недостроенном доме, в пустой горнице ещё с плохо проконопаченными щелями, из которых всю ночь из угла в угол бродили сквозняки, с белыми, остро пахнущими свежим деревом струганными брёвнами, с одиноким топчаном и тонкими паутинками по стенам — как быстро всегда даже только что возведённый дом зарастает паутиной!
Снаружи-то особняк выглядел внушительно: два крепких, высоких яруса из толстых брёвен, тёплые переходы к стойлам и денникам, окна на тонущий в зелени Неман — поместье было на самом берегу: удобно было выводить купать лошадей. Вот только внутри ещё ничего было не отделано, даже на первом ярусе до сих пор работали, что-то строгали рубанками, стучали, пилили. Мебели только и было что топчаны, свежеструганный большой стол, лавки да табуреты всякие — даже крючки, чтобы одёжу повесить, не везде были ещё вбиты: на гвоздь цепляли. Пол был усыпан светлой стружкой, опилками; по углам лежал мусор — пыльный, но не залежалой, а какой-то чистой и свежей пылью, как всегда на стройке.
Этот новый дом строили три года и вот, кажется, наконец, достраивали: только по мелочам доделать и обставить осталось. Не то, чтобы старый, прежних хозяев, был плох, но — увы! — сгорел, когда пан Вулевич, бывший хозяин конюшни, отдал богу душу, и во владение вступили наследники. Поуправляли они конюшней с месяцок, а потом у них дом сгорел: ничего не поделаешь, пришлось продавать пепелище за бесценок, а тут и покупатель нашёлся. Пока конюшню новую поставили, пока то, пока сё, — вот дом ещё доделать и не успели. С этим всем нужно было разбираться, да только до того ли сейчас?
Дел было много, но Яцек не жаловался: он вообще бездельничать не любил — с каждой проведённой в лености минутой, чувствовал он, уходят из рук какие-то возможности, за которые можно прочнее зацепиться, крепче вгрызться в жизнь, оставить не у дел очередного ленивого дурака. И сейчас, возвращаясь с торга на вороном Грачике, Яцек чувствовал радостное возбуждение, мандраж и разве что ещё досаду, что не успел к тому моменту, когда всё началось, доделать дом. Если Яцек чего-то в жизни терпеть не мог, так это не успевать, опаздывать что-то сделать. Ещё и Збысь этот, пьяная скотина, — с весёлым, боевитым раздражением подумал Яцек, — надо было ещё и по морде дать. Яцек вообще терпеть не мог пьяниц и сам пить не любил — в голове шумит, перед глазами крутится, наутро тошно: никакого удовольствия. Но, впрочем, чего сейчас о Збысе думать: были дела и поважнее.
— Не рассёдлывай, я ещё поеду, — ловко привязывая Грачика к коновязи, кинул он подбежавшему конюшонку Данеку, тринадцатилетнему светловолосому костлявому парнишке, который чуть ли не на голову вымахал за те полгода, пока работал у Юхновичей.
Данек подобрал отставленные вилы и вернулся к раскрытым воротам конюшни, за которыми были пустые перегородки стойл, откуда крепко, до щипоты в глазах несло навозом, гнилым сеном, кожей сбруй. Здесь как раз держали голштинца, которого загнал Збысь, и сейчас Данек чистил стойло, налегал на вилы, подцепив большой слежавшийся чёрный навозный пласт — но парень был слабоват, чтобы отодрать такую тяжесть от пола, и сейчас натужно кряхтел, стискивал зубы, пыжился… Яцек не смог пройти мимо.
— Ну ты чё творишь, Данек?! — Яцек походя дал парню подзатыльник, проходя в стойло. — Смотри как надо! Дай вилы! Вот так дробишь его, — Яцек несколько раз с силой ударил вилами в пласт, оставляя цепочку дырок, подковырнул: пласт хрустко, как корка, пошёл трещинами, — потом кусками поднимаешь! Грыжу себе, что ли, захотел? Ты мне здоровый нужен! Ууу, морда, — Яцек вручил вилы обратно и пятернёй потрепал улыбающегося парня по растрёпанной светлой копне волос, — куда ты всё растёшь-то, а? Нет бы вширь расти, скоро выше меня будешь! Короче, Данько, — хлопнул он его по грязному плечу, — как закончишь с этим, у меня для тебя вот какое дело: сбегай к дому Вилковских и этого, как его бишь, тевтона Корфа, и посмотри, где они сейчас, — в городе или у себя по усадьбам в деревне сидят. Вообще посмотри, что там да как: ты парень смышлёный. Узнаешь всё как следует, колбасу целую дам. Хочешь колбасы, морда? По глазам вижу, что хочешь. Небось, целый день жрать хочется, да? — сочувственно спросил Яцек и хотел что-то добавить, но решил — не стоит, и только уже выходя из конюшни, криво усмехнулся.
Прошёл через чёрный утоптанный, в копытных следах двор со штабелем досок у входа, поднялся в пустой светлый дом, где на первом этаже ещё что-то шумно пилили и в световых снопах из распахнутых окон плавали тучи золотой древесной пыли. Прошёл на второй ярус, нашёл брата там: Якуб сидел на лавке, чистил броню.
— Здароў, Кубусь, — в разговоре с братом Яцек всегда переходил на их родное деревенское наречие, за которое его в прежние годы, когда Яцек ещё по-польски говорил через пень-колоду, его все в Гродно шпыняли. Поэтому-то Яцек сейчас любил при случае говорить по-деревенски: могу себе позволить. — Псарня, кажаш? Добрая думка: мне нашы сабакі таксама падабаюцца, — Яцек выглянул в окно, где у ворот как раз стояла свежесрубленная будка для одного, чёрного клыкастого, брудастого Пырья. — Хочаш, займіся: нам псярня тут не перашкодзіць.
— Значыць, так: ты да Бараўцы, а я да жыда пайду. Раз такая каша заварылася, грошы нам патрэбныя, Кубусь, без грошаў ніяк. Трэба выбіваць з яго, колькі дасць. Грошы будуць — усё будзе. Адзін я, вядома, не пайду: вазьму з сабой дзесятак нашых хлопцаў: авось і жидок падатлівымі будзе. Хмель тут? Што, пайшоў? Ну добра, тады вазьму з сабой Збышака. Збышак-то тут, на двары? Ну дабро.
Яцек кивнул брату и направился в свою спальню за снаряжением.
— Да, ты ведаеш, — уходя, достал он из кармана и показал брату письмецо, доставленное в его отсутствие и сейчас переданное ему одним из человек во дворе, — мне тут Валковіч піша, сустрэцца прапаноўвае. Сустрэнемся, толькі я да яго не пайду: у карчме ўбачымся, пры сумленным народзе. Адпішыцеся яму хутка.
-
Правильно! Учить их надо, учить! Это вам не мечом работать - так каждый дурак может!
-
Описание деталек очень теплое впечатление создает. Прямо видно - так все и было
|
Август 1702 г.
Уфимский уезд,
долина реки Агидель,
пещера Пропащая Яма,
Веха 20Поросшие сизым лесом покатые горы, лента реки с каменистыми перекатами, солнце в ярком синем небе, пересыпанный ромашками луг, серая скала в трещинах и траве, — всё это косо качнулось перед глазами и полетело прочь, когда Игната сунули в чёрную расщелину. Ноги скользнули по камням, руки попытались ухватиться за склизкие выступы, но Игнат уже головокружительно валился в тёмный каменный провал, больно налетая на острые края, на ствол дерева, застрявший враспор между стенами колодца, хрустко сдирая ледяную бахрому со стен. Сверху надрывно верещал Филимон, а башкирцы уже совали его в провал пещеры вслед за Игнатом. Филимон отбивался, не желая лезть; его тыкали копьями. Наконец, затолкали: Филимон с криком повалился в чёрную дыру вслед за Игнатом, с рёберным хрустом падая на глыбы, осыпая щебень, сдирая ногти о стены, скользя по круто уходящему вбок и вниз ходу и, наконец, рухнул на Игната, уже лежащего на ледяном каменном полу в кромешной тьме. — — Игнатка… — хрипло говорил Филимон, бестолково вглядываясь в непроглядную, сплошную гробовую мглу. — Игнатка, не лезь ко мне! Не лезь ко мне, сукин сын! Давай лучше думать, как нам выбираться отсюда! Слышишь, Игнатка? Ну чего молчишь, а? Игнат молчал, сидя на корточках поодаль. Слова Филимона разносились в мёртвом каменном мраке гулким эхом. Где-то внизу слепой подземный ручей журчал по камням с чистым, потусторонним, замогильным звуком. Игнат молчал, понимая, что сказать ему нечего. У Филимона от падения были переломаны кости, он истекал кровью — Игнат не ел уже три недели и сейчас жадно вбирал носом этот запах, который в пещерной мгле будоражил его, не давая думать. — Не надо нам было к этим башкирцам лезть! — с жалостью к себе воскликнул Филимон. — Всё ты, ты, сучий упырь, виноват! Говорил тебе, пошли назад на Каму, а ты — нет, пойдём за Камень, в Сибири привольней! Вот тебе твоё приволье, в пещеру кинули! А ты ко мне, Игнатка, не лезь! У меня ноги, кажись, поломаны, но руки-то целы, я тебя заломаю, гада. Слышишь?! — пронзительно крикнул Филимон в черноту. — Слышишь??? Чего молчишь? — Филимон ровно дышал, лёжа на камне. Игнат медленно переступил вперёд, двигаясь на четвереньках на запах крови. Он бесшумно, шажок за шажком, подходил по ледяному камню к Филимону, поводя носом, различая уже и едкий, неприятный запах пота, и кожаную, шерстяную кислую вонь давно нестираной одежды: сердце радостно затрепетало в предвкушении. Игнат опустил лицо к полу, длинно слизывая кровавый след на шершавом стылом камне. Перешёл ещё на шаг, приблизил лицо к тёплой, упоительно терпко пахнущей шее, повёл носом, повернул голову, примеряясь — и тут Филимон правой рукой резко сграбастал Игната, пригнув того к каменному полу, а левой выхватил из-за пазухи ногайский нож и принялся деревянно тыкать им Игната, куда попадал. Это была ловушка, понял Игнат, Филимон его так выманивал, а выманив, железно схватил и тыкал, резал, пилил неподатливую, будто всю из сухожилий составленную неживую плоть: — Голову отрежу, авось не прирастёт! — рычал Филимон, пиля Игнату глотку. Игнат, дёргаясь и хрипя, схватился ладонями за кривое лезвие ножа, чувствуя, как сталь, вспоров кожу, упирается в кости, а сам изо всех сил выгнулся и впился зубами в шею Филимону, вгрызаясь в плоть. Тот взревел, ослабил захват, и Игнат рванулся прочь на четвереньках, как зверь. Филимон отчаянно кричал в темноту, Игнат зло шипел на Филимона из темноты. — — Игнашка… — слабо позвал Филимон. Теперь он уже не поднимал головы с камня и почти не шевелился. Игнат сидел на корточках рядом, склонив голову, наблюдая за товарищем. Временами Игнат опускал лицо к полу, слизывая кровь с камня; временами проводил языком по неровной рваной ране на животе Филимона. Первые разы тот ещё отбрыкивался, махал ножом в пустоту, сейчас перестал. — Игнашка… скажи только честно, ладно? Я ведь в ад попаду? — жалобно спросил Филимон. — Нет, — тоненьким, почти блеющим голоском ответил Игнат. — А куда? — с мукой, дрожащим голосом спросил Филимон. Игнат подумал, как бы ответить. — Мне в животик, — игриво, со сладким предвкушением сказал Игнат. — Игнат съел Филимона целиком. Сначала он выпил кровь, всю, что оставалась в теле: высасывал из надрезов досуха. Это было даже занятно: ранее он не проделывал подобного ни с кем и с любопытством отмечал, сколько крови, оказывается, напрасно оставлял в своих прошлых жертвах. Сытость, побуждающее к действиям наслаждение бурлило в жилах, расходилось по телу горячее счастье, но Игнат понимал, что долго так не будет, — крови из трупа с каждым разом удавалось высосать всё меньше: Игнат кромсал заледенелое мясо ножом, добираясь до внутренностей, находил кровь там, с удовольствием отпировал сердцем и печенью, но и этот источник был не бесконечен. Отрываясь от еды, Игнат ходил по пещере, высматривал, как бы отсюда выбраться, но выхода найти не мог: лаз, через который их с Филимоном спустили, уходил круто вверх над головой, и добраться до него не получалось. Он исследовал пещеру, её стылые, глухие, неотзывчивые стены, длинные тесные ходы, ледяной ручеёк, обрушивающийся в одном месте шумным водопадом. Он находил широкие залы с грядами сосулек, свисающих с потолка, ощупывал бугристые натёки тысячелетнего льда, — и чувствовал, как сам всё больше леденеет, застывает в бездействии, прислонившись к мёрзлой стене или лёжа на каменном полу, вглядываясь в плясавшую химерными искрами в глазах темноту. Что-то это ему напоминало, что-то давнее, неприятное, — когда это приходило в голову, Игнат напряжённым усилием поднимался с земли, возвращался к закоченелому, мёрзлому трупу Филимона в ворохе распотрошённой одежды. Высасывать было уже нечего, Игнат принялся нарезать заледенелую плоть Филимона полосками, клал по одной в рот, смакуя, улавливая сладкий привкус крови. Он дочиста вылизал весь пол, не один раз пройдя языком по камням, как половой тряпкой, чтобы не пропустить малейшую засохшую капельку. Он съел всё мясо, всю требуху, усердно жевал сухожилия, хрящи, оставив от Филимона лишь белый костяк. Потом он принялся за костяк: грыз кости, высасывал из них мозг. Потом высасывать стало нечего, и от Филимона осталась груда костей, надломанных, вылизанных, сухих как обмыленные морем деревяшки. Тогда Игнат принялся по одной грызть их, медленно и упорно перемалывая зубами. Он прерывался, замирая с костью в руке, недвижно и бессмысленно глядя в черноту, потом, через неопределённый промежуток времени, подносил кость ко рту, снова начинал её грызть. В конце концов от Филимона не осталось ничего, кроме ногайского ножа и вороха заледенелых искромсанных тряпок, тщательно обсосанных Игнатом в тех местах, где на них была капелька крови Филимона или одной из их жертв. Часто Игнат принимался снова искать хотя бы мельчайший след крови, пропущенную когда-то крошечную частичку. Он один за другим брал эти куски ткани, подносил их к носу, втягивал воздух — может быть, в первый раз за многие месяцы, — пытался уловить мельчайший оттенок запаха, и иногда, казалось, улавливал: вот этот кусочек пах парным пряным духом московского трактира, тот — жаркой полынной астраханской степью и мальчиком-калмыком, этот — черноволосой татарочкой с волжского утёса, тот — подкидышем из Чистополя в розовых складочках под пелёнкой, этот — саратовским слепцом, у которого и кровь была будто ржавая, этот — мамадышским пьяницей, от которого потом шумело в голове, а тут сладенько пах найденный на Сибирском тракте подмякший труп, а вот ощущалась весенняя сырость и разбухший, объеденный раками, ни на что не похожий утопленник в разливе Свияги, и много, много ещё счастливых воспоминаний приходило Игнату в голову, когда он перебирал рваные лоскуты. Долго он этим занимался. — Апрель 1774 г.
Оренбургская губерния, Уфимская провинция,
долина реки Белой,
пещера Пропащая ЯмаИгнат уже отвык от человеческих голосов и сперва не понял, что происходит сверху. Когда из лаза посыпались камни, куски льда, он подумал, что это обычный обвал — такие иногда случались в пещере, ненадолго выхватывая Игната из омута воспоминаний. То, что сверху голосили люди, он не понимал, думая, что это какой-то природный шум. Только когда из лаза вывалился кричащий человек, мгновенно принеся с собой упоительное облако пота, пороха, чеснока, мочи, слюны, крови, Игнат вскинулся из оцепенения. Он не видел упавшего, но чувствовал, как распространяется по пещере дивный аромат живого человеческого тела, слышал, как заходится булькающим хрипом, невнятно вопит упавший, выхаркивает с кашлем кровь. Игнат с хрустом отделил примёрзшую к камню ладонь, повернул шею, ломая корку льда. Человек уже был полумёртв и не сопротивлялся — он, кажется, даже не осознавал, что Игнат присосался к его ране, упоительно глотая горячую, живую, бегущую ручьями кровь. Мысли Игната двигались тяжело, как каменные жернова: Игнат сперва не понимал, откуда течёт кровь, а только потом сообразил, что припал к губам этого человека в подобии поцелуя — кровь обильно текла у него изо рта, он сплёвывал её со слюной, с кашлем. Затем Игнат смекнул, что сверху есть ещё люди: он различил глухие, невнятные голоса, топот копыт, затем гулкий пистолетный выстрел. Быстрота мысли возвращалась с каждым глотком: надо звать этих людей, — решил Игнат, — нельзя, чтобы они ушли и опять оставили его. Он попробовал крикнуть: ни звука не вырвалось из костенелой, будто жестяной глотки. Человек у ног Игната булькал, умирая. Игнат снова припал к его рту, глотая кровь со слюной. Попробовал позвать ещё раз, ещё и ещё, с каждым разом извлекая всё более громкий звук. Наконец, его услышали. — Эгей! — насмешливо крикнул голос сверху. — Чего орёшь? — Помо…гите! — сипло крикнул Игнат. — Что, на вешалку всё-таки захотел? — крикнули сверху. — Э, нет, ты свой выбор сделал! — Да ты погоди, Гришка! — вмешался вдруг другой голос. — Это ж не он! — А кто ж? — Не знаю, но не он! Ему ж мы язык вырезали, балбес! — Помогите! — ещё раз крикнул Игнат. — Эй, ты! — человек, похоже, склонился над входом в пещеру: голос его зазвучал громче, разносясь многократным эхом. — Ты кто? — Я Игнат! — это удалось выкрикнуть почти чётко. — Кому присягал, Игнат? — Чего? — не понял тот. — Кому присягал, говорю? Кого признаёшь? Кто нашей державой правит? — Царь Пётр! — с трудом припомнил Игнат. Наверху, кажется, удивились ответу. — Ишь ты, правильно! Как тебя туда угораздило-то, Игнат? — сочувственно крикнули ему. — Башкирцы скинули! — отчаянно гаркнул тот и, чувствуя, что на второй подобный ответ сил уже не хватит, принялся слизывать кровь, ручьями текущую по щекам и шее человека у его ног. — А за что? — строго поинтересовались сверху. — Христовой… Христовой вере учил! Люди наверху, кажется, принялись разговаривать друг с другом. «Это они могут», — донеслось до Игната. «Кинзя, небось», — сказал другой. — Ладно, — сказали сверху. — Сейчас верёвку скинем. Подняться сможешь? Нет? Ну хоть обвяжись. — На второй день слепота начала проходить — из ярчайшего солнечного сияния, которое сперва пылающе захлестнуло глаза, не давая видеть ничего, кроме лучистых переливов, уже начинали вырисовываться первые нечёткие силуэты, размытые тёмные очертания. На третий день Игнат уже различал шапки ослепительного снега на покатых склонах поросших сизым лесом гор, торчащие из леса мшистые чёрные скалы, сверкающую горную речку, бегущую по каменистым перекатам, свежую зелёную травку. Глядя на всё это с телеги, на которой его везли с отрядом, Игнат с трудом вспоминал эти места, через которые когда-то невообразимо давно проходил — зачем проходил, с кем? «Через Камень, в Сибирь» — туго, с усилием припоминал Игнат. Кому он это говорил? Или ему кто-то? Он уже сам не помнил.
-
Отчего-то очень радостно за Алёнку, которая прожила долгую счастливую жизнь. А Филимон... Кто ему виноват, в конце-то концов.
-
— Кому присягал, говорю? Кого признаёшь? Кто нашей державой правит?
— Царь Пётр! — с трудом припомнил Игнат. Наверху, кажется, удивились ответу.Вот очень круто обыграл с царём Петром. Вообще в этом посте очень много крутого.
Во-первых, мы второй раз придумали одну идею, что русские вампиры не пьют кровь, а брутально едят людей.
Во-вторых, я узнал откуда ник у Агидель.
В-третьих, "ко мне в животик".
Да и вообще Игнат классный.
-
|
-
невозмутимость настоящего связиста
-
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!
|
В тусклом сером рассвете северного дня Вадим шагал по улице, хрустко ступая по нападавшему за ночь свежему, чистому, как вся наступающая жизнь, снегу. Шагалось легко и привольно, как идётся всякий раз по новому, незнакомому городу после того, как оставил чемодан в гостинице и, не обременённый ношей, идёшь, толком и не понимая куда, рассматриваешь незнакомые дома, останавливаешься у афишных тумб, — только в этот раз казалось Вадиму, что он попал не просто в Архангельск, а в какую-то другую страну, чудную и славную.
Попытался разобраться в маршрутах трамвая, спросил у дворника, как проехать до почтамта. «Так не ходять! — махнул рукой бородатый детина в фартуке на шубу, стряхивающий снег с шапки. — Придумали какую-то свою леворуцию, бантов понацепляли!» — и показал Вадиму один такой. Ничего ты не понимаешь, дурень! — досадливо подумал Вадим, выдернул бант из руки дворника, закрепил на бекеше и пошагал дальше, зябко сунув руки в карманы.
На Финляндской уже с утра собирался митинг: гудела, шевелилась серая, чёрная масса людей, собравшаяся вокруг остановленного трамвая — тоже, что ли, из трамваев ручки выдрали, как в Питере? Но сейчас-то зачем? Простоволосый оратор кричал бойко, звонко, энергичными жестами выбрасывая руку с зажатой в ней фуражкой, и Вадим невольно залюбовался этим невиданным с университетских лет зрелищем. Прапорщик-эсер не пытался ничего разъяснить людям, ни в чём их не убеждал — он только выливал на них с каждым лозунгом заразительную энергию революции, будто метал не лозунги, а молнии.
Сложно было представить на его месте, без шляпы на февральском ветру, на крыше трамвая, университетского профессора Милюкова или щёголя-пустопляса Набокова, и в этот момент Вадим осознал то, о чём думал вчера вечером, но не мог чётко выразить: нет, пускай кадеты и говорят всё правильно о конституционной монархии, о парламентаризме и ответственном министерстве, не годится их программа сейчас, когда Россия, веками недвижная в холодной, мертвенной дремоте, сейчас разом очнулась, вздыбилась вся и будто ринулась с размаха в какую-то загадочную, непроглядную пучину… и уж выплывет к какому-то сияющему сизому горизонту или потонет — только от них всех и зависит, и от него, Вадима, в частности.
А ведь и прав оратор, поднимется несомненно реакция! Газету за завтраком Вадиму так и не принесли, и неясно было, что там с Думой, что с царём — неужто собирает верные полки, ведёт на восставший Петроград? Потолкался немного, спросил у интеллигентного господина в пенсне, может, тот слышал что? Тот тоже не слышал, и никто не слышал, будто стена какая-то отгородила Архангельск от звенящего, трещащего. дрожащего электричеством эфира, по которому, Вадим был уверен, сейчас в разные стороны летели из Петрограда, Москвы, Могилёва, с фронта тысячи искровок. Эх, хоть бы захудалый ему сейчас приёмник!
Вадим чуть не хлопнул себя по лбу: дурак! Стоишь у почтамта и мечтаешь о радиоприёмнике! Решительным шагом он направился внутрь, распахнул дверь тёпленького, пошленького кабинета провинциального чинуши и сам обалдел чуть не больше того, когда увидел, с каким страхом смотрит почтмейстер на него, в бекеше с красным бантом на груди, дышащего морозом, припорошенного снегом.
— Революционная контрразведка! — неожиданно для себя рявкнул Вадим, шалея от собственной наглости. — Этого гражданина, — указал он на царский портрет, висевший на стене, — отчего ещё не сняли? В Комитет общественной безопасности, — вылетело изо рта непонятное название, — захотели, что ли?
-
Величество, значит, оскорбляем-с, буллингом статских советников занимаемся. Будет сейчас Вадиму Владимировичу революционная контрразведка, хоть и с годовым опозданием! =D
|
Июнь 1702 г.
Волга, близ устья Камы
Веха 11Когда крики, наконец, затихли, Игнат облегчённо выдохнул и расслабился, прислонившись к шершавой серой сосновой коре. Его раздражали эти неуместные в солнечном ветреном просторе вопли, они скребли по душе как железом по жести, а хотелось просто сидеть в пёстрой моргающей тени и наслаждаться видом. Игнат сидел у высокой, криво уходящей в пустое лазурное небо серой сосны, уже простершей половину корней над обрывом, обречённой рухнуть при следующем оползне. Игнат свесил ноги с травяного среза, заглянул: косо и головокружительно уходил далеко вниз грязно-меловой склон, щербато серела узкая каменистая полоска берега под ним, а дальше — сплошное, могучее, живое полотно реки: ярко-сапфировое, переходящее под солнцем в мятое золото, всё в пляшущих сверкающих искорках, пересечённое змейками ветра. Далеко за васильковым простором в сизой дымке терялся противоположный берег, зелёная полоска заливных лугов. У далёкого, курчавым завитком протянувшегося острова почти недвижно вниз по Волге шла огромная беляна-лесовоз, похожая на плавучий терем, белый ковчег с бревенчатыми избушками сверху. С белесого по краям, будто выцветшего, неба в глаза жгло солнце, и если глядеть прямо, всё тонуло в матовой сияющей мгле. Игнат отвернулся от солнца, перевёл взгляд направо, где в живописной дали в голубой простор известняковым клином глубоко врезался крутой утёс с лесной шапкой, суконно-зелёными склонами. Задувал порывистый ласковый ветерок, весь в запахах травы, цветов, смоляного соснового, можжевелового духа. Простор, приволье, солнце, счастье, — с ленивым наслаждением перебирал Игнат ощущения, прислушиваясь к себе, нежась в рябящей тени. Сладкая свобода, — вот в какое одно определение можно было бы свести все чувства, переполняющие сейчас Игната. (Текст ниже не содержит мата или избыточно физиологических описаний, но читать его, вероятно, будет неприятно. Если это может быть каким-то оправданием, то скажу, что неприятно мне было и писать его. Но что поделать? Персонажей я вижу именно так. Если не хотите читать, просто имейте в виду, что под спойлером персонажи жестоко убивают девочку)
Если вам исполнилось 18 лет и вы готовы к просмотру контента, который может оказаться для вас неприемлемым, нажмите сюда.
Игната отвлек от мыслей пронзительный визг, какое-то копошение, а потом раздражённый голос Филимона:
— Ах ты, сучка, за палец тяпнула! — послышался глухой звук удара, оборвавший вскрик.
Недовольный, что крики снова начались, Игнат раздражённо поднялся, размашистым шагом пошёл к Филимону, обосновавшемуся поодаль. Филимон лежал навзничь на сером усыпанном жухлыми иглами песке, почти закрывая крупным бледным телом черноволосую девочку под ним — только по-лягушачьи раскинутые тонкие ноги торчали. Игнат остановился, подобрал с песка бурую шишку и метко запульнул в судорожно дёргающийся прыщеватый зад Филимона.
— Ну чего, скоро ты там? — ворчливо спросил Игнат.
— Да погоди, Игнат, — пыхтя, обернулся Филимон, весь потный. — Ну дай натешиться-то, две недели ж!…
— Давай быстрей, дурья башка! — раздражённо откликнулся Игнат. — Я тоже, между прочим, две недели не жрал!
Наконец, Филимон появился из-за сосен, довольный, подтягивающий полосатые штаны.
— Ну всё, готово, можно резать, — объявил он.
— Ну давай резать, — согласился Игнат, поднимаясь. — А где ж девка-то?
— Там оставил, — показал Филимон рукой.
— Сбежала небось? — спросил Игнат.
— Не! Я её там так, — Филимон гордо заулыбался и показал руками, как, — точно не сбежит! Пошли! Хотя… и вправду, нет её там, сбежала!
— Ну беги, лови! — досадливо взмахнул руками Игнат.
— Что, я? — глупо спросил Филимон.
— Ну не я же! Давай, беги, дурень! — Игнат пнул Филимона под зад.
Когда Филимон притащил за собой черноволосую, в разодранном, висящем серыми лохмотьями платье, совсем юную, безгрудую ещё девочку, Игнат не столько из необходимости, сколько предвкушения ради точил об оселок кривой ногайский нож — они достали его два года тому назад под Астраханью и с тех пор убивали именно им — очень уж он подходил для этого дела. Увидев нож, девочка рванулась, заверещала что-то по-татарски — Филимон ловко повалил её ничком на землю, задрал подбородок, не глядя, протянул руку. Игнат передал ему нож, и Филимон уже примерялся, но Игнат тут воскликнул:
— Погоди, не режь! — Филимон послушно убрал нож, и в широко распахнутых чёрных глазах девочки мелькнула надежда. Она с отчаянной мольбой глядела на бледного юношу в рубище, как заведённая повторяя на птичий лад единственное русское слово, которое знала: «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!»
— Чего? — глупо вскинул вихрастую голову Филимон.
— Миски опять забыли, вот чего, — ворчливо сказал Игнат. — Как в прошлый раз будет — половина крови в землю уйдёт. Тут и так-то с гулькин нос…
— А, ну давай неси, — согласился Филимон.
— Сейчас, — сказал Игнат и, уже удаляясь к месту, где у них были сложены пожитки, крикнул: — Не режь пока! И не уходи никуда! — Перемигивающая хрустальная звёздная россыпь висела в чёрном, будто воронёном небе, по краю которого за Волгой нежно розовело зарево: в эти июньские ночи солнце, хоть и садилось здесь на несколько часов, но продолжало закатным отсветом гореть из-за дальнего горизонта, как лучинка из-за печки. Желтоватая надрезанная луна висела над тёмным жутковатым простором, высветляя широкую дрожащую дорожку по реке; противоположный низкий берег сливался в густой тьме с водой, очень одиноко и невообразимо далеко горел огонёк костра на той стороне. Было тепло: к дыму костра примешивались свежие ночные запахи воды, соснового бора. Темноту вокруг догорающего, красно мерцающего углями костра прорезали чиркающие, скользящие свисты ночных птиц. Игнат и Филимон сидели на песке, привалившись к бургистым сосновым комлям, глядя в огонь. Филимону вообще-то давно бы уже пора было спать, но после сегодняшнего дня ему не спалось. Что-то его воротило, что ли, — косился на товарища Игнат, отхлёбывая из мисочки, — с Филимоном такое бывало. И кусок ему в глотку не лез — так и вертел он в руках крупной солью сдобренный, черно запечённый, надкушенный уже кусок мяса. — Ну и чего ты какой, Филимоша, а? — задушевно спросил Игнат, держа мисочку в пальцах, как блюдце с чаем. — Опять хандришь? Как мы зарежем кого, ты всё хандришь. Филимон тяжело вздохнул. — Чего делаем мы, — сказал Филимон, вороша веточкой в пепельно-красных углях, — чёртову работу делаем. — Вестимо, — спокойно согласился Игнат. — А ты, что ли, о душе задумался? — насмешливо спросил он. — Как не думать, — буркнул Филимон. — Я понимаю, когда мы там на тракте или этих вон с расшивы… но тут как-то совсем зверски вышло. Не по себе мне, Игнат. Спать ложиться боюсь. — Чего бояться-то? — пожал плечами Игнат. — Я тут стерегу, как всегда. — Да я не в том смысле, — Филимон помотал веточкой, чертя горящим её кончиком длинную загогулину, красным следом остающуюся в глазах. — Боишься, что девка, что ли, во сне придёт? — усмехнулся Игнат, в пару глотков допил из мисочки и принялся её вылизывать, перехватив посуду обеими руками, глубоко залезая в неё лицом. Игнат сам-то уже и забыл, что такое сон, и о том, что другие люди во сне что-то видят, знал с чужих слов, плохо себе представляя, как это на самом деле происходит. — А ты её и во сне отымей. Я подглядывать не стану, — оторвавшись от миски на мгновение, добавил он. — Да ну тебя, — отвернулся Филимон. Ему всегда было неприятно глядеть, как Игнат облизывает миску. — Всё равно это нехристь была, — легко сказал Игнат и принялся губами собирать засохшие кровяные следы по краешку миски. Филимон что-то неразборчиво буркнул, глядя в огонь. — Ты ешь, ешь, Филимоша, — сказал Игнат, отставил мисочку, тоже подобрал палочку и поворошил мерцающие угли, в которых запекалось ещё мясо, — пережжёшь сейчас. — Да воротит меня от этого мяса! — вспыхнул Филимон. — Как вроде себя уговорю, что свинина, ничего, в рот лезет, а как вспомню — сразу наружу просится. — В том и заключается твоя ошибка, Филимон, — назидательно сказал Игнат. — Не надо себя уговаривать, надо честным быть с собой. — Уйду я от тебя, Игнат, — мрачно сказал Филимон. — Куда? В монастырь, грехи замаливать? — А хоть и в монастырь. В Макарьевский вон под Нижним. — Ага… — скрипуче протянул Игнат. — У меня в Макарьевском брательник в монахи подался. Не знаю, жив ли ещё, нет. Тоже, как ты, всё о душе думал. Людей, правда, не резал. Немного помолчали. В пепле перламутрово мигали угольки, редкие язычки полупогасшего костерка огненными лоскутами подлетали вверх, когда Филимон ворошил веточкой пепел. — И не жалко без слова заветного уходить-то? — спросил Игнат. — Четыре года осталось всего. — Игнат? — вдруг вскинул голову Филимон. — Скажи правду: нет ведь никакого заветного слова? Ты никакого слова не знаешь, а просто сам — упырь, вурдалак. — Ты чего обзываешься-то? — необидчиво сказал Игнат, уклоняясь от ответа. — Тебя Сатана на землю послал? — опасливо спросил Филимон. — А, догадался? Да, он самый, — легко согласился Игнат, радостный, что Филимон так легко сам придумал для себя новую сказку, в которую готов поверить. — Ты ж мне уйти не дашь, да? — грустно спросил Филимон. — Убьёшь, кровь выпьешь? — Да почему, — снова пожал плечами Игнат. Он знал, что, если Филимон захочет уйти, он легко уйдёт — просто убежит, как в первую ночь их знакомства в Москве. — Хочешь, уходи на здоровье. Иди в монастырь, постись до опупения. Год, два выдержишь, потом снова на свежатинку потянет. А и не потянет — что, думаешь, проход в рай заработаешь? — Нет? — жалобно спросил Филимон. — Не заработаю? — Не, — уверенно помотал головой Игнат. — После того, что мы с тобой тут начудили, точно нет. — Только из-за неё? — Филимон показал рукой в темноту, где был полуприкопан труп. — Вообще. — Теперь только в ад мне? — спросил бандит одними губами. — В целом да, — рассудительно ответил Игнат, уже вдохновенно придумывая, что скажет. — Но, Филенька, ад аду тоже рознь. Можно в котле вариться, а можно… — А там правда котлы? — перебил Филимон. — Ну, я для слова, — ответил Игнат. — Не то чтобы котлы, но такие, знаешь… в общем, неприятно там. Особые машины, знаешь, там. Даже не машины, а… в общем, это видеть надо. А ты увидишь, конечно. — И чего делать? — доверчиво спросил Филимон. — Чего-чего? — передразнил его Игнат. — Сам думай, чего делать. Говорю: можно в котле сидеть, а можно рядом с ним стоять — в виде чёрта. Хочешь чёртом стать? — Как? — не понял Филимон. — Ну очень просто, — принялся объяснять Игнат. — Вроде как я будешь. Хвосты, копыта, — это всё так, сказки. А будешь, ну, чёрт. Вот как я. Меня сюда за тем и послали, других набрать. Я тебя, дурака, к этому готовлю-готовлю, а ты ещё и не благодаришь. — А делать-то что надо? — уставившись на Игната, горячо зашептал Филимон. — А вот что я говорю, то и делай, — устало сказал Игнат. Его уже начинал раздражать этот разговор. — Вот говорю тебе мясо есть, а ты не хочешь. — Гадко больно, — вздохнул Филимон. — А ты как думал, милый мой? — насмешливо сказал Игнат. — Вино сперва тебе пить не гадко было? Привык? И здесь привыкнешь. Потом будешь вон как я, одну кровь пить. Я ведь как ты, сначала мясо ел, потом уже на кровь перешёл. — Я уж лучше кровь сразу, — попросил Филимон. — Э, не, — заволновался Игнат, не собиравшийся делиться. — Пока мясо. Кровь потом давать начну. Ну, хватит, поговорили. Светает рано, а нам ещё лодку завтра искать. Туши костёр, ложись спать, Филимошка. — А можно хоть не тушить, а? — жалобно попросил Филимон. — Туши-туши! — приказал Игнат. — Мало ли, кто ночью ходит, ищет эту девку. Ложись, ложись спать уже давай. С утра веселей тебе будет, дальше пойдём. Филимон загасил костёр пыльным серым песком, улёгся на рогожку, подложив мешок под голову, укрылся старым дырявым кафтаном, отвернулся в темноту. Игнат разрыл угли, достал горячие запечённые куски человечины, выбрал один наименее пропечённый и уселся на край обрыва, свесив ноги, откинувшись на ствол сосны. Волгу затягивало белёсым предрассветным туманом, молочными лоскутами ползущим под откосом, переместившаяся на восток заря уже сильней разгоралась, сиренево окрашивая половину неба. Филимон за спиной хлопнул по щеке, прибив комара. Ветерок просвежел, засквозил предрассветным холодком. Игнат потихоньку принялся откусывать кусочек за кусочком — от человечины его не воротило, как от другого мяса: чувствовалась кровь, не насыщавшая, как просто из мисочки, но радовавшая вкус. Игнат поудобнее устроился на комле, глубоко вздохнул. Сладкая свобода, сквозящая в душе радость частого, бесконечно повторяющегося наслаждения — от одного наслаждения к другому, от одного счастливого дня к следующему. Завтра они найдут лодку, пойдут вверх по Каме — Игнат ещё ни разу не заходил далеко вверх по Каме, и ему было любопытно, что там, какие земли, какие люди. Вот будут они с Филимоном плыть в лодочке, будет тёплый ветер, ласковый маслянистый плеск речных волн, скрип уключин, ночные стоянки у костра, задушевные беседы, глупые вопросы Филимона, смешные его сомнения по ночам, ухарская лихость поутру, а ещё всегда будет угощение, полна будет мисочка, и всегда будет очень приятно её вылизывать. Хорошо, привольно было так проводить вечность.
-
Такие душевные посиделки! Кажется, Игнат потихоньку учится радоваться (не)жизни. =)
-
Мастерски показана убогая обыденность и отвратность зла.
-
— Уйду я от тебя, Игнат, — мрачно сказал Филимон.
Все мы иногда Филимон.
-
— Всё равно это нехристь была, — легко сказал Игнат и принялся губами собирать засохшие кровяные следы по краешку миски.Потрясающий не-нехристь получился.
|
Октябрь 1698 г.
Москва
Веха 6
Спускались на Москву серые осенние сумерки: отзвонили уже к вечерне колокола со звонниц, расходились с Торга последние приказчики, увязывая товар. Прятался за высокими тёсаными заборами народ, ночные сторожа перегораживали рогатками улицы, тёмные как погреба. Святой человек Игнашка Ветлужский, чему-то посмеиваясь, как часто с ним бывало, в густой темноте мимо покинутых рядов лавок пошёл на обычное место — стоять ночь перед Иверской иконой в стене ворот Китай-города. По пути его приметили: хлопнув грубой рогожной пеленой, открылась дверь кабака, из пахучего дымного полумрака выглянула шалава Манька — с натёртыми свёклой щеками, в медных монетных ожерельях по белой коже.
— Игнашка, Игнашка! — позвала она. — Подь сюда, поесть дам!
— Не надобно мне! — отмахнулся Игнат. Он иногда, виду ради, брал еду, которую ему носили, но не любил: человеческая пища проваливалась внутрь как бумага или трава, не насыщая и не давая радости.
— Так хоть помолись за нас перед Богом! — попросила Манька, приваливаясь молочным, дряблым плечом к косяку.
— Помолюсь, помолюсь, — кивнул Игнат, поправляя на плече ветхое, рваное, измазанное грязью рубище. — Сучий Евин ваш корень, а ведь и за вас кто-то должен угодников просить. Ты, Манька, знаешь, я за вашу блядскую сестру завсегда усердней всего молюсь.
Конечно, Манька это знала: все на Москве знали, что страстней и дольше всего юродивый Игнашка, проводящий ночи в навозной луже перед Иверской надвратной иконой, молится за тех, кому молитва нужней более прочих: за блядей, ночных татей, нищих, калек, лиходеев, висельников. Он это делал не без умысла: Игнат знал, что выходящий непроглядными ночами на улицу лихой народ никогда не тронет своего заступника — и действительно: разбойники со свинчатками в рукаве, глухой полночью возвращавшиеся с дела с мешком добра, частенько останавливались за спиной Игната, проверяя, не спит ли тот, а когда видели, что нет — не спит, а повторяет слова молитвы, уважительно обходили его и удалялись дальше по своим делам.
К таким проверкам святости Игнат уже давно привык: на Москве было много юродов, но святость большинства из них была фальшивая, как позолоченный медяк — одного ловили на том, что он убил калеку за видное место на паперти, другого под презрительный хохот изгоняли за то, что поддался на соблазнительные уговоры Маньки, решившей проверить, так ли крепок духом юрод, третьего лишали почёта за любовь к вину, четвёртого — за неусердие в молитве, пятого — за зябливость. Только Игната Ветлужского никто не мог ни в чём упрекнуть. Все видели — этот стоит ночами у иконы, не смежая глаз, молится, холода не страшится, усердно постится, а плоть умерщвил так, что смердит хуже дохлой крысы: воистину святой человек. Многие приходили посмотреть на то, как он молится ночью.
Поэтому стоящий на коленях Игнат и не удивился, когда услышал за спиной тяжёлые шаги. Была глухая промозглая октябрьская полночь: глазок луны одиноко светил через бледную кошму низких облаков, чернильные лужи в буграх грязи расходились кружками под мелким дождём, красно горела лампадка под иконой на грязно-белой стене, откуда-то издали доносилась усталая перекличка ночных сторожей. Шаги подошли ближе, и Игнат подумал, что человек сейчас прислушается, что там юрод шепчет, и начал отчётливей выговаривать слова молитвы, — и совсем не ждал, что под левую лопатку ему вгонят железное остриё.
Филимон нанёс удар деловито, не примериваясь: это был не первый раз, когда он бил человека ножом в спину, это был не первый раз, когда он убивал человека. Он знал, что ему, левше, удобно бить как раз под левую лопатку: кривой зазубренный нож, переделанный из косы, пройдёт до самого сердца, жертва упадёт, не вскрикнув. Дальше должно было быть совсем просто: извлечь нож, упершись лаптем в труп, быстро вытереть об одежду новопреставившегося, сунуть за пазуху и — шмыг в тень. Но сейчас всё пошло не так: удар вроде бы и получился, но вошёл в тело как в дерево, тяжело, неотзывчиво, и убитый — странное дело! — не повалился навзничь, а лишь пошатнулся, как от пинка в спину, упёрся рукой в липкую грязь, а потом, к ужасу Филимона, — начал оборачиваться.
Филимон сперва не понял, почему убитый оборачивается, не желая падать. Филимон подумал, что удар просто не получился, ушёл не туда, — но нет, нож глубоко, по рукоять, сидел в спине юрода, но тот будто бы и не чувствовал боли. Поняв это, Филимон захолодел, застыв на месте, боясь даже перекреститься — а юрод в это время поднимался с колен, оборачиваясь.
— Ты чего! — сорванным сипом завопил Филимон, пятясь. — Ты как?
— Ты как на меня руку поднял?! — гневно, визгливо вскрикнул юрод, и Филимон беспомощно оглянулся по сторонам, а потом, сам не понимая, зачем это делает, сорвал с головы облезлый лисий колпак, метнул его в юрода, а сам, по-заячьи, пригибаясь и вереща, кинулся прочь. Игнат не стал его преследовать, да и не смог бы догнать.
—
Игнат ждал возвращения убийцы и следующую ночь, и следующую за ней, но тот не приходил. Игнат не переставал гадать, зачем его хотели зарезать, перебирал в памяти лихих людей с белогородских печур, из-за Яузы, но не мог понять, кому бы он помешал так, чтобы потребовалось его убивать. Он поспрашивал у знакомых татей по трактирам — те ничего не знали: они предложили святому человеку защиту, но Игнат отказался, заявив, что его хранит Бог. Он действительно не боялся: рана под лопаткой чесалась, постепенно затягиваясь зеленовато-белой тканью, и Игнат знал, что так и будет: ему уже и разбивали череп кистенём восемь лет тому назад на костромском тракте, и резали горло как-то зимой во Владимире, и прошлой весной ещё топили с мешком на голове в Москве-реке (топил как раз юрод, которого Игнат согнал с Торга — Игнат потом даже кровь его пить не стал, позволив своим заступникам растерзать несчастного). Поэтому повторного покушения он не боялся, но вопрос, кто это был, занимал Игната, не давал покоя. В его теперешней жизни редко случались любопытные вещи, а когда случались, они до крайности захватывали внимание Игната.
Наконец, на третью ночь убийца появился. Игнат услышал его шаги издалека: убийца крался осторожно, медленно, не поднимая шума, мягко опуская лапти в чавкающую грязь, но Игнат его слышал и внутренне замирал от радости, что сейчас наконец-то узнает, в чём тут дело. Шевеля губами под холодным мокрым ветром, он выждал, пока шаги приблизятся, зайдут ему за спину, остановятся, а затем резко обернулся — только чтобы увидеть, что давешний убийца, бледный и перепуганный, стоит без ножа, высоко подняв руки, отстранившись от Игната, как от огня. Игнат и сам опешил от такого.
— Тебе чего? — грубо и как-то очень по-житейски гаркнул он на убийцу. — Что, за ножом пришёл? Выкинул я твой нож в реку.
— Чего мне тот нож? — выдохнул убийца. Теперь Игнат мог рассмотреть его ясней: это был молодой, лет тридцати, мужик с клочковатой рыжей бородой, одетый с нарочитым дешёвым и фальшивым шиком мелкого разбойника — в кафтан с парой медных пуговиц, оставшихся от прежнего владельца (с первого взгляда было ясно, что одёжка с чужого плеча), и остальными костяными разномастными, без шапки, в стоптанных почернелых лаптях вместо сапог, штопаных полосатых шароварах. Судя по тому, как тяжело отвисал рукав на поднятом левом предплечье бандита, там у него была припасена свинчатка. Игнат криво усмехнулся.
— Так чего пришёл-то? Прощенья попросить?
— Ну… — неожиданно кивнул бандит.
— Бог простит, — ворчливо сказал Игнат, сразу потеряв интерес к незнакомцу. Он отвернулся, собравшись уже снова приступить к молитве, разочарованный тем, как скучно всё вышло: хотел убить святого человека по дурости, не удалось, поверил в чудо, раскаялся.
— Отче Игнате, — жалобно позвал бандит и, переступая по лужам, начал заходить сбоку, чтобы Игнат мог его видеть. — Это ж не я тебя убить-то хотел.
— Ну? — слегка заинтересовавшись, повернул голову Игнат. — А кто ж ножом-то тыкал?
— Это ж… отче Игнате, это ж мне поручили так. В Преображенском приказе-то. Сказали, чтоб я тихонько тебя, того.
— Что, в Преображенском? — удивился Игнат.
— Так, так, — усердно закивал бандит. — Я сам-то сидел в темнице на Варварке, с фальшивыми ефимками попался, а тут заходят ко мне, говорят, пойдём. Я пошёл, а меня к самому князю-кесарю ведут!
— Ну? К Ромодановскому? — переспросил Игнат. История бандита становилась всё любопытней.
— А, а князь-то говорит, — торопливо, радуясь, что заинтересовал святого человека, продолжал лиходей, — что, мол, надо юродивого убить, а то народ на бунт мутит, царя погаными словами кроет. Я-то весь охолонул: как так, думаю, святого человека, юрода Божьего, убить! И кто приказывает-то! Сам князь-кесарь! Я уж и так, и так: говорю, мол, избавьте меня, Христа ради, от сего греха, не хочу на душу брать, а тот мне — а не хочешь, так на плаху пойдёшь, а сделаешь, так мы тебе всё простим и на волю отпустим. Ну я, ну я чего… — бандит не выдержал и повалился коленями в грязь, — пошёл! На какое дело-то решился, какой решил грех взять! Мне они и нож сами выдали, говорят, иди, и чтоб через три дни Игнатки этого на улице не было! И только Бог, только Бог да заступница наша пресвятая, пречистая Матерь Божья, не довела до греха, чудо сотворила! Прости меня, прости меня, отче! — с подвыванием, простерев руки, бандит грохнулся в грязь перед Игнатом. Игнат, не поднимаясь с колен, хлюпко переступил ближе к бандиту.
— Ну, ну, поднимись. Поднимись, сыне мой, — тать, по-собачьи заглядывая Игнату в глаза, поднял голову. Игнат протянул к нему руки, обнял. — Ничё, ничё, сыне мой. Убить ты меня и не мог, потому что меня благодать Божья хранит, зато вишь, как всё обернулось. Тебя как звать-то, болезный?
— Филимошка меня звать, — слабо пролепетал бандит. — Я прощения попросить пришёл, потому что сам драпать буду: нельзя мне тут оставаться, раз я тебя не убил.
— Ничё, ничё, — повторил Игнат, — вместе, значит, пойдём. Мне в Москве тоже уж поднадоело. Вместе пойдём, Филимоша.
Игнат почувствовал, как Филимон перестал дрожать, подсобрался. Это предложение ему не понравилось — понял Игнат, — одно дело покаяться перед святым человеком, униженно вымолить прощение, залиться чистыми, опустошающими слезами, после которых душа будто умытая — лёгкая, безгрешная, как у младенца; и совсем иное — связывать свою жизнь, привольную, лихую, с вонючим вшивым юродом, проводящим дни в молитве и посте.
— Я, отче… — начал было Филимон, но Игнат не дал ему договорить.
— Хочешь, чтоб тебя тоже нож не брал? — быстро спросил он, отстраняясь от бандита. Филимон вскинул голову на Игната:
— А что, можно?
— Можно, — заверил его Игнат. — Нож, кистень, стрела, пуля, яд — ничего меня не берёт, потому что я секрет знаю.
— Какой? — выдохнул Филимон.
— А, всё тебе скажи да покажи, — усмехнулся Игнат. — В услуженье мне пойдёшь, скажу, как срок выйдет.
— Какой срок? — быстро спросил Филимон, уже внутренне согласный.
— Семь лет, семь месяцев, семь дней, — ответил Игнат и, обернувшись к надвратной иконе, широко перекрестился. — Вот те крест, Филимоша, коли верно отслужишь мне этот срок — скажу слово, не возьмёт тогда тебя ни сталь, ни свинец, ни яд.
— А… — Филимон задумался, ища в предложении какого-то подвоха. Наконец, нашёл: — А огонь?
— И огонь не возьмёт, — уверенно кивнул Игнат.
— А вода?
— И вода.
— А что возьмёт?
— Ничего. Ничего, Филимон, не берёт того, кто знает слово заветное. Вот ты меня ножиком ткнул — а меня ножик не взял. И тебя не возьмёт, коли слово знать будешь.
— Семь лет, значит? — Филимон приложил грязный заскорузлый палец к щеке.
— И семь месяцев, и семь дней, — скрупулёзно добавил Игнат.
— Я согласный, — наконец, с чувством выпалил бандит.
— Побожись на икону, — потребовал Игнат.
— Чем божиться?
— Всем животом земным и жизнию грядущей на небеси, клянись, что будешь делать, что я скажу, пока срок не истечёт, — вдохновенно сказал Игнат. Ему нравилась эта комедия, он весь внутренне трепетал от захлёстывающего восторга. Филимон исправно побожился, троекратно перекрестившись с земным поклоном.
— Двумя, двумя перстами крестись, не кукишем! — дал Игнат Филимону подзатыльник, забавляясь тем, как покорен ему этот разбойник. — Заново всё повторяй, не приму клятву с крестом щепотью! Вот, то-то же, так-то оно лучше. Не боись, в чёрном теле держать тебя не стану: мне еды, одёжи, денег дают, да мне мало надо. А теперь пойдём мы с тобой, Филимоша. Ты на Волге бывал?
— А как же, — ответил лихой человек, — я с Волги сам, тверской я.
— Да что за Волга в Твери? Так, название одно, — насмешливо сказал Игнат. — Нет, Филимоша, мы с тобой на настоящую Волгу пойдём, на низы. Вот там раздолье, давно уж я туда пойти хотел. Я буду проповеди читать, ты — людей резать.
— Что? — не понял Филимон.
— А ничего, ничего, Филимоша, — мягко сказал Игнат, поднимаясь с земли. — Тебе ж не впервой? А клятву дал, значит, обязан, — Игнат повернулся и пошёл по чёрной пустой улице прочь.
— Так… — непонимающе воскликнул Филимон, поднимаясь вслед за Игнатом, — как так, людей резать? Ты же святой человек?
— А мы с молитвой, — через плечо бросил Игнат.
|
20:50Жуткое, наверное, зрелище для шенкурян представляли собой четырнадцать человек — одиннадцать красноармейцев и три чекиста — идущие толпой с винтовками по тёмной, освещённой только слабыми огоньками из окон домов, Московской улице к центру Шенкурска. Романов взял с собой десяток бойцов под командой Андрея Падалки, круглолицего украинца, которого невесть как забросило в Архангельский полк, где он ещё и взводным стал. В этом же десятке оказались и Чмаровы, такие же неразговорчивые, как и всегда, и стоявшие сегодня на часах у дверей Кооперативного клуба Иван Пырьин с Тимофеем Петровым. Красноармейцы шли, растянувшись во всю ширину улицы, меся высокими сапогами чернильную в темноте грязь, смолили папиросы и махорку, прихрамывающий устюжанин Фомка Елецкий дымил своей любимой короткой трубочкой из вишни — она, говорил он, была с ним с самого четырнадцатого года, с Гумбиннена, с прусской мясорубки, откуда ему только попечением Николая Угодника удалось выбраться. Из-за заборов брехали собаки, все спиной чувствовали, как выглядывают вслед отряду из-за занавесок горожане, гадая, куда красные пошли, по какому делу. Чувствовали эти взгляды, видимо, и Глебушка с Занозой, оба хмурые. Глеб, видел Бессонов, всё никак не мог выкинуть из головы этого красноармейца-кокаиниста (в сошедшем с парохода десятке его не было), всё начинал заговаривать на эту тему: — Это они, вероятно, из аптеки взяли, — обращался он к молчаливому Занозе, идущему рядом. — Если так, то завтра можно ожидать появления и эфирщиков. Эфир злая штука: надышатся, потом буянить начнут, а у них там у всех оружие под рукой — разнесут всё, к гадалке не ходи. Заноза ничего не отвечал, хмуро глядя по сторонам. Видно, что он был мыслями где-то далеко. — А может, они и морфий из аптеки стянули, — продолжал Глебушка. — Они все тут с фронта, впрыскивания делать уж точно кто-то умеет. Надо руки смотреть, ноги всем. Уколы, уколы… — зачем-то повторил он странным тоном. — Ты это, Глебка, — обернулся к нему Заноза, — только сам-то не думай, ладно? — Не, не, — преувеличенно бодро замотал головой молодой чекист. — Я с этим давно уже завязал, ты что. — Просто я вижу, — заботливо сказал Заноза, — ты всё никак этот марафет из головы выкинуть не можешь. — Не, не, — повторил Глеб, — я железно уже завязал, точно говорю. Увидишь меня нанюханным когда, Валерьян, сразу к стенке ставь. Тем временем добрались до телеграфа — низенького одноэтажного кирпичного здания, похожего на потребительскую лавочку, которая, вероятно, тут и была когда-то — даже большая витрина осталась. Сейчас, правда, вместо товаров витрина черно-бело пестрела открыточными фотографиями Шенкурска, отдельными и коллажированными: Выше фотографий с внутренней стороны стекла были наклеены аршинные картонные буквы: «ПОЧТА ТЕЛЕГРАФ», причём на месте снятого ера ещё оставался клеевый след. За фотографиями открывалось пустое тёмное почтовое отделение — лакированная стойка с весами, железной чернильницей и привязанным бечёвкой пером, за стойкой — стеллажи для сортировки писем, застеклённые шкафы с какими-то изданиями внутри, тускло поблескивающий громоздкий медный кассовый аппарат — было видно, что почтовое отделение тут, хоть и маленькое, но стараниями всё тех же кооператоров было оснащено хорошо и походило скорее на уменьшенную копию почтамтов в больших городах, чем на занюханную почту заштатного городишки. Отделение было пусто, и могло показаться, что и на телеграфе никого нет, но, подойдя, все сразу же услышали мерный треск печати аппарата по телеграфной ленте из заднего помещения аппаратной. Оставив пару бойцов у зашторенного окна, чтобы телеграфист не смог бежать, Романов, Бессонов и остальные направились к главной двери, дёрнули — закрыто. Пару раз стукнули, и из глубины здания донеслось «Иду, иду!» Прошлёпали шаги, и ко всеобщему удивлению дверь распахнул Василий Боговой, старший брат председателя уездисполкома. Боговой был в мятых штанах, прожжённом в нескольких местах на груди свитере, в тапочках на босу ногу, с пиджаком, зябко накинутым на плечи. Он с удивлением оглядел всех: — Чем обязан? — спросил он слегка заплетающимся языком, и все поняли, что Боговой немного подшофе: не в стельку пьян, но за воротник уже успел заложить. У него спросили, где Викентьев. — Викентьев? — задумался Боговой. — Так его уж с обеда нет. Он вчера в ночную дежурил, сегодня я у аппарата. А вы чего, не знали, что ли? Ну да, я тут тоже телеграфист. — И кому сейчас телеграфируете? — вмешался в разговор Глебушка из-за спин товарищей. — Мы слышали, у вас лента бежит. — А, это? С Архангельском болтаю, — легко рассмеялся Боговой. Все опешили: как так, с Архангельском? — Ну, как? Как обычно, общаюсь тут по вечерам с Вадимкой. Пойдём, покажу, — широким жестом он позвал всех следовать за собой и пошёл в аппаратную, шаркая тапочками. — Вадимка — это ваш друг какой-то? — настороженно поинтересовался Заноза. — Да как сказать, — со смешком ответил Боговой. — Контрик какой-то из Архангельска. Так, тоже нечем ему заняться, вот, хуями друг друга кроем. Да пойдёмте, мне стесняться нечего, это ж аппарат Бодо, там всё на ленте остаётся, сами прочитаете. Аппаратная шенкурского телеграфа тонула в прокуренном полумраке, в котором терялись коммутаторные доски со штепселями в керамических изоляторах, плакаты с азбуками Морзе и Бодо на стенах, какие-то справочники на полках, привычный аппарат Морзе с чёрной эбонитовой головкой ключа. Работал Боговой, впрочем, не на нём: в колесо этого аппарата даже ленты вставлено не было. Работали два аппарата Бодо, жёлто освещённые одинокой керосинкой на столе. Колесо одного аппарата медленно вращалось, пропуская под стрекочущий печатный ролик белую ленту: временами ролик с треском припечатывал к ленте знак и двигал её дальше. Лента уже длинно сползла на пол, завитком протянулась под стол: видно было, что беседует Боговой со своим архангельским другом уже не первый час, а тот всё ему что-то пишет и пишет.   Коробочка с пятью клавишами— клавиатура аппарата. Клавиши можно нажимать как поодиночке, так и одновременно несколько, тем самым образуя до 32 сочетаний, соответствующих разным символам по азбуке Бодо ( ссылка). Преимуществом такого аппарата была большая скорость передачи данных по сравнению с обычной морзянкой на ключе и тем более клавиатурным аппаратом Юза и отсутствие необходимости переводить код в буквы при приёме — аппарат автоматически расшифровывал сигналы и печатал буквы на ленте. Недостатком была необходимость учить отдельную азбуку и сложность работы пятью пальцами (как правило, работали обеими руками — левой на двух клавишах, правой на трёх). Кроме того, в отличие от морзянки, сообщения по аппарату Бодо нельзя было принимать на слух, только на бумажную ленту. В годы революции и гражданской войны аппаратов Бодо в России было довольно много, и часто они (как и другие) использовались для непринуждённого общения телеграфистов между собой. Вот, например, как это описано в книге Виктора Шкловского «Сентиментальное путешествие»: Подходишь к «бодо». Это – аппарат прямого провода с Тифлисом. Сверкая в темноте, кружится грузило регулятора, медленно опускается гиря механизма. Стучит что-то, ползет лента со словами. Иногда аппарат сбивается, начинает печатать: т-т-т-т-ччччч-ввв…Из аппарата ползет белой макароной какая-то болтовня. Перебиваешь: «Скажите, что у вас, как большевики?.. Пришлите белье войску, валюту…»Аппарат тихо теркает: «Тер… тер… тер… Терещенко говорит… демократия…» Белая глиста ползет…На то, как работает аппарат Бодо, можно посмотреть здесь: ссылкаБок о бок с принимающим аппаратом стоял второй такой же, покрытая буквами лента которого тоже завивалась под стол, но колесо этой машины сейчас не двигалось. Это был контрольный аппарат: именно с его клавиатуры посылал сообщение телеграфист, а по оттиску на ленте проверял точность отправленного текста. Рядом с аппаратами стояла дешёвая фаянсовая пепельница с окурками, лежала начатая пачка папирос. На небольшом столике, удобно подвинутом, чтобы вполоборота можно было до него дотянуться, на подостланном бланке телеграммы лежала нарезанная колбаса, куски чёрного хлеба, пара очищенных луковиц, а завершали натюрморт уже початая бутылка мутноватого самогона и гранёный стакан. Бессонов видел — Глебушку от этого зрелища так и передёрнуло. — А у меня время нерабочее, — оправдываясь, сказал Боговой, слегка заплетаясь в словах. — У меня сеанс связи с Вельском только в полночь, — и прикусил язык, видимо, сообразив, что нетрудно предположить, в каком состоянии телеграфист подойдёт к этому сеансу. — Вы ознакомьтесь, ознакомьтесь, тут никакой контры — оборвал он ленты с обоих колёс и длинными бумажными змеями протянул их вошедшим и всё-таки не удержался: — Чистое пролетарское веселье!
-
Боже мой, этот пост охрененен! Все эпичные моменты и не перечислить. =D
-
Вспомнился Диковский, а именно "На острове Анна"
"Большевиков севере нет тчк немедля прекратите передачу донесений адрес
бандитов".
Тот отвечал:
"Подчиняюсь только ревкому тчк бандиты ходят с погонами".
Последующие телеграммы фон Нолькена были написаны довольно энергичным,
хотя и шаблонным языком:
"Вы отрешены должности зпт измену предаетесь суду".
"Иуда и хам тчк весной вас повесят".
Ответ Новоселова напоминает по тону письмо запорожцев султану. Это была
одна фраза длиной от острова до Большой Земли, смысл которой можно свести
к известной народной пословице:
"Выше... не прыгнешь..."
|
Май 1683 г.
Поветлужье
Веха 8
Супрядки в Черноярском скиту были скучные, постные, — знала Глафира, — не то что в Семидевьем, где она была ещё послушницей-белицей: там на супрядки собирались девушки из разных обителей, там обменивались новостями и сплетнями, пели светские песни (впрочем, быстро меняя на душеспасительные, как только заходила черница, — и в этом тоже была особая забава), туда и парни из соседних деревень заглядывали: тогда смех сразу удесятерялся, сыпались шутки, доходило и до поцелуев за углом, а у кого-то и до греха. В общем, весело было в Семидевьем скиту на Самотхе в керженских лесах: а здесь не то.
Глафира и выбрала-то Черноярский скит, чтобы принять там постриг, именно из-за особой строгости, святости: этот скит был вдали от людей, в верховьях Ветлуги, затерянный в лесах, и не походил на скиты, ранее виденные Глафирой, — те на первый взгляд казались просто лесными деревушками: не зная, и не поймёшь, что каждая изба — не дом, а келья. Иначе было здесь: этот скит был окружён высоким сосновым тыном с вышками, крепкие ворота сторожила мать-привратница. Внутри частокола бревенчатые кельи стояли ровно в рядок, как ульи, и всё содержалось в скучном, унылом порядке: дорожки были чисто выметены, амбары, стойла, курятник прибраны, огороды прополоты, цветники ухожены, могилы под чёрными голбцами выровнены. Все прилежно трудились, никто не смел перечить матери-игуменье Ирине, шутить над ней, как, бывало, шутили белицы над инокинями в Семидевьем, — грозным напоминанием о возможной каре служил чёрный спуск в морильню, куда мать-игуменья могла отправить исполнять страшную епитимью. Да и не было бы морильни, всё равно игуменье никто бы не перечил: она внушала трепет одним своим видом — носила плат, закрывающий всё лицо, оставляющий только щёлку для глаз, и Глафира сначала думала, что это особый обет, а вот неделю назад, когда провинилась, заговорившись с подругой, мать-игуменья (как всегда делала, отчитывая черниц) сняла перед ней плат, и Глафира впервые увидала — не лицо, а запеканку под багровой коростой, без носа, с безгубой дырой рта, с клочковатыми остатками чёрных волос на обожжённой макушке — и тут уж не столько епитимья была страшна, сколько само это лицо, и с тех пор Глафира ходила тихонько, чтобы ничего не нарушить, снова не попасть под отповедь.
Поэтому и супрядки в Черноярском были тихие, безрадостные: неотлучно присутствовала на них черница, строго следящая за благочинием, и девушки пряли уныло, постными голосами выводя песню о неизбежном конце: «терн острейшей жалости душу ми збодает». Но, однако, даже здесь находились сплетницы, готовые посудачить о новостях — тем более, что в кои-то веки в Черноярском скиту было, о чем поговорить:
— А странник тот, — склонившись к прядущей Глафире, шептала Фёклушка, — молодой, вот как мы, и на вид ничего, пригожий, — девушка опасливо хихикнула, — только бледный очень, и пахнет от него — фу, неприятно.
— Святой, должно, человек, — заметила Глафира.
— Должно, так, — согласилась Фёклушка. — Игуменья как знала, что он идёт: нас с Марьей навстречу послала. Наказала, чтоб вели сюда, даже если не захочет. Но он ничего, сразу пошёл — даже не спросил, кто мы, откуда. На дороге встретили, лесом в Вознесенское шёл.
— И чего, где он сейчас? — с интересом спросила Глафира.
— В игуменских покоях, вестимо: с матерью Ириной разговаривает, — ответила Фёкла и ткнула подругу острым локотком: — А что, поглядеть, верно, хочешь?
— Да сдался он мне, — фыркнула Глафира, опасливо скосившись на подремывавшую надзирательницу.
Дверь в прядильню скрипуче отворилась, на пороге показалась мать-ключница Марья: толстая, мясистая тётка, первая помощница матери Ирины. Перешёптывания враз смолкли, оборвалась песня; девушки потупились на пряжу. Марья обвела черниц взглядом.
— Глаша, пойдём.
— Куда? — дрогнувшим голосом спросила Глафира, испугавшись, что её ждёт новое наказание за давешний проступок.
— Пошли, кому сказано! — повысила голос Марья, дёрнув девушку за плечо. — Мать-игуменья зовёт.
Вышли из прядильни, пошли по чистой песочком присыпанной дорожке к игуменскому дому — высоким, в два яруса, палатам, куда заходить черницам запрещалось, где Глафира за три месяца в Черноярском скиту ещё ни разу не бывала.
— А что мать-игуменья? — тревожно спросила Глафира, поспевая за широко шагающей Марьей. — Я что-то натворила?
— Ничего, ничего, — успокоила её Марья, — ты ступай знай. Никакой вины за тобой нет, показать тебя только хотят.
— Кому? — слабо спросила Глафира, беспомощно оглядываясь по сторонам: Марья не ответила, но Глафира и сама поняла, кому.
Марья втолкнула Глашу в игуменские покои: молодая черница поразилась, как пышно, отлично от общей простоты и строгости скита, была обставлена горница: цветные ковры по стенам и полам, кованые сундуки у стен, шитые бисером занавеси, серебряные и золотые блюда, ларцы, братины по полкам. В середине горницы стояли мать-игуменья — со своим страшным, обожжённым лицом без плата — и странник: бледный юноша, в расползающемся по швам, с отрывающимся рукавом, пучками заячьего меха лезущем тулупчике, с босыми ногами под коркой чёрной грязи, в оборванных лохмотьях вместо портков, с проглядывающим сквозь рваньё гайтаном на груди. Выглядел странник совсем обычно, как простой деревенский парень, даже видный — высокий, широкоплечий, русоволосый, — только синюшно-бледен он был и глядел на Глафиру странно, прямым потухшим взглядом, без выражения, но с каким-то внутренним пугающим значением.
Глафира вздрогнула от этого взгляда. Она не понимала, зачем её сюда позвали, зачем выставили напоказ перед этим странником. Ей стало жутко: захотелось закричать, броситься вон, — но Марья цепко ухватила мясистыми руками девушку сзади за плечи, шепнула в ухо: «Не бойся, потом спасибо скажешь». Мать-игуменья оценивающе оглядывала на перепуганную Глафиру, а затем обернулась к страннику, искривив в подобии усмешки дыру рта в розовых шрамовых стяжках:
— Ну, давай, приступай.
— Чего приступать-то? — хрипло откликнулся странник, не сводя с Глафиры взгляда.
— Чего-чего? — насмешливо передразнила его игуменья. — Или не знаешь, чего с девками делают?
— Так ты хоть нож дай, — обернулся к ней странник. — Не зубами ж мне её грызть.
От этих слов Глафира забилась в руках Марьи, приподняла враз налившиеся неподъёмной тяжестью руки, боясь даже закрыться ими, закричала: Марья тут же перехватила её одной рукой поверх ключиц, второй плотно и душно залепила рот.
— Фу ты, какие мы нежные, — со странной игривой ласковостью ответила мать-игуменья страннику и достала из сундука богато изукрашенный нож. Глаша почувствовала, что ноги её не держат; по бёдрам горячо потекла моча; весь качающийся, плывущий мир собрался на ужасной фигуре оборванного странника, с ножом в руке подходящего к Глафире: в нос ей ударил земляной, трупный, каловый смрад. Игуменья схватила руку девушки, вытянула её, завернула рукав; Глафира рвалась, выла в шершавую ладонь Марьи, а та, крепко и жарко прижимая бьющуюся инокиню к себе, только повторяла: «Ничего, ничего, никто тебя не убьёт».
— Не бойся, Глашенька, не бойся, — вторила ей мать-игуменья, — мы сейчас только немного возьмём… давай, — обернулась она на стоящего рядом Игната, и тот коротко, без замаха всадил нож девушке в живот.
— Ты чего, дурень?! — ошеломлённо закричала на Игната игуменья, видя, как тот раз за разом всаживает нож охающей, бьющейся в руках ключницы девушке в живот, под рёбра. — Ты черницу мне зарезал!
Но Игнат не слышал: он жадно распарывал ножом чёрное одеяние на окровавленном животе инокини, потом, бросив нож, обхватил руками за бока, припал губами к ране, принялся жадно слизывать кровь с живота девушки. Марья отпустила Глафиру: та, надрывно крича от боли, повалилась на пол вместе с Игнатом, который сосал кровь из раны как младенец молоко.
— Дурак! — закричала игуменья. — Ничего не умеешь! Вот как надо! — она присела рядом, подобрала нож и, умело перехватив вопящую, бестолково дёргающуюся Глашу за остренький подбородок, принялась деловито вспарывать ей глотку. Девушка захрипела, засвистела перерезанным горлом, хлынула кровь: к ране сразу припала безгубым ртом игуменья. Увидев, как обильно льёт кровь из горла, метнулся туда и Игнат, отталкивая игуменью, стремясь сам припасть к ране. Глафира сипела, булькала кровью, дёргалась в агонии.
— Ступай, ступай! — зло подняла голову игуменья на столбом застывшую Марью. Ключница безмолвно вышла, закрыла за собой дверь. Игнат, стоя на четвереньках у живой ещё инокини, глотал толчками льющуюся из перерезанных сосудов кровь.
— Какой ты… дикий, — со странной нежностью сказала игуменья. — Дай хоть в блюдечко сцежу, — но, вместо того, чтобы доставать блюдечко, принялась стаскивать через голову чёрное монашеское одеяние, открывая тёмно-бурую, будто колбасную, сухую корку кожи с пожелтелыми пятнами, угольно-чёрными язвами.
— Э, ты чего? — стоя на четвереньках, обернулся на неё Игнат, утирая тыльной стороной ладони рот.
— Чего-чего? — зло передразнила его игуменья. — Ты нос-то не вороти, издохлец! Был бы у меня нос, я б тоже от тебя воротила! Сам тоже, чай, не красавец: вон синий какой! Хорошо хоть, на вонь твою мне всё равно: одну гарь чувствую. Ничё, — смягчившись, сказала она, — там внизу обожжено немного, ничё.
— Э, ты куда! — с ужасом выкрикнул Игнат, отползая по полу прочь от Глафиры, которая всё втягивала воздух конвульсивными сиплыми вдохами. — Ты чего! А ну слезь! А ну!…
—
— Это что у тебя, первый раз был? — спросила игуменья, прижимаясь к Игнату горячим, шершавым как древесная кора, шелушистым боком. Они лежали на кровати в игуменских покоях: труп Глафиры всё так же лежал посреди горницы у двери.
— Не, — мотнул головой Игнат. — Я до этого ещё воеводу в Ветлуге убил. По темечку кочергой тюкнул, — Игнат глупо хихикнул от переполняющей, приливами ходящей по телу горячей радости, бодрой ясности мысли, трепещущей силы в мышцах.
— А, так это ты был? — заинтересованно поднялась на локте игуменья. — Я думала, это Иннокентий его кончил.
— Ты его знаешь, что ли? — спросил Игнат.
— Кто ж его не знает… — откинулась на перину игуменья, потягиваясь: — Старец наш человек по округе известный…
Игнат смотрел на бумажно-белое тело Глафиры, с раскрытой, как у мясной туши, глоткой, с задранным до груди рваным подолом, бледными ляжками, сукровистыми ранами на плоском животе.
— Я ещё пойду, — показал он на труп и взял с тумбы нож на медном блюдце, — подкреплюсь. Где ещё можно разрезать, чтобы нацедить?
— В паху попробуй, — не поднимаясь, пусто глядя в потолок, ответила игуменья.
— Ага, — сказал Игнат, поднялся с кровати и голый пошёл к трупу, но остановился на полпути. — Ирина! Ирина!… — обернулся он на игуменью, — а как, вот что мы делаем, насчёт Бога?
— Бога нет, — безразлично, будто речь о гвоздях в лавке шла, ответила игуменья.
— Как нет?
— Вот так.
— А что есть?
— А ни черта, Игнашка, нет. Ни Бога, ни дьявола, ни чертей лысых, ничего, — игуменья не поднималась, неподвижно уставившись глазами в сукровистой запёкшейся корке на потолок. — Труп вон есть. Угощайся.
— Ага, — сказал Игнат, повернулся было к мёртвой Глафире, но снова обернулся: — Ирина! А тебе каково так, в Бога-то не веря, в скиту жить?
— А только так и надо, — лениво ответила игуменья. — Видишь, в каком достатке я тут живу? Делай, как я, тоже горя знать не будешь. Научить тебя?
— Ну, научи… — не оборачиваясь, ответил Игнат, уже присевший рядом с трупом.
— Плату потребую…
—
Через месяц, в хмурое, пепельно-серое июньское утро Игната провожали всей обителью: инокини выстроились у ворот чёрной кучкой, просили благословения. Игнат знал, что такое будет, и с готовностью играл роль: поднимал два скрещённые пальца, благословлял черниц, произносил слова, которым его научила мать Ирина. У ворот она его задержала.
— Ты ещё не расплатился, — глухо донёсся её голос из-под чёрного плата.
— Я думал, я уже достаточно отдал, — ответил Игнат.
— То было за угощение, а за учёбу плата ещё за тобой.
— Что же тебе ещё от меня нужно? — насупился Игнат.
— Не знаю, — сказала игуменья. — А что у тебя есть? Хочешь, отдай крест.
— Как же я буду без креста? — спросил Игнат. — Нет, креста я тебе не отдам. Вот это возьми, — и он протянул Ирине лестовку, подаренную Алёнкой.
— Девица сделала? — заинтересованно спросила игуменья, близоруко поднося лестовку к прорези в плате.
— Невеста была, — бесстрастно откликнулся Игнат.
— Оно и лучше, что отдашь, — заключила Ирина. — А теперь иди. А я тебя с этой штукой где хочешь разыскать сумею: вдруг понадобишься.
-
-
За красивую демонстрацию дополнения Стадо из WoD. Не любят, однако, в этой ветке старообрядцев. =)
-
-
До этого поста знал про голбец исключительно в смысле спуска в подполье и очень удивился при прочтении. ДМ познавательный.
Да и ветка крутая, что уж там.
-
Мрачня-ак. Но как хорошо написано-то!
-
Мамлеев бы оценил, да, Николай?)
— Бога нет, — безразлично, будто речь о гвоздях в лавке шла, ответила игуменья.
— Как нет?
— Вот так.
— А что есть?
— А ни черта, Игнашка, нет. Ни Бога, ни дьявола, ни чертей лысых, ничего, — игуменья не поднималась, неподвижно уставившись глазами в сукровистой запёкшейся корке на потолок. — Труп вон есть. Угощайся.
Это топчик, конечно).
|
20:20Романов:Забрав с собой ожидавших у входа Филимона и Степана Чмаровых, Романов отправился ходить по городу. Пошёл к северной лесной окраине, противоположному от пристани концу города (Вага протекала с юга), миновал каменное здание кооперативного банка, нарядный купеческий особнячок. По-северному высокие, большие полугородские, полукрестьянские дома, серые ограды, палисадники, скрипучие мостки над лужами — и взгляды, везде, везде взгляды: отворачивающееся лицо из-за дёрнувшейся занавески, безразличный с виду мужичок навстречу, который, спиной чуешь, остановился и смотрит тебе вслед, затихший разговор двух баб с коромыслами у колодца-журавля, увидевших приближение красноармейцев. — Не любят нас тут, командир, — хмуро заметил Филимон, поправляя винтовку на плече. А и в самом деле, — понимал Романов, — за что их тут любить? Учение Маркса говорит, что сознание определяется бытием, а идеологические взгляды человека — экономическими его интересами, а тут, знал Романов, интересы у всех были совсем небольшевистские. Он чуть-чуть знал об истории кооперации в Шенкурске: по этой части его просветил Иван Боговой. Действительно, выходило так, что в кооперации тут участвовал чуть ли не весь город. Как вообще началась эта история с кооперативами здесь, в Шенкурске? А вот как. Краткая история кооперативного движения в Шенкурске
Шенкурск испокон веку кормился тем, что производил смолу: собирается артель крестьян, валит сосновый лес, потом жжёт его в особых печах, где дерево тлеет, не горя, — смола выкипает, стекает вниз. Если поставить сверху печки змеевик с уловителем, из паров можно собирать по капле скипидар; из смолы можно выпаривать пек, канифоль. Работа тяжёлая, грязная: печь надо постоянно чистить от угля, не гася, — задохнуться легко, обжечься — почти неизбежно, до костей пропитаться угольной пылью, гарью, дымом — естественно для смолокура. А хуже всего — смолу так просто не продашь: англичане с удовольствием её покупают, но в Архангельске, а до Шенкурска не добираются. До Шенкурска добираются скупщики — ушлые ребята, покупающие здесь бочку смолы за два рубля и толкающие её в Архангельске англичанам за пять. И ничего не попишешь: не хочешь продавать по нищенской цене — жри свою смолу сам. К концу прошлого века скупщики смолы, пека, скипидара и канифоли стали настоящими хозяевами Шенкурска. Весь город был у них в долгах, доходило до унизительного — целые семьи начинали говорить по себя: «мы Шичёвские», имея в виду, что постоянно продают смолу скупщику Шичёву, — будто проснулась в людях память о крепостных временах; вот только не было здесь никогда крепостных, и тем унизительней было это скрытое порабощение.
В те годы, перед первой революцией, и появилось в Шенкурске кооперативное движение. Идея была проста — не давать скупщикам снимать сливки с тяжёлого смолокурного труда, взять дело в свои руки. Организовали Союз смолокуренных артелей, долго уговаривали артели присоединяться, потом набирали по копейке, по рублю кассу, мучительно добивались кредита в Крестьянском банке, наконец, добились — и купили старый, списанный с Волги пароход, а к нему баржу. Пароход чуть не разваливался, машина еле пыхтела, но, чтобы спускаться вниз по течению, большой мощности не требовалось — и кооператоры в первый раз доставили смолу в Архангельск, перегрузили там на зафрахтованный пароход и увезли продавать в Англию. Кредит отбился за несколько рейсов, в кассу кооператива потекла прибыль. Скупщики пытались воевать с кооператорами: подкупали архангельских чиновников, чтобы те браковали товар на таможне, спаивали, запугивали артельщиков — всё без толку: как только угрюмые прокопчёные сосновым дымом шенкуряне увидели, что члены кооператива получают по пять рублей за бочку смолы, а не по два, как остальные, в кооператив потянулись все. Кооператив начал процветать — флот вырос до четырёх пароходов и шестнадцати баржей, вокруг Шенкурска открывались лесопильные заводы, в самом городе — кооперативный клуб, коммерческое училище, отделение Московского народного банка (тоже кооперативного), типография, выпускавшая газетку и ежемесячный журнал; даже пекарню открыли кооператоры, чтобы взять в руки ещё и снабжение города хлебом. В каком-нибудь 1913 году могло показаться — если Шенкурский уезд странным образом отделится от России и начнёт жить отдельным государством, не нужно будет придумывать никаких новых органов власти, не нужно будет вообще ничего менять, только упразднить ненужную управу, а городовых заменить какой-нибудь кооперативной полицией.
И вот, казалось бы, что плохого в том, что трудовой народ взял свою судьбу в свои руки, ведь ни Маркс, ни Плеханов с Лениным ничего не говорили против кооперации? Однако, проблема была в том, что в 1917 г. кооператоры сразу пошли по неверному пути — сначала поддерживали Керенского, потом учредиловку, потом отказывались признавать Октябрь, Брестский мир, съезды советов — в общем, прочно заняли правоэсеровскую платформу. Немногие здесь были за Советскую власть, как братья Боговые, кто недавно вернулся с фронта и не успел ещё пропитаться этим канифольно-кооперативным душком. На одном из уездных съездов уже в этом году сторонники советской власти взяли верх, постановили арестовать Малахова, главного в уезде кооператора, местного скипидарного царя, и даже арестовали — но горожане заставили милицию открыть двери тюрьмы: Малахов продолжал руководить Союзом смолокуренных артелей из тюремной камеры, принимая каждый день вереницу посетителей, а потом, — даже не сбежал, а так, ушёл, как будто из кабинета домой. За ним отправили погоню, арестовали в какой-то деревне, — но на следующий же день его отбили местные, спрятали у себя. Так он и пропал: сейчас где-то скрывался, в уезде его уже не было.
А вот и тюрьма, — понял Романов, отвлекаясь от мыслей. Он уже дошёл до края города: в ста шагах чернел медный в закатном солнце сосновый лес, на узкой полоске изумрудного луга пасся десяток тупых, медленных, с бессмысленной грустью в глазах смотрящих куда-то коров, девочка-пастушка в платочке, присев на корточки, играла соломинкой с прячущимся в траве котёнком. Здание полицейской управы и тюрьмы при ней стояло тут, маленькое, как и все остальные учреждения в Шенкурске: пара комнат управы, две камеры за решётками от потолка до пола. Окна были выбиты, двери сорваны — это во время июльского мятежа тут гуляли, понял Романов. Заглянул внутрь — раздрай: опрокинутая мебель, сорванные лоскутами обои, выпотрошенный сейф, жёлтые листки по полу, кучка кала в углу. Даже если здесь и удастся найти каких-нибудь молодых парней, готовых пойти против кооператоров, записаться в советскую милицию, где им работать-то? Здесь всё нужно вычищать, переклеивать обои, вставлять стёкла, менять мебель. Или уж к себе на пароход их брать? — Ленин немецкая пастилка! — донёсся до Романова звонкий мальчишеский голос откуда-то совсем близко. Романов выглянул в окно и увидел, как к ближайшему забору по заросшему лопухами и лебедой двору со всех ног удирают два паренька в белых рубашках навыпуск — лет по двенадцать обоим. Наверное, хотел крикнуть «подстилка», но больно разволновался, получилось нелепо и смешно. Кто-то надоумил так кричать? Может, и так, а скорее — сам решил погеройствовать: теперь будет хвалиться перед друзьями, как задал жару этим большевистским гадам. Чмаровы оглянулись на Романова, мол, что делать-то, командир? А что тут поделаешь: мальчишки уже перемахнули через забор, да и не гоняться же красноармейцам за каждым сопляком по огородам? Спасибо, что не пальнули из-за угла: могли и пальнуть. Двинулись назад. По пути назад встретили один из красноармейских патрулей: пара бойцов в выцветших, жёлтых на спинах гимнастёрках вразвалочку шла по улице, лузгая семечки. Осведомились — всё нормально, происшествий не было? Говорят — не было, всё тихо. Очень тихо здесь вообще было, весь город будто замер в предгрозовом ожидании чего-то: да понятно, в общем, чего. — Нас спрашивают тут всё, — сплюнув лузгу и обдав Романова подсолнечниковым духом, спросил Митька Крушинин, красноармеец из Холмогор, — Березник взят или нет? Весь город уж гутарит, что взят и что белые вверх по Ваге сюда идут, а честь по чести сообщения на этот счёт ещё не было. Что говорить-то им, командир? К пароходу вернулись уже к закату: в спускающихся сизых сумерках краснели, как угольки, высокие облака над сизо-сиреневой Вагой, сыро шелестела чёрная листва, холодно темнели поля, непроглядная гре6ёнка леса на том берегу. На дебаркадере зажгли большой белый ацетиленовый фонарь, на пароходе тепло светились окна. Спускаясь по крутому съезду к пристани, Романов увидел женщину средних лет в цветастой ситцевой юбке, скромной блузке, по виду провинциальную мещанку. Та, похоже, давно уже поджидала Романова, сидя на сухом бревне у реки, а, завидев, поднялась и решительно направилась к нему. — Товарищ Романов! — часто заголосила она, не давая тому вставить ни слова, с хрустом следуя за ним к дебаркадеру по песку. — Товарищ Романов, это что же такое делается? Ваши люди у меня гуся стащили! Как, извините меня, последние воры, залезли во двор и стащили гуся — я их запомнила, я лица знаю, я показать могу! Вы, товарищ Романов, как своих солдат держите?! Вы какая вообще власть, советская или бандитская? В каком указе Ленина сказано, что красноармейцам можно гусей воровать? У вас тут на пароходе триста человек, это ж вы наш город за месяц объедите, если так будет! У Тихоновых уже курицу украли, теперь у нас гуся, а скоро что, на улице грабить будете? Нет, уж вы скажите мне, как это понимать такие новые порядки! Идущие вслед за Романовым красноармейцы тихо посмеивались, глядя, как наседает на командира разъярённая женщина. А Романов понимал — да, скорее всего, баба не врёт: уже не первый раз он чуял запах курятины или иной птицы из столовой, где обедали бойцы, — конечно, они таскали где курицу, где гуся из огорода. И что делать? Шерстить бойцов за такую мелочь? Но ведь когда десять раз подряд такое происходит — это уже не мелочь? Но стоит ли настраивать бойцов против себя? Они ведь и без того готовы начать волноваться, митинговать с требованиями убегать из Шенкурска? Молчаливо позволить им кормиться мелкими кражами домашней птицы? Ведёт к разложению, да и любви горожан не добавит. Вот оно, бремя власти. Романов поднялся на пароход, прошёл в ярко, уютно освещённый электричеством салон и увидел тут два знакомых лица и одно незнакомое: чекисты Бессонов и Заноза допрашивали толстощёкого, густобрового и полноватого мужичка в ветхой рабочей одежде, заляпанной чем-то чёрным — Романов не сразу понял, что это типографская краска. — Ну что ж, подытожим, так сказать, услышанное, гражданин Павсюков, — сидящий за большим овальным столом Заноза обращался к задержанному, в растерянности стоящему посреди помещения. Бессонов сидел рядом, но пока в допрос не вмешивался. — Значит, вы утверждаете, что связи с антисоветской бандой Ракитина поддерживают управляющий банком Семёнов, директор училища Первушин, директор кооперативной лесопилки Игнатьев… — И его помощник Тюхляченков! — быстро добавил Павсюков. — Так, ещё и помощник Тюхля…ченков, — дописал Заноза карандашом на листе. Рядом с ним, равно как и с Бессоновым, стоял стакан крепко, до черноты заваренного чая. Дописав, Заноза сделал шумный глоток. — И ещё вы сообщили нам список семей, члены которых ушли вместе с ракитинской бандой в лес. Это было оченно полезно, благодарю вас, гражданин Павсюков. Ну что, сейчас мы с вами вернёмся в камеру, где вы будете иметь возможность отдохнуть, — Заноза поднялся из-за стола. — А что со мной будет? — бледными губами пролепетал Павсюков. — Вы об этом не волнуйтесь, гражданин Павсюков, мы со всем как есть разберёмся, как полагается. Прошу, — Заноза показал Павсюкову на дверь. В дверях они столкнулись с Мартыновым. — О, товарищ Романов, — поприветствовал молодой долговязый чекист краскома. — Мы вас тут уже заждались. Мне вам тоже есть что сказать, но сперва я доложусь о своём поручении. Значит, так, Андрей, — обратился он к Бессонову, — я побегал тут по соседним хатам, поузнавал: никакой больнички в городе нет, тут до революции даже земства не было, чтобы хоть что-то организовать. Есть аптека, есть пара врачей с практикой и вроде, как говорят, в монастыре что-то вроде амбулатории. Но я очень не уверен, что нашего субчика стоит отправлять в монастырь к этим богомолицам. Я с бойцами поговорил, там они его ногу посмотрели, забинтовали — говорят, жить будет. И вот что про бойцов я вам сказать хотел, товарищ Романов, — Мартынов обернулся к красноармейцу. — Я сейчас в коридоре столкнулся с одним вашим человеком и могу со всей уверенностью утверждать: ваш боец под кокаином. Я в Москве видел много кокаинистов, я этот взгляд хорошо знаю. Бессонов знал, что Глебушка стал трезвенником именно после того, как в бытность московским студентом чуть не отдал концы в кокаиновой эпидемии, как раз перед революцией захлестнувшей крупные города. Глебушка сам рассказывал, что ещё во время прошлогодних октябрьских боёв он, весь занюханный, шлялся по бульварам: вокруг трещала пальба, гудели снаряды, которыми с Воробьёвых гор лупили по Кремлю, солдаты ходили в атаки на юнкеров; визжа шинами и настильно метя очередями, носились по пустым улицам пулемётные броневики, а студентик Глебушка в пальтеце, шатаясь от ветра, бродил туда-сюда, высматривая знакомых из своих наркоманских кругов, у которых можно было бы разжиться понюшкой. Как он с такой историей попал в ЧК — Бессонов точно не знал: говорили, что вроде как ему предложили сдать кого-то из своих марафетчиков, потом кого-то расстрелять, потом ему это понравилось, и он сам попросился сотрудничать — а, может, и не так всё это было: Глебушка не рассказывал. Во всяком случае, что Глебушка мог легко на взгляд определить кокаиниста — в этом Бессонов не сомневался.
-
Мне прямо нравятся такие вот длинные посты с описаниями жизни Шенкурска.
Ну и это:
— Ленин немецкая пастилка!Беспримерный героизм!
-
и могу со всей уверенностью утверждать: ваш боец под кокаином. весь занюханный, шлялся по бульварамНу невозможно удержаться! ссылка
|
Когда Анчар упомянул про взятие Николаевского вокзала, казанцы переглянулись с таким видом, будто Анчар предлагал им брать вслед за ним сразу и Царское село.
— Николаевский вокзал! — фыркнул Гренадёр. — Легко ты сказал, «надо брать», а как его возьмёшь-то? Там площадь пустая, чуть высунешься — из пулемёта лупят.
— И с башни тоже, — зло, будто Анчар был в этом виноват, добавил Филипп.
— Ну, на башне-то мы их из винтовочек приструнили маненечко, — заметил Тимошка, низенький и плотный, как мячик, рабочий в кожанке, — а что с пулемётом делать, не знаем. Вон, матрос говорит, артиллерия нужна.
— По уму так, — хмуро подтвердил Мартын, не вмешивавшийся в разговор, стоящий поодаль с папиросой, привалившись спиной с дощатой стенке теплушки. — Только чего про это базарить, всё равно ни хрена нет, одни винтовки.
— И за то скажите спасибо, у дружинников по городу одни револьверы, — заметил Балакин, перехватывая бомбу поудобнее.
Анчар сказал про то, что нужно разобраться, какой путь куда идёт, и Вася взглянул на подпольщика с видом знатока. Видно было, что ему, как и дяде Сажину, тоже хочется показать, как хорошо он разбирается во всяких железнодорожных вещах.
— Чего тут знать-то? — насмешливо начал он. — Вот эти пути туда идут, на эту, что там у них? Локомотивное депо? Ну вот, туда. Что в той стороне — на товарную станцию, а откуда мы пришли, первая пара — на передаточную, а вторая… а… — призадумался он, — там же дальше стрелка на товарную должна быть.
— Да на пассажирскую стрелка стоит, — скрипуче сказал дядя Сажин. — Они же на дрезине куда, по-твоему ездят? Что они, каждый раз стрелку переводят, что ли?
— Этот ваш комитетчик правильно спрашивает, — подал голос Никанор, — сколько там человек на дрезине вообще?
— Сколько там их, Вестя? — обернулся Вася к здоровяку. Тот нахмурился, на тупом щекастом лице отразилось напряжённое раздумье.
— Четверо? — наконец, ответил он скорее вопросительно. — Или пятеро? Кажись, четверо.
— Где-то так, — тоже неуверенно сказал дядя Сажин. — Я паровозом управлял, как-то не вглядывался. Но лом там вкапывать незачем: можно вон ту энтевешку, — показан он на двуосный товарный вагон в хвосте состава, — на путь вытолкать, уж точно никто не проедет.
— Издалека заметят и подъезжать не станут, — сказал Никанор.
— Да пускай не подъезжают, — вмешался Мартын. — Залечь подальше, саженей в пятидесяти от вагона.
— Залубеем ждать, — заметил мёрзнущий Зефиров, — тем более, что неизвестно сколько придётся.
— Вагон нам в любом случае придётся её куда-то оттаскивать, если мы цистерну будем толкать, — сказал дядя Сажин.
— Я вспомнил, я вспомнил! — вспыхнул вдруг Вестик. — Шестеро их там было, точно шестеро! Один за рычагами, ещё один рядом с ним и трое сзади!
-
Вестик чудо как хорош! Да и сама ситуация весьма интригующая.
|
Октябрь 1698 г.
Москва
Веха 7
— Смурно мне, Франц, — тяжело сказал Пётр, откидываясь на тряскую мягкую спинку кареты, слабым движением замызганных чернилами пальцев оттянул колыхающуюся кисейную занавеску. За неровным, тянущим изображение полосками стеклом ползла ненавистная Москва: грязные улицы, заборы, торжище в лужах, мелкий осенний дождь. Петра мутило: с утра, пытаясь забыться от этого всего, он выпил у Меншикова за завтраком бутылку мадеры, и сейчас вино тяжело колыхалось в животе, подступало к горлу изжогой, наливало мысли и члены чугунной тяжестью. Было тряско, тошно, душно, всё чесалось. То ли хотелось курить, то ли не хотелось, — непонятно. Пётр перевёл мрачный взгляд на Лефорта в напудренном алонже, изукрашенном камзоле, с тростью между ног. Кудрявые локоны парика маятником ходили влево-вправо от перевалистой тряски кареты по разбитой мостовой, и на это почему-то было тошней всего глядеть. Пётр прикрыл глаза, чтобы не видеть этого блохастого бархатного полумрака, этого серого пасмурного света за окошком. Сглотнул горькую слюну. Ещё и стрельцы эти всё лезли, лезли в голову — Пётр не мог перестать о них думать, и Лефорт наверняка думал о том, что Пётр о них думает. Конечно, ему легко сейчас: сам головы не рубил, не знает этого ощущения, когда удар не удался, топор хрустко застрял в позвонке, казнимый кричит, как ты не знал, что люди умеют кричать, а ты упираешься бофортом в плаху, чтобы выдернуть топор… Петра передёрнуло.
— Что, что зыришь? — с усталым раздражением буркнул Пётр на Лефорта. — Думкопф.
Лефорт ничего не ответил: он знал — сейчас Петру Алексеевичу лучше ничего не говорить. На царя опять напала меланхолия, — понимал Лефорт, — такое с ним бывало часто, и неизвестно ещё, какое его состояние было хуже — когда он, как бешеный, носился туда-сюда, сам принимаясь за десять дел и от всех требуя того же, или когда, как сейчас, сидел днями в чёрной, глухой тоске. Нет, пожалуй, с Петром в меланхолии было ещё тяжелей, чем в ажитации, — подумал Лефорт, — сидишь с ним даже не как с покойником, а как с живым покойником.
— Гляди, народ, карета царская едет! — выделился из шума толпы подвизгивающий, блажащий голос юродивого. — Карета едет, а в ней царь, царь едет кровь пить! Мало ему было, ещё надобно!
Лефорт с готовностью передвинулся по кожаному сиденью, распахнул дверцу на ходу (в карету сразу ударило свежим запахом дождя и грязи), обернулся было к ехавшему рядом преображенцу, но Пётр сильно дёрнул его за камзол:
— Зитцен бляйбен, Франц! — мрачно сказал Пётр. — Верно он говорит.
Карета с кортежем преображенцев, валко меся грязь, удалялась, а юродивый продолжал верещать. Народ, собравшийся было защищать святого человека, расступался, и молодой юрод, уже не стеснённый, широко махал руками, вышагивал в круге толпы, заходясь в экстатическом припадке:
— А царь ли в карете той, царь ли в той карете? Верно говорю, подменили царя в Немечине! Был у нас царь Пётр, а заморили его немцы с фрягами, подослали нам вместо него чудище-кровососа! Что, народ, почему царь-то ваш в карете за шторками ездит, почему показаться вам боится? Потому что боится, что клыки волчьи вы его узрите! Клыков волчьих у него рот полон! — юродивый запрокинул голову, раскинул руки, медленно закружился. — Клыки волчьи, когти кошачьи, тело жабье, три ноги козлиные, а рук четыре, и на каждой лапа петушиная, и в каждой лапе по ножу — и три рта больших! Одним-то ртом он зелье из трубки курит, а другим-то ртом Бога матом кроет! А третьим ртом кровь глотает, русскую кровь пьёт, а немцы ему-то мальчиков беленьких подносят, горлышко режут да в чашечку кофийную цедят, а он пьёт, приговаривает — ах, сладка мне, бомбардиру Питеру, кровь русская, всю до дна выпью, языком гадючьим слижу!
Юрод остановился перевести дух, грязной ладонью смазал капли мелкого осеннего дождя по чумазому лицу. Мокрые серые лохмотья висели на нём как шаманское одеяние с ленточками, почти не скрывая бледной, синюшной кожи. Как должно быть холодно Игнатке Ветлужскому — думали стекающиеся поглазеть на зрелище мужики, бабы, дети: все знали, что Игнатка, почитаемый на Торгу юрод, отказывается надевать тёплое даже в трескучие морозы, греясь лишь молитвой, в которой проводит, бодрствуя на коленях, всю ночь. За это Игнатку особо уважали.
— Какие три рта, ты чего мелешь? — крикнули из толпы. — Все здесь царя своими глазами видели!
— Видели?! — взъерепенился, вскинулся Игнат, безумно вращая глазами, выискивая в толпе кричащего: — А как перекидывается он, тоже видели? Брюс-чернокнижник ему зелья даёт, он как зелье то выпьет, так в кого хочешь и перекинется — хочешь, в ворона, хочешь в воробья, хочешь в змею, в крысу, а более всего, знаете, в кого любит перекидываться он? В чёрного кота! В кота ненасытного, похотливого, усатого! А дружки его нечестивые, которых он с собой с Немеччины привёз? Под стать ему — блядуны все, пьяницы, табашники, пентюхи, шлынды, содомиты! Все содомиты, как один, тьфу! Брат с сестрой, отец с дочерью, мужик с мужиком, баба с бабой — так и живут, засранцы, кровососы! — Игнат, стоя в глубокой бурой луже, с ненавистью принялся топать босыми ногами, поднимая веер грязных брызг. — И вас так жить заставить хотят, и заставят, заставят, попомните мои слова! Что думаешь, — Игнат простёр грязную руку в лохмотьях к одному засмеявшемуся было мужику в отороченном лисьим мехом колпаке, — не заставят тебя? Тебя уже на большее блядство склонили, уже заставили Антихриста царём признать! Признал, признал, нос не вороти! А отчего так? А оттого, что сами вы все блядуны, вероотступники, черви! Греки вам щепоть навязали, вы согласились, теперь немцы вам на шею сели, — вы согласились! Не народ, скотина! Быдло, дрянь, грязь, мрази! Мрази! — изгибаясь, вытягивая шею, тыча пальцем, надрывно гаркал Игнатка на оцепеневший народ. Он знал, что этих слов от него тоже ждут, что эти слова никого не отвратят, а, наоборот, заставят больше ценить его, святого человека, обличителя мирских пороков.
У Игната вообще сегодня легко выходило — вдохновение бурлило в жилах, слова прыгали в голову сами собой, кружения, подвывания, жесты выходили как надо: то плавные, игриво-мягкие, то напористо-резкие. Внимание толпы было намертво приковано к пляшущему, прыгающему, катающемуся в липкой осенней грязи юроду. Игнат знал, отчего у него так ловко сегодня получается — вчера он у Рогожской слободы зарезал припасённым в укромном месте ножичком мальчика-бродяжку. Этого угощения, — понимал Игнат, — хватит ему ещё на неделю, может, месяц: потом начнёт опять прибывать безразличие, тупость мысли, охладение ко всему — а ему не очень нравилось быть холодным ко всему: куда интересней было, вот как сейчас, купаться в людском внимании, забавляться этой игрой.
Игнат не видел большого смысла в этой игре, но он вообще не видел большого смысла ни в чём: чем больше проходило лет со времён морильни и Черноярского скита, тем больше Игнат убеждался, что Ирина была права: нет ни бога, ни дьявола, ни награды, ни воздаяния, ничего, кроме меняющихся, всегда очень глупых лиц вокруг. Люди вокруг были дураками, во что-то верили, что-то загадывали на будущее: Игнат — нет. Он уже понял, что не стареет, что будет вечно жить в бессмысленной веренице меняющихся лиц и не очень понимал, чем ему заниматься на этой бесконечной дороге. Можно было, конечно, сесть в лесу под деревце и просидеть так лет пятьсот в ледяном оцепенении, как в ту первую зиму, но Игнату нравилось горячее ощущение насыщения кровью: стремительная быстрота мысли, нетерпеливо дрожащие мышцы, стеклянно-ясное понимание, что и как нужно делать — всё это было очень приятно, и Игнат решил посвятить вечность погоне за этим наслаждением. Любопытно, — думал он, — а старец Иннокентий поэтому сажал людей в морильни и устраивал гари? Чем дальше, тем больше Игнат приходил к выводу — да, именно поэтому: старец занимался этим без всякой важной цели, без великого замысла, а так — из удовольствия. Ещё пятнадцать лет назад Игнат бы возмутился и разозлился, узнав подобное — он думал, что в его заточении в морильне был какой-то смысл, что это было как-то связано с его братом, подавшимся в никонианство, — но нет, старец решил его уморить в погребе шутки ради. Теперь Игнат старца вполне понимал.
-
Отлично обыграл миф о подмене царя во время Великого Посольства! Ну и плюс чернокнижник Брюс, стрелецкие казни и вообще весь городской фольклор Петровской эпохи)
Хотя рановато апатия наступила у Игната, рановато) Но наверное ты готовишь ему большой катарсис.
-
-
Просто удивительно, насколько это круто.
-
Гадко, но метафорично метко.
|
— А чего, Дубасов-то где сидит? — А кто восстанием руководит? — Что с Советом рабочих депутатов? — Какой план вообще у всех? — и иные подобные вопросы разом посыпались на Анчара и остальных пришедших с ним. Минут пять только и пришлось отвечать, знакомить с обстановкой совсем, похоже, ничего не знавших о ходе восстания казанцев. Наконец, вопросы у тех иссякли. — Да… а мы-то тут вот вышли пути портить, — наконец, сказал Никанор, рабочий в шинели, и показал на три объёмистые холщовые сумки на плечах своих товарищей, а затем на здание локомотивного депо: — Вон там взялись было гайки скручивать, да тут-то нас солдаты и посекли: еле ноги унесли. — И то не все, — хмуро добавил Гренадёр. — Вот сейчас решили подале отойти, чтобы тут хоть что-то как-то сделать. — Тут вообще-то тоже дрезина с солдатами ездит, — заметил дядя Сажин. — Где ездит? — не поняли казанцы. — Тут, по линии, туда-сюда, — показал дядя Сажин рукой. — Вы видели? — спросили у него. — Не, ещё не видели. Но говорят, там солдаты на ней ездят. — А я видел, — встрял Вестик, — ездят, вот крест, — ездят! — В общем, надо осторожней быть, — подытожил Вася, доставая пачку «Зефира». Он протянул папиросы казанцам: — Угощайтесь, товарищи. Да, бери, бери, и ты бери на здоровье… оп, братишка, а эти две я себе оставляю, не серчай, — виндавец вытряхнул две оставшиеся папиросы из пачки, сунул одну в рот, а другую за ухо, полез за спичками. — А, студент, не досталось тебе твоих любимых папиросок? — обернулся он к Зефирову, который с бомбой в руках тоже было потянулся за угощением. — Да у меня и свои есть, — независимо сказал Зефиров и поудобней перехватил снаряд. — Товарищи, я в третий раз попробую сказать, может, меня хоть сейчас услышат, — воспользовавшись тем, что беседа приутихла, подал голос казанец Филипп — тощий рабочий в драповом пальто и широкой кепке, с длинным, обветренным лицом со впалыми щеками. — Там дальше стоит цистерна. — Что за цистерна? — обернулся к товарищу Гренадёр. — Что за цистерна, я не знаю, но на ней написано «Керосин», так что подозреваю, что в ней… уж никак не молоко! — Может, порожняя? — спросил кто-то. — Нет, — уверенно ответил Филипп, — я постукал: полная. Пошли, покажу. Все двинулись по проходу между двумя бурыми стенами составов, усыпанному чёрными кусками шлака, покрытому мутным ледком, оставшегося от пара из-под брюха проходивших тут паровозов. Белая двуосная цистерна была совсем рядом — Анчар и Гера видели её ещё от будочки. Цистерна стояла почти в хвосте длинного, головой уходящего к депо состава, — от хвоста её отделяли лишь два вагона-теплушки. Гренадёр щёлкнул рычажком фонарика, посветил на выпуклый металлический бок: в ярком пятне высветился длинный номер, «Бр. Нобель», «НЖД» под двухглавым орлом и, главное, надпись: «Керосинъ I сортъ». Чибисов с интересом постучал по боку цистерны: металл глухо отозвался. — Да, керосин, — уважительно заметил дядя Сажин, по-хозяйски оглядывая состав, будто собирался сейчас цеплять его к своему паровозу. — Только вот что нам с ним делать-то? — Можем поджечь, — высказал вертящееся у всех на уме молодой казанец Даня, кутающийся в шаль. — Ну подожжём, и чего? — выпустив дым через нос, возразил Вася. — Какой с того прок революции? — Хоть погреемся, — стуча зубами, заметил Зефиров. — Возьми-ка бомбу, а? — обернулся он к Балакину, — меня чего-то опять трясёт, того и гляди выроню. Балакин молча кивнул, принял на руки жестяной цилиндр. Отдав бомбу, студент тут же принялся махать руками, как гимнаст, мелко приплясывать, прыгать на месте, потом полез за папиросами. — А если… — задумался Гренадёр, выключив фонарик, — состав растаскать, эту цистерну, — начал он показывать рукой, — вот так к стрелке вывести, перевести на главный ход, потом к вокзалу оттолкать… — Там солдаты, додик, — заметил кто-то из товарищей. — А ну как мы, — предложил дядя Сажин, — дрезину остановим, всех перестреляем, потом ей как тягачом цистерну туда по главному ходу пустим? — Ты чего говоришь такое, Виндавка? — насмешливо обернулся к дяде Сажину Никанор. — Дрезиной собрался полную цистерну толкать? — Во-первых, там не дрезина, а мотодрезина, — спокойно ответил виндавец. — Ты ж говорил, дрезина? — Мотодрезина, — настойчиво повторил дядя Сажин. — Мото, мото, — усердно закивал головой Вестик. — Я, я видел! Мотодрезина с дизелем! На двадцать сил! — Пускай и двадцать, — стоял на своём Никанор, — ты ей всё равно полную цистерну не стронешь. — Ты, казанец, из мастерских ведь? — с тихой насмешкой принялся объяснять пожилой дядя Сажин. — Что, слесарь? Ну вот то-то же, а я сам как есть главный машинист, без малого тридцать лет на чугунке угольной пылью дышу, так что слушай, что дядя Сажин говорит, и запоминай: когда-нибудь и сам паровозы будешь водить, даст Бог. Вагоны сам не растаскивал? Не доводилось? А вот мне-то в твои годы ой как довелось составы формировать без паровоза-то! Да была б у нас в те годы мотодрезина, мы б Богу каждый день хвалу возносили за такое счастье! Но ничё, формировали и без неё: возьмёмся за энтевешку, «Дубинушку» затянем, плечом наляжем, толкнём — и потащили. Версту, другую, ничё, — тащим, как те бурлаки с картинки! И так пока весь состав не сформируем. А ты говоришь — мотодрезина не сдвинет! Человек с аншпугом один сдвинуть любой вагон может, а тут уж нам вдесятером совсем легко будет. А как цистерна момент инерции приобретёт, её дальше толкать и мотодрезина сможет. Медлененько, да уж как-нибудь толкать будет. И вот, значится, пустить её по главному ходу да подгадать так, чтоб рванула уж у дебаркадера где-нибудь. — А сколько тут весу-то в этой дуре? — спросил Чибисов, задрав голову, разглядывавший круглобокую железную бочку. — Тонн восемь тары да тонн десять груза, — задумавшись, посчитал дядя Сажин. — Если до верху она залита. А залита она, — машинист с кряхтеньем опустился на корточки, заглянул под вагон, обернулся к Гренадёру, — ну-ка ты, обходчик, посвети-ка на рессоры. — Я не обходчик, фонарь не мой, — заявил Гренадёр, но, склонившись, включил фонарь. — Ага, — со знанием дела протянул дядя Сажин, оглядывая тяжёлые, молочным инеем покрытые железные петли рессор. — Залита почти до верху, так вижу. — Ну да, должно, так, — согласился присевший рядом Вася. — Стронем, — уверенно заявил дядя Сажин, поднимаясь. — С аншпугом, конечно, полегче было бы… У вас случаем аншпуга нет? — обратился он к казанцам с сумками. — Хреново, могли бы и взять, штука полезная. Но и так стронем.
-
Безумно живые неписи, великолепные подробности из жизни железнодорожников и безумный и прекрасный вырисовывающийся план!
|
Эта история начинается с воспоминания. 19:30 15.03.1918
Кубань,
станица Ново-ДмитриевскаяБелые показались из пурги как призраки, как лунатики, сомнамбулически бредущие в бледно-сером снежном мареве по голой слюдяной равнине, покрытой ржавой щетиной травы. Выбежавшие из хат красноармейцы спешно припадали на колено у плетня, пачками стреляли по корниловцам — но те, спотыкаясь, ломая корку наста, валясь в ледяную грязь, надвигались на позицию как чумное полчище леммингов. Мокрый ветер бил в щёки налитым водой снегом, хрустко трещали подмёрзшие лужи под ногами. Перебивая беспорядочную винтовочную пальбу, с окраины станицы монотонной трелью затараторил пулемёт, выбивая из снежно-грязного месива цепь фонтанчиков, валя офицеров одного за другим, а те продолжали переть. В этой адской ледяной метели они сражались не за святую Русь и не за Веру, Царя и Отечество, а за место у печки и чугунок мамалыги: если бы им не удалось выбить красных из станицы, их всех ждала смерть в голом вьюжном поле, поэтому они и не думали останавливаться под убийственным огнём. А когда из-за спин наступающих раздалась команда «Ура!», офицеры бросились на позицию красных не с этим бодрым кличем, а с остервенелым животным рёвом, от которого каменно ухнуло в груди: в этот момент Романов понял, что сейчас красные дрогнут. Дрогнули почти сразу: электрической волной пробежала эта дрожь по всей протянувшейся вдоль плетня цепи: по-заячьи, пригибаясь, рванул с места один, другой — Андрей палил из нагана в воздух, хватал бегущих красноармейцев за обшлага, но бегство нельзя было остановить, как не остановишь зонтиком лавину; а сзади уже, с треском валя плетень, набегали в штыковую жуткие фигуры в погонах на обледенелых, коркой застывших шинелях. Андрей отчётливо увидел заросшее неряшливой серебряной щетиной, с растрёпанными моржовыми усами лицо штабс-капитана, почувствовал густой табачный перегар, кисло-прелый запах шинельной шерсти и успел почему-то ещё подумать, что это благородие наверняка завшивело хуже, чем он сам в пятнадцатом году, — а в следующий миг офицер вогнал штык Андрею в грудь, пробив лёгкое. 16:20 08.08.1918
Шенкурск, пристань,
пароход «Шенкурск»Рана до сих пор тупо отзывалась при каждом вдохе, при подъёме по лестнице приходилось останавливаться передыхать — не хватало воздуха. Что хуже, часто ныло в области сердца, будто долго и мучительно водили по струне: доктор в Питере советовал принимать нитроглицерин, но он что-то не помогал. И, самое главное, всё это нужно было скрывать перед всеми. Это был странный негласный уговор между Андреем и товарищами: они все знали про его ранение, но уважали уездвоенкома Романова лишь пока тот делает вид, что никакого ранения нет. Уездвоенкомом Романов, строго говоря, стал лишь сегодня утром, на заседании съезда: комиссар губкома Павлин Виноградов, уезжая на Двину, оставил его в Шенкурске в должности исполняющего дела уездвоенкома, так как чрезвычайный уездный съезд советов, который должен был официально утвердить должности местного исполкома и, в том числе, военного комиссара, собрался лишь сегодня. Но это была формальность: съезд собрался послушный, готовый заклеймить кооператоров-смолокуров, эсеров и офицеров, в прошлом месяце поднявших народ в этом городке на восстание. По должностям тоже утвердили кого надо. Хотя бы здесь всё прошло гладко — не мог не отметить Романов, остановившись передохнуть у поленницы дров, сложенной на палубе речного грузопассажирского пароходика «Шенкурск», где квартировал он сам, его маленькое войско и экспедиция вологодской ЧК. Но этим хорошие новости и заканчивались: больше радоваться было нечему. Пароходик «Шенкурск», стоящий у деревянного дебаркадера на реке Вага, был единственным по-настоящему безопасным местом в этом чужом Романову городке. Весь лесной Шенкурск был пропитан контрреволюционным духом: в городе всем заправляли кооператоры, а всякому известно — где кооператоры, там рядом эсеры; вокруг города в непролазных лесах были раскиданы смолокурни, где из древесной смолы гнали пек и скипидар, а ещё на этих смолокурнях могла неделями укрываться любая банда, могли держать захваченного Георгия Иванова, бывшего председателя уездисполкома — хоть и левого эсера, но, кажется, нашего человека. Виноградов сумел уговорить восставших выдать большинство заложников, и те уехали пару дней назад на пароходе по Ваге, но Иванов оставался в руках бандитов, и надо было его как-то выручать. Но и это ещё не самое гадкое: хуже всего было то, что в Архангельске неделю назад высадились, чёрт бы их побрал, союзнички, прогнавшие местную советскую власть; сейчас союзники с их прихвостнями-белогвардейцами двигались вверх по Двине. Виноградов планировал собрать наличные силы и удержать врага у Березника: получится ли у него? Бойцы открыто говорили: не получится, а вместе с тем, пока не в открытую, но — Романов знал — подразумевали: надо драпать. Пребывание у власти напоминало жонглирование пятью кинжалами, которые нужно было все удерживать в воздухе: чтобы удержать в подчинении съезд, нужно было держать мирным город; чтобы держать мирным город, нужно было держать в подчинении бойцов; чтобы держать в подчинении бойцов… что нужно было делать? Вдохновить их на неравный бой с приближающимися интервентами? Постараться решить вопрос с заложником, пока ещё есть время, а потом драпать? Запугать всех с помощью чекистов — ведь есть на борту трое чекистов, экспедиция вологодской губЧК, запугать, пришибить террором, чтобы не подняли головы? Или просто драпать вверх по Ваге до Вельска, плюнув на всё? Тяжело решать, тяжело. Задумчиво вышагивая по палубе, Романов обозревал свои владения. «Максим» на носу, два скучающих бойца на посту. Поленницы дров вдоль борта по всей палубе: очень предусмотрительно, если что, топлива с лихвой хватит до Вельска, а к тому же такие поленницы — отличные заслоны от пуль. Унылый перебор гармошки из насмерть прокуренных и загаженных кают второго класса: отдыхающий первый взвод кто дрыхнет, кто режется в карты и орлянку, кто травит байки. Пока не пьют: пока. Ещё один пулемёт на дебаркадере, у сходней в сторону города. Третьего пулемёта нет. Второй взвод по тройкам патрулирует город, охраняет уездную управу, где заседает съезд. Практического толка от этих патрулей мало, но важно показать горожанам, что советская власть здесь и никуда не уходит. В четырёх каютах первого класса живут он и чекисты. Маленький пароходный салончик с расстроенным пианино и библиотечкой с книжками вроде «Отъ чего гибнетъ народъ и Государство?» (сочинение Т. П. Богачёва, а гибнет от неверия в Бога и онанизма) — местный штаб. Туда Романов и направился, рассчитывая найти там своего тёзку. И не ошибся — Бессонов действительно был там, хотя вернулся из города лишь десять минут назад (Романов отходил и проглядел возвращение). Бессонов тоже был на съезде, но не как участник — в исполком он не выдвигался, делегатом не был, а зашёл так, поглядеть, кто есть кто. Поглядел, остался впечатлён: не исполком, а какие-то насмерть перепуганные слепые котята, которые сами не рады быть между двух огней — большевики заставляют городом руководить, местные того и гляди всех перебьют. Слизняк на слизняке, кроме разве что председателя и секретаря — братьев Боговых, Ивана и Василия (22 года и 25 лет соответственно, из крестьян, бывшие солдаты): эти ничего, держатся бодро. Оба левые эсеры, но наши: кооператоров на дух не переносят, воюют с ними тут на съездах ещё с весны. Воюют смело, но бестолково: не видя текущего момента, братья пытались нахрапом провести тут мобилизацию, спровоцировали восстание, потом сами же четыре дня с исполкомом сидели в осаде в казарме. Только Виноградов их и спас. Сейчас — снова у власти, снова громят кооператоров, клеймят белогвардейщину. В общем, люди наши, хоть и не без недостатков.  Иван Боговой, младший брат  Василий Боговой, старший брат (фотка более поздняя: напоминаю, ему сейчас 25 лет) Но, в целом, Боговые да ещё пара человек — вот и все, на кого молодая советская власть могла опереться в этом кулацком смолокурном городишке. Бессонов сегодня обошёл город из любопытства: городок как городок, типичная северная провинция. Бессонов сам был северянин, архангелогородец, и узнавал тут многое: почерневшие от времени по-северному огромные деревянные крестьянские дома, серые деревянные мостки по улицам, начинающаяся сразу за околицей густая непролазная чащоба леса, тихая спокойная река с жёлтыми плёсами. Обычный уездный городок: две с гаком тысячи душ, два трактира, несколько потребиловок, иных лавок и базарчик на площади. Ещё есть двуклассное училище, банк, почтамт, типография местной газетёнки (сейчас не выходит), полицейская управа с кабинетом бывшего станового пристава и маленькая тюрьма. Посреди города — большой женский монастырь: только этих-то богомольных черниц нам тут для полного счастья не хватало. Долго гулял по городу, остановился у двухэтажного кирпичного здания с выбитыми стёклами, сорванными дверями. Это была та самая казарма — общежитие уездисполкома, которое четыре дня осаждали мятежники, которое, наконец, взяли и всё разгромили внутри. В числе исполкомовцев в руки мятежников попала Ревекка Пластинина, тридцатидвухлетняя еврейка, жена одного из местных большевиков, при этом (все знали, в том числе муж) любовница Кедрова, начальника надо всем краем: ссылка. Когда их отряд на трёх пароходах прибыл в Шенкурск, Виноградов договорился с повстанцами о выдаче почти всех заложников (предварительно наставив на город пулемёты), и Бессонов помнил, как в числе прочих в бричке привезли связанную Пластинину, которая злобно озиралась по сторонам и с ветхозаветной мстительностью в голосе истерично кричала направо и налево, что за это придётся отвечать, что она так просто это местным не забудет, что вернётся и устроит тут гекатомбу (она так и крикнула — гекатомбу). На это было неприятно смотреть. Чего там Ревекке Акибовне пришлось пережить в плену — у неё не спрашивали: погрузили на пароход и отправили в Котлас. А местные запомнили, осадок остался. Всё это нужно было как-то решать, как-то показать местным, что с советской властью так шутить нельзя, что даром это не проходит. И, было бы у Бессонова хоть человек двадцать надёжных чекистов, он бы тут поставил дело на поток: но вся экспедиция была — он и два помощника. Изначальная задача была — развернуть в Шенкурске уездную ЧК: занять помещение, набрать штат, поставить работу. Но уж какое там, когда город на грани восстания, в лесах остался заложник, а от Архангельска наступают интервенты. Хорошо хоть, в своих людях Бессонов не сомневался: этих двоих он в Вологде подобрал сам, проверил в деле и остался доволен — люди надёжные. Хоть что-то было надёжное здесь. Вернувшись из города на пароход, Бессонов некоторое время в одиночестве сидел за круглым обеденным столом в пароходном салоне, наблюдая через окно за серо-стальной гладью реки с песочными отмелями, тенями облаков на воде, гребёнкой леса на другом берегу. Было прохладно: август на Севере — уже осень. Холодный тинной свежестью отдающий ветерок гнал по реке мелкую рябь, по небу быстро бежали ряды облаков, закрывая и открывая нежаркое солнце. Из кают второго класса, занятых красноармейцами, уныло доносилась гармошка, временами хлопали двери, гулко топали шаги, шумно прокатывался смыв в гальюне. Из камбуза парно несло варёной картошкой — там судовой кок в поте лица целыми днями готовил еду на всех. Капитан парохода, седенький старичок, двадцать пять лет ходивший по Двине и Ваге, от страха боялся выходить из своей каюты, а чего боялся? Зачем его-то расстреливать? Кто тогда пароход мимо мелей поведёт? Вообще Бессонов последнее время ощущал, что его иногда боятся не по делу, а просто так, будто смертью от него несло. А может, и несло. Хлопнула дверь, Бессонов поднял взгляд. Тёзка, военком Романов пришёл. Надо, видимо, поговорить.
-
Эпичная атака белых в начале, душевное описание города и ситуации в нем. И интересные решения!
-
ты замечательно пишешь буквы клавиатурой, а ирл-отсылки так-то добавляют доверия. класс!
-
-
Хорошее начало хорошей игры.
-
-
Помню однажды мы говорили о литературе и ты восхищался там тем, как во втором томе "Хождения по мукам" удалась картина "Ледяного похода". Процитирую это место: Это был один из многочисленных коротких боев, преграждавших путь Добровольческой армии. Как всегда почти, силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли и отступить без большой беды: в бою, в этот первый период войны, победа для них не была обязательна. Позиция ли неудачна или слишком огрызались "кадеты", - ладно, наложим в другой раз, и пропускали Корнилова.
Для Добровольческой армии каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Армия должна была победить и продвинуться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступать было некуда. Поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния - и побеждали. Так было и в этот раз.
[...]
Резким лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону оврага. Текинцы, как кошки, вскочили на коней, - один крикнул гортанно, по-своему, - выхватил кривые сабли и на рысях, затем галопом пошли в степь, в сторону оврага, где чернела пашня и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи.
Семен Красильников теперь лежал на боку, - так было легче. Еще час тому назад сильный и злой, сейчас он слабо, часто стонал, с трудом сплевывая кровью. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, - на бурый, покатый бугор по ту сторону оврага. По нему вниз мчались верхоконные, человек пятьдесят, лавой. Это была атака конного резерва.
Сзади подбежал кто-то, упал на колени рядом с Красильниковым и кричал, кричал, надсаживаясь, размахивал маузером. Он был в черной кожаной куртке. Верхоконные ссыпались в овраг. Человек в куртке кричал не по-военному, но ужасно напористо:
- Не сметь отступать, не сметь отступать!
И вот над этим краем оврага поднялись огромные шапки, - раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы. Лежа в полосатых бешметах над гривами лошадей, они скакали по вязкой пашне, где по бороздам еще лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт. "И-аааа-и-аааа", визжали оскаленные смуглые личики с усами из-под папах. Вот уже виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конной атаки! Серые шинели поднимаются с пашни. Стреляют, пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался - наскочил, ударил одного в спину.
- Вперед, в штыки!
Красильников видит, - один полосатый бешмет будто по-нарочному покатился с коня, и добрый конь, озираясь испуганно, поскакал в сторону. Рванул по цепи железный лязг, дымными шарами, желтым огнем разорвалась очередь шрапнели. И армеец Васька, балагур, в шинели не по росту, сплоховал. Бросил винтовку. Весь - белый, и рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они все ближе, вырастают вместе с конями. Один впереди - конь стелется, как собака, опустив морду. Текинец разогнулся, стоит в стременах разлетаются полы халата.
- Сволочь! - Красильников тянется за винтовкой. - Эх, пропал комиссар! - Текинец рванул коня на кожаную куртку. - Стреляй же, черт!
Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке... И сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь. Дунуло горячим лошадиным потом.
Текинцы проскочили, повернули во фланг. А на пашню из оврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые и черные шинели, барски блестя погонами.
- Уррррра!
Бой отодвинулся к полотну. Красильников долгое время слышал только, как стонал комиссар, порубленный саблей. Все реже раздавались выстрелы. Замолчали пушки. Красильников закрыл глаза, - гудело в голове, ломило грудь. Ему жалко было себя, не хотелось умирать. Отяжелевшее тело тянуло к земле. С жалостью вспомнил жену Матрену. Пропадет одна. А ведь как ждала его, писала в Таганрог - приезжай. Увидала бы сейчас его Матрена, перевязала бы рану, принесла бы пить. Хорошо бы воды с простоквашей...
Когда Красильников услыхал матерную ругань и голоса, не свои - барские, он приоткрыл глаз. Шли четверо: один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвертый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки - по-охотничьи - под мышкой.
- Гляди - матрос, сволочь, пырни его, - сказал один.
- Чего там - сдох... А этот - живой.
Они остановились, глядя на лежавшего Ваську-балагура. Тот, кто был в черкеске, вдруг гаркнул бешено:
- Встань! - ударил его ногой.
Красильников видел, как поднялся Васька, половина лица залита кровью.
- Стать руки по швам! - крикнул в черкеске, коротко ударил его в зубы. И сейчас же все четверо взяли винтовки наперевес. Плачущим голосом Васька закричал:
- Пожалейте, дяденька.
Тот, кто был в черкеске, отскочил от него и, резко выдыхая воздух, ударил его штыком в живот. Повернулся и пошел. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги.
Когда добровольцы, пристрелив пленных и запалив, - чтобы вперед помнили, - станичное управление, ушли дальше к югу, Семена Красильникова подобрали на пашне казаки. Так вот, по-моему, у тебя круче получилось, чем у Толстого! Также "гекатомба (да-да, так и сказала)" безмерно доставляет.
|
19:30
— Так вы откуда будете-то, вы железнодорожники, говорят? — спросил Вася, как только вслед за Анчаром и Герой перебрался за линию вагонов где, столпившись, стояли рабочие с винтовками.
— С Казанки мы, а вы откуда?
— С Виндавки, — Вася оглядел собравшихся. — Меня Василий Ферапонтыч зовут, это Иван Василич Сажин, — показал он на пожилого бородатого железнодорожника, который с привычной ловкостью пролез под вагоном, — а вон с ломом в руках — это Вестик, то бишь тормоз Вестингауза.
— Это ж Сеня! — узнал кто-то Вестика. — Сень, ты чего тут делаешь?
— Так я это, это, — задумался Вестик, не выпуская лома из рук в варежках. — Я на Виндавском теперь работаю, вот.
— Он у нас в мастерских подмастерьем был полтора года, — объявил один из казанцев. — Мы думали, он спился давно на Хитровке.
— Не, не, — замотал головой Вестик. — Я теперь не, не! Вообще! Я носильщик теперь, вот!
— А вы чего, из мастерских? — спросил дядя Сажин: — Как вас звать-то хоть? Может, я о ком слышал?
— Из мастерских… — ответил рабочий в шинели. — Я Никанор, это вон Тимошка, Даня, Борька, Филипп, а это вон Андрей, кличка Гренадёр.
— Сегодня с гренадёрами весь день война идёт, — заметил Вася.
— И не гренадёр я никакой, — откликнулся Андрей — пышноусый парень в полушубке, с электрическим фонариком в руках. — Так, приклеилось…
— А что, с Николаевки никого нет здесь? — оглядел коллег дядя Сажин.
— Не, никого, — ответил Никанор, рабочий в шинели, а Даня, молодой румяный парень в лёгком пальтишке и мохнатой, ворсинками наружу, женской шали на плечах, сплюнув, добавил: — Самый подлый народ эти николаевцы. В октябре до последнего не бастовали, сейчас… одно слово: штейкбрехеры рабочего дела!
Все помолчали.
— И вот ещё один наш товарищ, я не представил, — нарушил молчание Никанор и кивнул на стоявшего в сторонке здоровяка-матроса. — Мартын. Это товарищ с Дальнего Востока.
— Из Смоленска я, — ворчливо произнёс Мартын. — Домой из плена ехал.
— Чё, с Порт-Артура? — с интересом спросил Вася.
— С Цусимы… — с оттяжечкой, с какой-то горькой гордостью ответил Мартын.
— А это богатство у вас тут откуда? — спросил дядя Сажин, указывая на винтовки в руках и за плечами казанцев.
— Винтовки, что ль? — легко спросил Гренадёр. — Вот уж чего-чего, а этого добра у нас хватает. Людей мало, а оружия завались. Эшелон с солдатами в Перово разоружили.
— И чё, просто так отдали? — не поверил Вася.
— А чего им не отдать? — пожал плечами Гренадёр. — Они все навоевались, им эти винтовки уже видеть тошно.
— А пушкой с пулемётом вы случаем от них не разжились? — то ли в шутку, то ли всерьёз поинтересовался Вася.
— Не, этого нет… — ответил Гренадёр.
В это время через сцепку, придерживаясь за железную лесенку за задней стенке вагона, перебрался Балакин и бережно принял бомбу от полезшего следом за ним Зефирова. Чибисов пролез под вагоном.
— Вон, видите? — с гордостью показал Вася на жестяной цилиндр в руках Балакина, когда с представлениями новоприбывших было покончено. — У нас тоже есть чем похвастаться: вон, наш студент бомбу смастачил! Уронит если: ой, мама, всех в капусту!
Оставалось только удивляться, с какой лёгкостью этот полубандит начал считать себя частью революционной дружины: уже и о бомбе он говорил с гордостью, и о Зефирове, которого знал от силы час, — покровительственно, как о «нашем студенте».
— Динамит, что ль? — заинтересовался Мартын.
— Ага, динамит, — бодрым, но дрожащим от холода голосом отозвался Зефиров, приплясывая на месте, с интересом оглядывая всех. — И взрыватель ударного действия.
— Военный, что ли?
— Не, — махнул рукой Зефиров с таким видом, мол «скажешь тоже». — Самопальный.
— Какой там военный! — сказал Вася. — Это вы там на Казанке эшелонами военное добро гребёте! У нас вон! — достал он из кармана полицейский наган на оборванном шнуре, показал: — Городового кокнули, наган сняли: тем и воюем.
— И чего, как воюете? — спросил кто-то.
— Хвастаться нечем, — признал Вася. — По большей части сидим, пердим. Но линию остановленной держим, и то хлеб.
— А чего у вас там в городе-то происходит? — спросил Гренадёр. — Мы там сидим на вокзале как в лесу: где-то стреляют, пушки лупят, а мы ни сном, ни духом. Пройти в центр не можем: на Каланчёвской заслоны. Посылали гонца — не вернулся. Только вот, как стемнело, и выбрались в обход пути испортить, да вон, — махнул он рукой в сторону тёмного здания локомотивного сарая, — в засаду угодили. Двоих наших убили, троих ранили: назад на вокзал потащили их. А мы вот дальше идём.
Анчар и Гера припомнили: действительно, некоторое время назад, когда они в кружок стояли у пристанционных хибар, обсуждая, что делать дальше, со стороны локомотивного депо действительно слышалась винтовочная пальба.
-
наш студентКак быстро он примазался к чужим заслугам!
А вообще задачка, конечно, рисуется не из легких. Тем интереснее.
-
Если меня попросят сходу сказать, почему стиль ОХК - это круто, я не задумываясь отвечу: красивые небанальные эпитеты и живые диалоги. В диалогах всем обычно нравятся сами реплики, но я всегда с завистью обращаю внимание на глаголы в непрямой речи. "Сказал, спросил, ответил, произнес" - это бичь аффтаров, три универсальных костыля, которые могут сделать унылым даже очень хорошо написанный диалог. А без них вроде бы никак. У ОХК всегда можно найти вот эти
- оглядел
- узнал
- задумался
- объявил
- замотал головой
- откликнулся
- сплюнув, добавил
- нарушил молчание
- заинтересовался
- махнул рукой
- признал
- а также ворчливо, с интересом, с оттяжечкой
Аффтарам есть чему поучиться.
|
Ноябрь 1682 г.,
Ветлуга
Веха 5
…и как присылка стрелцов к селу Раменью зачала подходить, в згорелую ызбу того села Раменья собралось розных помещиков крестян мужеска полу сто семдесят три человека да женска полу блис столки же, а ызба та, в которой собрались они, росколники, о пяти житьях, окна забиты чюрками, а толко оставлено по одному полому окну и соломою всё вокруг обволочено, и запуски сверху дверей вбиты из толстого леса, а к запускам тем для запора слеги и прочее железное утверждение, дабы по зажжении аще сам кто восхочет убежать, а не сможет. А в середине ызбы, и наверху, и внизу набросаны кудель, веники, солома, смоль. Собрались они, росколники, и говорят между собою: будем де сперва стрелцам противность чинить, а ружья у них болши десятков двух пищалей, а пороху при том было четверика два, и силны учинились они и не далися а стреляли и побили двух стрелцов насмерть а ещё пяти поранили, а в то время другие в толпы собрались купно мужи и жены со младенцы своими и оградили храмину ту тростичами и соломою и изгребием сухим, и те себя обволокли соломою и зажгли, и сами згорели, а другие кто не згорел, те во храмине той от дыму задохлися и изгибли.
— …и изгибли, — закончил читать, шевеля губами, Игнат, дойдя пальцем по последней строки затейливо изгибстых букв.
— Вот то-то же, — с внушительной ласковостью сказал Тимофей Тимофеевич, отбирая у Игната бумагу. — Ну, Игнашка, помнишь чего из этого?
Игнат покачал головой: ничего, мол, не помню.
— Стало быть, тебя там не было, — в который раз повторил Тимофей Тимофеевич. — А где ж ты был под Петров день? Куда тебя вывезли, что ты на гарь не попал? Где шастал три месяца?
Игнат только молча пожал плечами, сгорбившись на табурете. Они сидели в сводчатой палате приказной избы городка Ветлуга, где жил приехавший из Москвы воевода и куда он привёз Игната. Была уже поздняя ночь: дьяк, подьячие, стрельцы, дворовые — все давно спали. А Игнату не спалось, — он лежал, укрытый тулупчиком, в тёмной людской, глядел из-под полуприкрытых век на светлое мельтешение крупного снега за решётчатым, переливчато-слюдяным окном, на бледные тени, протянувшиеся по помещению, слушал тихое дыхание спящих по углам слуг: все живые, насколько они все живые — странно думал Игнат, понимая, что за этим наблюдением должен последовать какой-то вывод, к которому он пока не мог прийти.
За стенкой, скрипя половицами, грузно ходил воевода: ему тоже не спалось, как часто бывало в эти ночи. Наконец, воевода зашёл в людскую, тихонько растолкал Игната и позвал его к себе, где в очередной раз начал чинить допрос, по десятому разу спрашивать одно и то же. Потом дал почитать подготовленную дьяком сказку о гари в его родном селе. Игнат прочитал, молчал.
— Да что ж мне с тобой делать, балда, башка баранья, долдон лесной! — в сердцах воскликнул воевода, порывисто подняв с покрытого ковром кресла своё большое, рыхлое тело в расстёгнутой на красной шее рубахе. — Ну что, что ты старца своего выгораживаешь? Он тебя в яму к мертвецам посадил, а ты его выгораживаешь! С ним ходил, да? Ну, говори!
Игнат молчал. Палата с пустыми заваленными бумагами столами подъячих тонула в уютном полумраке: жарко натоплена была изразцовая печка в углу, тяжёлый пятисвечный канделябр дрожал оранжевыми огоньками на воеводином столе, перед которым сидел Игнат.
— Ну что, что ты молчишь? — воевода тряс волосатыми ручищами перед лицом Игната. — Думаешь, я зря тебе эту сказку дал почитать? Я посмотреть хотел, как ты читать будешь: читаешь-то бойко — у меня сын твоего возраста, и то читает медленней! Кто тебя учил чтению, а? Старец твой и учил! Поэтому ты его выгораживаешь? Ну, говори, так? А то отправлю на конюшню вон пороть!
Игнат молчал.
— Погоди, я сам скажу, как дело было. Семью твою он под Петров день в морильню спустил, а тебя с собой забрал, так? Ну, так? Потом ходил с тобой до Воздвиженья, а потом решил и тебя убить зачем-то, и сунул тебя к родным в яму. Там уж они все гнилые были, прости Господи, — Тимофей Тимофеевич троеперстно перекрестился на красно освещённую лампадкой икону в углу, — а к ним живого человека, одно слово — изувер! Вот от тебя до сих пор и смердит, как… — воевода повёл носом. — Ты в баню ходил, Игнашка?
— Ходил, — тихо сказал Игнат.
— Чего-то всё равно от тебя смердит, — пожал плечами воевода. — Ещё раз сходи. На Москве тебе, такому вшивцу, делать нечего. На Москву тебя с собой заберу, а то добьют тебя здесь за то, что в яме не сгинул, как пить дать добьют, у ваших святых старцев с этим просто. А на Москве дела сейчас творятся, да… — протянул воевода, уселся на своё место за столом, откинулся на спинку. — Ты, пень лесной, хоть, кто царь-то у нас в державе, знаешь, а? — с интересом взглянул он Игнату в лицо.
— Фёдор Алексеич, — слабо произнёс тот.
— Аааа, дурак! — довольно заулыбался воевода, обнажив жёлтые зубы. — Фёдор Алексеич ещё весной преставился, царствие ему небесное! А царя у нас теперь два: Иван да Пётр, братья его младшие. Ну да не твоего ума сие дело…
Воевода поднялся, тяжело вздохнул, остановился у окна, глядя в бледную снежную ночь: на широкую улицу, занесённую ровным, не разъезженным санями ещё снегом, на чёрные бревенчатые дома под толстыми белыми шапками, пушистый слой снега на отливе окна.
— Лёд встанет, поедем, — глухо сказал Тимофей Тимофеевич, не оборачиваясь. — Мне тут делать больше нечего. М? — обернулся он на Игната, — чего молчишь, пень лесной? В ножки кинуться должен — Москву увидишь! Истопником у меня будешь, у меня старому как раз помощник нужен.
Тимофей Тимофеевич отошёл от окна, присел у печки, приоткрыл заслонку, за которой весело плясало рыжее берёзовое пламя, положил большие ладони на зеленоватые изразцы, глядя в огонь. А Игнат в этот момент понял, что в Москву ему ехать никак нельзя: он ещё не мог ясно сказать, почему, но чувствовал, что картина, которую ему рисовал воевода, — покойная, прибыльная служба дворовым человеком в большом городе, — всё это ложь, такого не будет, а будет что-то иное, неприятное, чего нужно избегать.
Ещё не до конца понимая, зачем он это делает, Игнат поднялся со стула, прошёл к печке и взял тяжёлую чёрную чугунную кочергу. Думая, что Игнат хочет поворошить в печке угли, воевода, не вставая, отодвинулся в сторону, тяжело, сладко зевнул:
— Спать пора… Одного не могу взять в толк, Игнашка, — прислоняясь к изразцу щекой, прикрывая глаза, сказал воевода, — всё гладко в твоей истории, как я её вижу: а одно сейчас подумалось. Я ж морилен-то с десяток повидал: вашу-то давненько не открывали…
В этот момент Игнат, высоко поднявший кочергу, с силой опустил её на красный, шишковатый лысеющий затылок воеводы. Тот только ухнул, рыхлым кулем валясь на доски: в розовой лысине появилась вмятина, как на тесте. Лёжа на полу, воевода беззвучно дёргался. Игнат поднял кочергу ещё раз и снова опустил ему на голову, в этот раз попав в висок.
Когда Игнат остановился, воевода лежал недвижно. Под изувеченной его головой натекала лужица розоватой крови. Игнат аккуратно поставил кочергу к трещащей искрами печке, опустился на колени рядом с трупом, обмакнул ладонь в кровь, поднёс к лицу. Понюхал, лизнул, а потом старательно облизал руку. «Зачем я это делаю?» — подумал Игнат, но в следующий момент опустился лицом к полу и, как кошка, начал лакать кровь из лужицы. Чувствуя, как тело наполняется теплом, силой и бодростью, он слизал с пола всё. А затем тихо, никого не будя, собрался, надел воеводин заячий тулупчик, вышел на чернеющую голыми сучьями, свеже пахнувшую снежным ветром в лицо ночную улицу и споро двинулся прочь. В первый раз за многие месяцы Игнат себя превосходно чувствовал. Он знал, что не замёрзнет.
-
Прочитал только что эту ветку. Зело крипотно.
И воеводу жалко.
-
|
|
Пока Бессонов говорил, он не забывал внимательно следить за выстроившимися у балюстрады горожанами. Павсюков и Медведев схлынули с лица от осознания, что их план не сработал: Медведев, кажется, вовсе впал в прострацию, стоя белый как полотно. А вот Кузнецов, наоборот, часто мелко облизывал пересохшие губы, косился взглядом то вправо, то влево, будто оценивая обстановку, и не побледнел, а покраснел: сейчас может куда-то рвануть, вытащить браунинг из кармана или сделать какую-то глупость — понял Бессонов. Он обратил внимание, куда чаще косится Кузнецов, а потом приметил, что туда же нет-нет да бросают взгляды и Медведев с Павсюковым — на опечатанную дверь редакции. — Я… я конечно… — задыхаясь, быстро ответил Павсюков на предложение Бессонова выйти на улицу. Кажется, он всеми силами старался сейчас угодить чекисту, как-то понравиться ему. — Пожалуйста, господин Кузнецов, подымите руки вверх, — сказал Бессонов, никак не реагируя на не могущего справиться со своими словами, дыханием и нечистой совестью Федора Павсюкова. Его взгляд был прикован на готового вот-вот эскалировать и без того напряжённую ситуацию юноше… Его пистолет также был направлен на юношу. Что ж, выходит, ситуация был эскалирована и без участия молодого господина Кузнецова. Кузнецов медленно поднял руки вверх, поджав губы, глядя исподлобья. — А мне тоже? — зачем-то спросил слабым голосом Медведев, оглядываясь то на Занозу, то на Бессонова. — Товарищ Мартынов, обыщите, пожалуйста, господина Кузнецова. Он может быть вооружен, — сказал Бессонов, проигнорировав глупый вопрос Медведева. — Так точно, — тихо отозвался Глебушка. — А мне тоже руки поднимать? — спросил Медведев ещё раз. — Ну хочешь, подыми, — милостиво разрешил Заноза, внимательно наблюдающий за задержанными из-за спины Бессонова. — Действительно, кто мы такие, чтобы запрещать людям стоять с поднятыми руками… — задумчиво сказал Глебушка, принявшись охлопывать Кузнецова по бокам. — Папироски… — прокомментировал он, достав из бокового кармана пиджака начатую мятую пачку и спичечный коробок. Их он, не глядя, передал за спину Занозе; тот принял, безжалостно высыпал папиросы на пол, заглянул в пустую пачку, отшвырнул, потом повторил то же со спичками. Глеб продолжал обыскивать: полез во внутренний карман пиджака (Кузнецов скривился), достал записную книжку и сложенный годовой паспорт — такие временные документы выдавали, например, крестьянам, уходящим зимой на извоз в город: многолетняя паспортная книжка им не требовалась, поэтому они получали вот такую бумажку: — Ага, — довольно произнёс Глебушка затем, достав из бокового кармана пиджака маленький дамский браунинг, а вслед за тем из кармана брюк — запасную к нему обойму. Всё это он так же передал Занозе. Заноза отложил оружие на балюстраду подальше от задержанных, развернул паспорт перед глазами, прочитал: — Василий Петрович Кузнецов, девяносто третьего года, мещанин, журналист… — он быстро сложил паспорт и сунул себе в карман вместе с записной книжкой Кузнецова. Бессонов видел: Кузнецов нервничает, вот-вот что-то устроит, рванёт ещё один пистолет из кармана, ударит Глеба спрятанным ножом — чёрт знает, что там у него могло быть припасено! Чекист быстро сместился в пространстве так, чтобы все ещё мочь держать горячечного юнца на мушке, чтобы Глеб его не закрывал. Глеб, кажется, тоже чувствовал это напряжение и, опустившись на колени, перед тем как начать охлопывать Кузнецова по ногам, поднял на него лицо и спокойно сказал: — Нет, бить меня по голове не надо. У меня только шишка вскочит, а вас пристрелят. Это, кажется, убедило Кузнецова, и тот на протяжении обыска стоял недвижно, досадливо поджав губы. Бессонов видел — Кузнецов жалеет, что упустил момент, не выхватил пистолета раньше, а сейчас уже поздно. — О, ещё кое-что, — прокомментировал Глебушка, двумя пальцами доставая из-за измазанного в свежей грязи голенища сапога Кузнецова складной нож. — Прямо арсенал, — заметил он, поднимаясь с пола. Нож Глебушка отложил на балюстраду рядом с браунингом. — Это не запрещено к ношению, — хрипло сказал Кузнецов. — В Шенкурске приказом товарища Виноградова объявлено военное положение, — отчеканил Заноза, — что предусматривает сдачу всего личного оружия населением. — Более того, господин Кузнецов, — все также улыбаясь, подхватил вслед за Занозой ветку разговора Бессонов, — даже если вы, к примеру, были не в курсе распоряжения товарища Виноградова и не сдали свой рыцарский арсенал в надлежащее хранилище... Знаете, что запрещено? Печатание и распространение антисоветской паралитературы. Так что немного отнять от колонки А, немножко прибавить к колонке Б… Павсюков, — внезапно переключился чекист, — вторая форма ведь спрятана в опечатанном помещении редакции, так? Вас заставили этому попустительствовать под угрозой оружия? — Да! — схватился за предположение Бессонова как за соломинку Павсюков. — А ещё там Жилкин сидит! Хватайте его скорей! — Жилкин, бегите! — изо всех сил закричал Кузнецов. — Валерьян! Глеб! — прорычал Бессонов. — Быстро! Глебушка рванулся к двери, дёрнул на себя, срывая пломбу — дверь оказалась не заперта. — Чёрт! — донёсся до Бессонова досадливый возглас Глебушки и его топот. Вслед за ним в помещение редакции влетел и Заноза. — Окно? — выкрикнул Бессонов. Никто ему не ответил: только глухо донёсся звук прыжка — похоже, Глебушка сиганул в окно вслед за загадочным Жилкиным. Бессонов остался один наедине с тремя задержанными. Кузнецов нервно зыркал по сторонам, останавливаясь взглядом на своём оружии, лежащем на балюстраде в пяти шагах от него. Толстомордый Павсюков был перепуган, лысый учитель Медведев — растерян. Он вопросительно оглянулся на Кузнецова, как бы спрашивая «Ну?»; Кузнецов нетерпеливо показал ему глазами на Бессонова, мол, давай! Павсюков к ним, конечно, не присоединился бы, но эти двое могли бы сейчас наброситься на чекиста и чёрт его знает — может, и одолели бы, схватили браунинг с балюстрады, вырвали маузер из рук, пристрелили бы на месте. Ждать было нельзя. Что ж, игра в обычные шахматы закончилась, рассудил Бессонов. Пришло время блиц-партии. Он хотел было приказать Кузнецову — ну, и остальным, если на то пошло — оставаться на месте, но тут же отмел в сторону эту мысль как напрасную трату слов и времени. Поэтому Бессонов выстрелил молодому господину Кузнецову в ногу. Вот, это его замедлит. Кузнецов, коротко вскрикнув, повалился на пол, как подкошенный. — Сука! Мразь большевицкая! — сквозь зубы выпалил он, зажимая бедро. — Мои искренние извинения, господин Кузнецов, — с прежним спокойствием произнёс Бессонов. Будто бы он только что и не выкрикивал приказаний своим помощникам, так быстро перестроился его голос. — В оправдание своих действий скажу, что они были вынужденными. Трое против одного, пусть и вооруженного. Вы к тому же выглядите как юноша здоровый и легко могли бы меня пересилить, случись мне отвлечься на что-то. Я уверен, вы полностью оправитесь от ранения. К тому же, мне кажется, случившееся расставило все точки над "i" для господина Медведева и товарища Павсюкова. Медведев и Павсюков застыли в оцепенении. Бессонов был прав: им было всё предельно ясно. Здесь чекист как будто бы снова вспомнил о существовании толстощёкого печатника. — Павсюков! Вы хотели дать свидетельские показания. Начинайте. Имейте судьбу господина Кузнецова в виду, пожалуйста. — Я готов, готов, — энергично закивал Павсюков. — Что вы хотите знать? — Сука!… — подвывал лежащий на полу Кузнецов, зажимая бедро в военных галифе защитного цвета. С улицы послышались усталые, останавливающиеся шаги бегущего. Входная дверь хлопнула, в типографию прошёл запыхавшийся, тяжело дышащий Заноза. — Ушёл! — сообщил он Бессонову. — Глебка пока там ещё что-то… — Заноза перевёл дух и махнул рукой, — …но толку мало: ушёл. — Всё нормально здесь, Валерьян. Контролирую ситуацию. Посмотри, пожалуйста, по-быстрому, чтобы Глебушка нормально вернулся. А то не хотелось бы, чтобы этот Жилкин его подстрелил. Сказав так, Андрей с некоторой опаской покосился на распахнутую дверь редакции. В других обстоятельствах он был бы рад одобрить всегдашнюю радивую исполнительность Глеба Мартынова. Сейчас, впрочем, председателя уездного ЧК угнетали сомнения. Этот Жилкин, вероятно — практически точно — был вооружен. Как бы не забежав один слишком далеко Глеб не попал бы в засаду и сам не превратился жертву. — Господин Медведев, — продолжил чекист, когда Заноза вышел, — если в типографии есть аптечка, то сейчас вы можете взять её и обработать рану юноши. — Я же не врач… — растерянно развёл руками Медведев. — У вас есть пояс, господин Медведев. Используйте его, чтобы перетянуть ногу молодого человека поверх раны. Затем перевяжите её чем-нибудь чистым. Что касается вас, Павсюков, то для начала расскажите мне всё, что знаете о господине Жилкине. Начните с того, куда он может сейчас направляться. Я полагаю, он не живёт сейчас на собственной квартире? Мало кто живёт в последние годы. По крайней мере, в моём круге общения. — Жилкин — это он сейчас с Ракитиным в лесу сидит, — сбивчиво начал говорить Павсюков, — они, когда восстание, тогда собрали, в общем, человек пятьдесят или даже шестьдесят, на казармы-то пошли, а там Пластинина… — Да погоди ты, — кривясь от боли, подал голос Кузнецов. — Только напутаешь всё. Слушай меня, морда чекистская: Александр Онуфриевич Жилкин — начальник народной уездной милиции. Нигде вы его теперь не достанете, уже в лесу он, а где именно — пытай меня, не пытай, не скажу: где угодно может быть. — Вы не отвлекайтесь, Павсюков. Не обращайте внимания на молодого человека. Он сам не свой от боли. Скажите всё так, как хотели. Это в существенной мере облегчит вашу участь, а, быть может, и вовсе избавит вас от наказания. Вы знаете, где я могу найти Жилкина с Ракитиным? Вы знаете, кого-нибудь, кто мог бы провести меня к их схрону? И вновь чекист внезапно переключил внимания от одного печатника к другому. — Может быть, вы, господин Медведев? Если вы не доктор — может быть, вы будете полезным мне как-то иначе? Мне нужен ответ. Мы проявим снисхождение к тому, кто его даст. — Они все в лесу сидят, — быстро ответил Павсюков. — В лесу, в лесу, — тут же подтвердил Медведев, бестолковыми рывками, не отводя взгляда от чекиста, вытягивая из брюк ремень, — на смолокурне, там смолокурен много в лесу. — А сюда пришли листовки печатать, меня к станку поставили, — наперебой с ним говорил Павсюков. — Жилкин да вон они двое! А как им откажешь? Откажешь — ночью прирежут! — Да чего ты брешешь, подлец! — сквозь зубы крикнул Кузнецов с пола. — Я тоже только помогал, только помогал, — заголосил Медведев, стягивая ремнём бедро раненого. — Зашли ко мне, говорят, айда на типографию, помогать печатать будешь! — Врёт он! — громко выпалил Павсюков, указывая на Медведева. — Они двое у него на хате ночевали, ты, Васька, сам так говорил! — Заложить меня хочешь, снисхождение отрабатываешь?! — вскинулся Медведев. — Так пускай и тебя рядом со мной к стенке поставят — что ты исполкомовскую печать тут прячешь, я скрывать не стану! — Подлый вы народ какой, — сардонически усмехаясь, отметил Кузнецов с пола. — Нет бы как честные люди к стенке пойти — друг друга заложили: браво, господа. — Я не был бы так поспешным в суждениях, господин Кузнецов, — покачал головой Бессонов. — Насколько я понимаю, господин Жилкин, будучи, как вы сказали, начальником народной уездной милиции, является достаточно опасным человеком. Он знает, где и кто живёт и как его найти найти. Он может применить насилие — быть может, даже смертельное — к непокорным ему людям. Таким образом он может держать в своей власти и зависимости от себя даже людей, которые в других обстоятельствах были бы вполне лояльны новой власти рабочих и крестьян. Не поэтому ли вы предоставили ему с Ракитиным в распоряжение свою квартиру, господин Медведев? Из-за страха. Нет никакой подлости в том, чтобы сбросить с себя его бремя. Может быть, вы слышали что-то, когда они почивали у вас? Что-то, что могло бы быть интересно мне? — Я скажу, я обязательно скажу, — зачастил Медведев, глупо стоя с падающими брюками и ремнём в руках. — Во-первых, они телеграфисту Викеньтеву платят, чтобы он их сообщения в Архангельск передавал! Я из-за стены слышал, как Жилкин говорил, что десяти рублей мало, он по двадцать пять теперь берёт! А… а во-вторых, они говорили что-то про схрон в монастыре, что его пока в покое надо оставить, не привлекать внимания чекистов, то есть вашего! — Да пошёл ты!… — с ненавистью зыркнув, зло отмахнулся от Медведева Кузнецов, когда тот, закончив говорить, присел на колени рядом с ним и протянул руки с ремнём, чтобы наложить жгут. Сквозь пальцы, которыми белобрысый молодой человек зажимал рану, сочилась кровь, натекая маленькой лужицей на крашеные доски пола. — Я всё-таки перетяну… — неуверенно, как будто извиняясь, обратился учитель к Кузнецову, и тот с безразличным видом отвернулся — делайте что хотите, мол. — И вы, товарищ Павсюков с вашей украденной печатью, — обернулся Бессонов к заляпанному типографской краской печатнику. — Неприятное, конечно, дельце. Если вы знаете, что в городе у Жилкина с его бандой есть какие-то подручные, кроме этого молодого человека, которые могут прийти к вам в дом ночью и убить вас, то в ваших же собственных интересах назвать их. — Я подручных-то их не знаю лично, — с надеждой заглядывая в лицо чекисту, начал Павсюков, — они ко мне только приходили, чтобы я им эти листовки печатал. Потом, как напечатаешь, говорили, вещи собирай, в лес с нами пойдёшь. Ну, типография-то у нас в городе одна, все бы поняли, где напечатаны они, так что тут мне только одна дорога была, в лес. А там в лесу я ещё у них не был: то ли на Семёновской смолокурне они сидят, то ли на смолокурне кооператива «Важский край», этого я не знаю, но где-то в тех краях, — Павсюков махнул рукой в неопределённом направлении. — Ты давай, давай, мели больше, — сквозь зубы процедил Кузнецов, штанину которого перетягивал ремнём Медведев. — Всё равно ни черта не знаешь. — Не знаю, точно не знаю, истинно так, — с готовностью согласился Павсюков. — А печать исполкомовскую они вот тут прячут, — печатник показал на ведёрко с типографской краской, стоящее на стеллаже. Они эту печать во время бунта из исполкома забрали, потом исполкому новую сделали, а эта у них осталась. Они этой печатью тут пломбы и ставили. — Чего «они»-то, ты и ставил!… — через плечо бросил Медведев. В это время за окном прошли Глебушка с Занозой: хлопнула дверь в сенцах, чекисты вошли в типографию. — Не, не догнали, — печально сообщил Глебушка, качая головой. — Я его даже толком не разглядел, только видел, что в гимнастёрке. Удрал, как заяц, огородами какими-то, потом свернул куда-то, я даже не понял, куда. Только местных переполошил! Кузнецов зло усмехнулся, ничего не сказав. — Там, командир, в той комнате, — Заноза показал на распахнутую дверь редакции, — листовки эти сложены. Печатная форма тоже там лежит, с собой он её брать не стал. Я сейчас принесу одну. Скоро Заноза вернулся из редакции с отпечатанной на четвертушке дешёвой газетной бумаги листовкой: Граждане Шенкурска!
Власть германских холуев большевиков пала и никогда больше не вернётся на Вагу! До прибытия представителей законного правительства Н. В. Чайковского власть в уезде переходит к уездному коменданту и особому комиссару Верховного управления Северной области Максиму Николаевичу Ракитину. Правопорядок обеспечивает Народная милиция, составленная из граждан Шенкурского уезда.
Граждане! Записывайтесь в Народную милицию, укрепляйте порядок в городе и уезде, участвуйте в работе восстановленных учреждений — городской управы, земства, Союза смолокуренных артелей. Восстановления власти советских насильников бояться нечего — этому не бывать! Этого не допустит трудовой народ, этого не допустит Народная милиция, этого не допустят спешащие нам на выручку союзники.
Приказываю:
1. Выявлять и инициативно арестовывать участников и пособников совдеповской власти, доставлять в городскую тюрьму. За поимку особо важных лиц выдаётся вознаграждение;
2. Всем участвовавшим в работе советских органов в каком-либо качестве добровольно сдаться властям и представить объяснение причин своего сотрудничества с узурпаторами. Объяснения будут беспристрастно рассмотрены, сотрудничавшие с советскими властями по уважительным причинам будут освобождены от кары;
3. Соблюдать требования представителей Народной милиции, правительственных учреждений. Сопротивление требованиям представителей народа наказывается по всей строгости революционного времени;
4. Соблюдать комендантский час с 10 ч. вечера до 6 ч. утра. Нахождение вне дома в это время, помимо особых случаев, безусловно воспрещается. За разрешениями на нахождение вне дома во время комендантского часа обращаться к начальнику уездной милиции Жилкину А. О.;
Шенкурск, 13/VIII/18
Особый комиссар В.У.С.О.
Комендант Шенкурского уезда М. Н. Ракитин
Начальник уездной Народной милиции А. О. Жилкин
|
От упоминания Маслова Чаплин чуть заметно, но, кажется, демонстративно поморщился. Степан Яковлевич знал, что офицеры могли не любить Чайковского, презирать его окружение, но Маслова — Маслова в этих кругах не просто презирали: то, что Чайковский поставил этого по-малороссийски хэкающего агронома-кооператора руководить Военным отделом, офицеры считали прямым и нарочитым оскорблением.
Когда Миллер завёл речь о корниловском выступлении, молча стоящие в кружок вокруг беседующих офицеры переглянулись. Похоже, не одному Миллеру приходило в голову сравнение нынешней ситуации с прошлогодней. Полковник Кольчицкий, штабс-капитан Зеленин, похмельный, с красными глазами и всклокоченными волосами портупей-юнкер Осипов — все глядели на Чаплина, и было видно, что они ждут только одного: чтобы Чаплин, наконец, разрешил подспудно копящееся напряжение, прямо ответив — да, мы хотим переворота, да, весь город это знает, да, мы готовы выступать хоть сейчас! Но сидящий вполоборота к эсеру Чаплин вместо этого сказал совсем иное:
— Лучшее оправдание вашим словам, которое я могу придумать, — Чаплин начал мягко и тихо, как он обычно говорил, постепенно, однако, повышая голос, в котором прорезались металлические интонации, — что вы пьяны и не понимаете, что несёте. Но вы, кажется, не пьяны. Вероятно, вы переутомились, и вам везде мерещатся заговоры. В этом случае вам лучше никуда не уходить отсюда, а отдохнуть. Здесь есть биллиардная комната, а в ней диван. Расположитесь там, Степан Яковлевич.
Офицеры ошеломлённо и непонимающе глядели на Чаплина; только дисциплина сдерживала их от того, чтобы разразиться градом вопросов, возражений, возмущённых возгласов. Оглянувшись по сторонам, Миллер даже почувствовал, что все офицеры здесь как будто за него, что смотрят они на него с сочувствием, а на Чаплина с осуждением. Чаплин, однако, оставался спокоен. Он поднялся со стула, одёрнул на себе китель и обернулся к Раушу, деловито распорядившись:
— Барон, проводите нашего гостя в биллиардную и проследите, чтобы при нём не было оружия. Не забудьте запереть дверь. Ключ, по-моему, был у кого-то из половых. Юнкер, — обернулся он к Осипову, — а вы пойдите наружу и проследите, чтобы наш гость не удрал через окно.
Найти ключ оказалось делом несложным: он обнаружился в связке других ключей за пустой буфетной стойкой. Рауш отвёл Миллера в пустую биллиардную: зелёные столы, стойка с киями, сложенные треугольником шары в рамке на сукне, исписанная мелом чёрная доска на стене, пара обшитых зелёным дерматином кресел, круглый лакированный столик с пепельницей. Обещанный Чаплиным диван, однокомплектный с креслами, тут тоже был, стоял у стенки под картиной с каким-то кавказским видом в тяжёлой крашенной под золото раме. Два высоких окна выходили в мокрый, густо заросший лопухами сад: за этими окнами встал, прислонившись к стене, чтобы не намокнуть под дождём, похмельный, всклокоченный юнкер Осипов в накинутой на плечи шинели. Здесь Миллера и оставили.
— Лукошков, Гаджумов, ко мне, — позвал офицеров Чаплин, когда Рауш отвёл Миллера в биллиардную и закрыл за собой дверь. — Барон, вы тоже.
— Я понимаю, что вы все хотите спросить, — обвёл Чаплин прямым взглядом всех собравшихся у стола с картами офицеров. — Я не мог поступить иначе. Этот эсер может говорить искренне, но может быть и провокатором. Если бы я был один, может, я бы и рискнул, но я не буду рисковать вами, господа, и нашим общим Делом.
— Но!… — не сдержался Ганжумов, хотя Чаплин говорить ещё не закончил.
— Вы что-то хотели сказать, поручик? — спокойно обернулся к нему Чаплин.
— Господин капитан! Георгий Ермолаевич! — от волнения в голосе Ганжумова даже прорезался кавказский акцент. — Ну чего нам их бояться? Пускай провоцируют, за ними всё равно никого нет! Мы хоть сейчас можем, вон, — Ганжумов махнул рукой в сторону окна, — пойти и всех их арестовать!
— Вы правы лишь наполовину, поручик, — терпеливо возразил ему Чаплин. — Верных сил у Чайковского и Маслова действительно нет, но за ними могут стоять союзники. Чайковский старый лис, он вполне мог убедить, например, американцев (у него с ними хорошие отношения), что Чаплин — это такая, знаете, как говорят англичане, loose cannon, что он из-за своих амбиций готов устроить гражданскую войну в Архангельске. А чтобы союзники окончательно уверились в его словах, он хочет спровоцировать меня на то, чтобы я открыто заявил «да, я готовлю переворот». И вот наши доморощенные мастера провокации подослали нам этого Миллера, который всю дорогу меня выводил на то, чтобы я так ему и сказал. А как только бы я это сказал и отпустил Миллера, через час здесь был бы весь Мичиганский полк — вы ведь знаете, что он вчера прибыл в Архангельск? Как вы думаете, это совпадение, что этот Миллер появился на нашем пороге именно сегодня?
Чаплин помолчал, предлагая офицерам возразить. Никто не ответил.
— Я не дам товарищу Чайковскому удовольствия выставить меня оторванной пушкой, опасной для всех, — после паузы продолжил Чаплин. — Этот эсер не услышит то, чего хочет услышать, от меня, — Чаплин выделил последние слова интонацией. — Скорее это я покажу всему миру, что наш пряничный старичок сам не дурак поиграть в интриги. Вот что: сейчас от каждого из вас, господа, потребуется что-то сделать. Ганжумов, — Чаплин обернулся к осетину, — вы ведь, кажется, приятель князя Мурузи?
— Так точно, господин капитан, — ухмыльнулся Ганжумов, — мы почти что земляки.
— Славно, — бесстрастно ответил Чаплин. — Тогда идите сейчас в расположение Легиона и выведайте, как там дела, что слышно, не было ли каких-то приказаний. И, Бога ради, не болтайте лишнего, поручик.
— Я никогда!… — вспыхнул было Ганжумов.
— Не будем пререкаться, — поднял ладонь Чаплин, обрывая его. — Никогда так никогда: значит, и сейчас будете держать язык за зубами — я в вас верю. Это ко всем здесь присутствующим относится, кстати, — опять обвёл он взглядом офицеров. — Далее: Лукошков… — Чаплин вздохнул, глядя на поручика, осоловело опирающегося пятернёй о стол. Лукошкова, кажется, клонило в сон. — Вот что, Лукошков: толку от вас сейчас немного, так что отправляйтесь-ка домой, проспитесь. Как проснётесь, обходите всех наших, собирайте здесь. Зеленин, — обернулся он к следующему офицеру: — Я запамятовал: вы, Зеленин, по-английски говорите?
— Э литл бит, — ответил тот, сделав неопределённый жест рукой.
— С американцами объясниться сможете?
— Честно? — потупился Зеленин. — Не уверен.
— Хорошо, а французский-то хоть знаете?
— В пределах гимназического курса… — смущённо ответил Зеленин.
— Ну ничего, объяснитесь как-нибудь, — нетерпеливо отмахнулся Чаплин. — Поезжайте сейчас в расположение Мичиганского полка, придумайте какой-нибудь предлог, чтобы поговорить с его офицерами, какое-нибудь дело, что ли. Посмотрите, как там всё сейчас, не готовят ли они чего. Теперь вы, господин полковник, — Чаплин перевёл взгляд на Кольчицкого. — С вами, полковник, мы вместе подумаем, что делать дальше. А вам, барон, как своему адъютанту, я сейчас лично дам особое поручение: никуда не уходите. Господа офицеры, есть ли у кого-то вопросы?
— Господин капитан, а что делать потом, когда я всё разузнаю? — спросил Ганжумов.
— Потом ко мне с докладом, конечно, — кротко ответил Чаплин. — Больше вопросов нет? Тогда все за дело!
Офицеры, громко двигая стульями, потянулись к выходу: у стола остались только Чаплин, Рауш и Кольчицкий.
— Господин полковник, — почтительно, как всегда делал Чаплин, обращаясь к формально старшему по званию, но фактически своему подчинённому, — мы с бароном оставим вас на минуту?
— Не стоит, Георгий Ермолаевич, —понимающе сказал Кольчицкий, — оставайтесь здесь. Я выйду покурю.
— Хорошо, — кивнул Чаплин.
Кольчицкий вышел. В пустом зале остались лишь Чаплин и Рауш. Чаплин уселся за стол и жестом предложил садиться и Раушу.
— Барон, — тихо начал Чаплин. Он подобрал со стола потухшую трубку и, шумно подвинув к себе полную окурков тяжёлую хрустальную пепельницу, принялся выколачивать из трубки пепел. Не глядя на Рауша, он продолжил: — Вот что, Константин Александрович. Я дам вам опасное поручение. Впрочем, оно более опасно мне, чем вам: вы рискуете свободой, максимум жизнью; я, отдавая его, рискую офицерской честью. Понимаете? — быстро взглянул он зелёными водянистыми глазами на адъютанта. — Ладно, не буду тянуть кота за хвост. Вы сейчас пойдёте и освободите Миллера. Поможете ему бежать: через окно, что ли. Разберётесь, как. Миллеру скажите, что я согласен на все предложения. Разумеется, это будут лишь ваши слова. Я не дам вам никакого письменного приказа: в глазах других всё это будет вашей личной инициативой. Если Миллер тот, за кого себя выдаёт, всё будет хорошо. Если Миллер провокатор, то вы будете единственным, кто поддался на его провокацию. Теперь о том, что вы должны будете сделать, освободив Миллера. Он говорил о приказе о переводе нашего штаба на фронт. Этот приказ нужно будет перехватить. Если у него действительно так много союзников в правительстве, это вам удастся сделать без труда. Ни в коем случае нельзя, чтобы этот приказ был передан на фронт. Миллер был прав: любое наше выступление в таких условиях будет выглядеть трусостью штабных крыс. Однако, если мы получим этот приказ в руки и конфиденциально покажем его союзникам, мы убедим их, что эту чёртову интригу затеяли не мы, а наш седовласый светоч демократии.
— И вот ещё что, — помолчав, добавил Чаплин. — С моей стороны это не приказ: я не могу дать приказа подобного рода даже устно. Это просьба старшего товарища младшему. Я вам доверяю больше, чем иным офицерам своего штаба, Константин Александрович, поэтому и решил поручить это дело вам. Но если вы посчитаете, что она для вас по какой-то причине неприемлема, откажитесь — я не стану вас за это осуждать.
-
Ух, какие интриги! Чаплин уверенно обходит Филоненко на поприще коварных планов.
-
Понравилось предложение скандалов, интриг, расследований.
-
По правде, я бы тоже с собой так поступил
|
Романов:Заседание комиссии продолжалось минут двадцать: продлилось бы меньше, но учитель Гиацинтов оказался бестолковым — всё рвался поправлять формулировки, спрашивал, зачем так грубо, нельзя ли выкинуть хотя бы «беспощадно». Что-то девичье было в том, как он ломался, в итоге всё равно соглашаясь с каждым пунктом, с каждой формулировкой, на которой настаивал Романов. Этот Гиацинтов был на съезде в первый раз и ещё не понимал, как тут всё устроено; зато третий член комиссии, руководитель трудовой секции исполкома земский статистик Щипунов, который, навалившись локтями на стол, и писал текст проекта, понимал правила на ять и только оглядывался на Романова, когда тот диктовал: «…подлежащий беспощадному уничтожению, точка». Пока Щипунов дописывал, Романов подошёл к окну и выглянул наружу: улица, оставленные тележными колёсами блестящие ровные борозды в липкой серой грязи, обшитый деревянными досками зелёный дом напротив, детишки с визгом носятся по густым зарослям вокруг нужника. Щипунов дописал, Романов перечёл написанное, остался доволен и сказал идти в зал. Резолюцию зачитывал он сам, с места, рубя наступившую в зале тишину страшными фразами «бороться до последней капли крови», «никакой пощады пособникам империализма», «калёным железом выжигать ростки коллаборантства». Наконец, закончил уже скучно: «Ответственность за выполнение решения уездного съезда возложить на военную секцию исполкома, назначить ответственным военного комиссара Романова Андрея». В наступившей после окончания речи тишине все, кажется, ждали, что Романов ещё что-то добавит, но он лишь передал листок с проектом резолюции по цепочке членов президиума Боговому. Тот, оглядев зал, наконец, сказал: — Ну что же, проект представлен. Будем голосовать или есть желающие обсудить проект? Видимо, будем… — уже начал было он, но тут с места поднялся один из мужичков-смолокуров. Боговой с неудовольствием обратился к нему: — А, вот товарищ из Шеговар хочет что-то сказать. Пожалуйста. — Ну я, это… — начал густобородый смолокур, поднимаясь с места со смятой в руках шапкой. — Я, конечно, за Расею и всё такое протчее, но как-то уж чересчур оно всё. Уничтожать, уничтожать, давить беспощадно… Это что ж такое, товарищ военком, всех под корень? Романов хотел было ответить, но Боговой перехватил инициативу: — Вы, товарищ, давайте по делу. У вас свой проект резолюции есть? Если есть, предлагайте его, зачитывайте! Или вы хотите поправки в вынесенный на рассмотрение проект внести? Так это пожалуйста: вносите, это ваше право как делегата. Фамилия ваша Шемякин, верно? Вот я сюда пишу тогда: товарищ Шемякин, делегат Шеговарской волости, предлагает внести в проект резолюции… А, не хотите? Ну хорошо, тогда будем считать вашу реплику просто криком души. Дверь открылась, на пороге появился Василий Боговой. Он быстро прошёл в президиум и занял место рядом с братом, который наклонился и что-то недовольно шикнул ему. Василий сунул Ивану скрученный свёрточек жёлтой ленты телеграфного аппарата, тот быстро развернул, посмотрел и наклонился к сидящей рядом Шатровой, указав на Романова. Свёрточек по цепочке перешёл к Романову, тот развернул: меня березнике 600 человек встречу белогадов грудью Нули были зачёркнуты чернильным пером, снизу мелко добавлено рукой Василия Богового: «600 без нулей!» — Так, — пока Романов читал, Иван Боговой снова завёл волынку, — если больше криков души не будет, предлагаю приступить к голосованию за проект резолюции. Напоминаю товарищам: голосование по проектам резолюции у нас по-и-мён-но-е! Сейчас подходим к товарищу секретарю, он очень вовремя вернулся, говорим свою фамилию, он ставит в списке делегатов отметку «за», «против» или «воздержался». Так, не вскакивайте все сразу, товарищи, товарищи! — замахал Боговой карандашом на делегатов. — Давайте организованно, по-советски: сначала пускай подойдут члены президиума, потом… Потом, я повт… Поздняков, куда вы лезете? Сядьте! Как проголосуют члены президиума, идёт голосовать первый ряд, второй остаётся сидеть. Первый голосует, второй сидит, всем понятно? Потом первый ряд возвращается на места, голосует второй. Давайте не будем устраивать базар-вокзала тут, пожалуйста, я очень прошу. Давайте, президиум начинает голосовать. Другие сидят, сидят, да что ж такое-то! Не уходим никуда! Поздняков! Нет, потом по нужде выйдете, после голосования я объявлю перерыв. Сядьте на место, Поздняков, вы вдвое старше меня, а ведёте себя как ребёнок! Романов вместе с другими членами президиума встал, подошёл к Василию Боговому, сказал, что голосует «за», тот поставил отметку напротив фамилии в списке. Проголосовав, Андрей отошёл в сторону, чтобы не мешать другим делегатам, выстроившимся в очередь. К нему подошёл проголосовавший первым Иван Боговой, вполголоса начал: — Андрей, я хотел с тобой поговорить. Ты очень не вовремя меня прервал во время обсуждения вопроса, когда не дал выступать другим после Гиацинтова. Давай ты, пожалуйста, не будешь вмешиваться в то, как я веду съезд, хорошо? Я ведь не говорю тебе, как руководить твоим отрядом? Понимаешь, тут вопрос политический, — Иван Боговой оглянулся по сторонам, ещё понизил голос и ухватил Романова за рукав гимнастёрки, как пинцетом, — ты думаешь, зачем я на съезд эту дуру Шатрову притащил? Мне нужно, чтобы у меня на каждого, на каждого здесь было! Чтобы никто не смог отмолчаться! Советская власть, даже если сейчас уйдёт, рано или поздно сюда вернётся, и тогда я каждому гаду, каждому скипидарному барончику, который «и нашим, и вашим», покажу вот эти стенограммы, — он показал на стол президиума, где у места Шатровой лежала стопочка исписанных листков. — Спрошу каждого: а что же ты, сука, на седьмом съезде про англичан говорил, а потом взялся им жопу-то лизать, а? А в какой комиссии ты заседал, напомнить тебе? А как за резолюции голосовал? И все они, Андрей, должны знать, что у меня эти стенограммы есть, что их слова теперь все записаны! Понял теперь, почему я тут этот цирк с конями устраиваю? Здесь же каждый враг, если не открытый, то тайный. Вот разве что Гиацинтов этот идиот, но не враг, даже наш: его спасать надо. А остальные!… — Боговой с ненавистью махнул рукой. — С остальными мы потом разговаривать будем. Ты-то их, Андрей, ещё не знаешь, а я тут с ними седьмой съезд воюю, у меня все эти скипидарщики вот где, — Боговой рубанул себя ладонью по горлу и кинул взгляд на стенные часы: пятнадцать минут седьмого. — Ну что, ещё одну резолюцию ставим на повестку или завершаем заседание? — Бессонов — Да какие же ужимки тут, командир, — проходя по палубе мимо сложенных вдоль фальшборта поленниц, ответил Бессонову Валерьян Заноза, тридцатилетний череповецкий рабочий, коренастый и полноватый, в скрипящей чёрной кожанке, с деревянной кобурой с маузером на боку. Одет Заноза был по последней революционной моде — говорят, это Троцкий придумал одеваться в тюленьего цвета шофёрские куртки, цеплять красную звезду на кожаный картуз. Кто бы это ни придумал, выглядело это эффектно, сидело на человеке как матово поблескивающая броня, внушало трепет чернотой. Занозу даже, бывало, принимали за главного в их тройке — так по-чекистски он выглядел в своей перепоясанной кожанке. Но Заноза на лидерство не претендовал и всегда беспрекословно перенаправлял обратившегося к настоящему командиру, Бессонову. Заноза не мог бы быть командиром: он не был для этого политически подкован, а знал только, что в октябре власть взяли рабочие, и раз он — рабочий, то это его власть, его революция, которая уже дала ему многое и даст ещё больше. Конечно, — с готовностью признавал Заноза, — можно и погибнуть, но что ж с того? Без риска такие дела не делаются. Можно подумать, что Заноза был человеком в ЧК случайным — таких было много: были мерзавцы, пролезшие в ЧК, чтобы грабить, насиловать, сводить счёты. Их, конечно, разоблачали, ставили к стенке целыми отделами, но что поделать — все понимали: это явление есть, с ним надо бороться, но искоренить его пока невозможно. Но Заноза был не из таких: он был по-своему, по-революционному честен, считая, что незачем тащить на обыске у буржуя припрятанное золотишко, если безопасней честно сдать добычу и получить свою малую долю от конфискованного (такое практиковалось). Но это он делал не из страха: кажется, Заноза вообще мало чего боялся — во всяком случае, весной он не устрашился в одиночку выйти к захваченному дезертирами эшелону и, хоть убедить их сдать состав железнодорожному начальству не сумел, но впечатление на всех произвёл и в тот же вечер принял предложение Бессонова войти в состав губЧК. С тех пор служил честно, часто говоря, что за революцию готов отдать жизнь. Бессонов видел — не врал. Глебушка (товарищ Мартынов для чужих, но свои звали его ласково — Глебушкой) тоже был готов отдать жизнь за революцию, но в остальном был полной противоположностью Занозе. Девятнадцатилетний Глебушка был студентом Московского технического училища, выходцем из купеческой семьи. Долговязого, в своём сером летнем пальтишке нараспашку, в очёчках на длинном бледном лице с намёком на рыжие усики, в люстриновом костюме-тройке, с серебряными часиками в жилетном кармашке, его можно было представить кем угодно — скрывающимся от большевиков интеллигентом, ограбленным коммивояжером, агентом тайной организации Савинкова, переодетым юнкером даже, — но уж никак не чекистом. При этом Глебушка был человеком, что называется, стопроцентно своим, — если у него когда-то и был эсеровский уклон, то сейчас Глебушка искренне поддерживал Ленина и любил с огнём в глазах говорить о новом человеке, новом обществе, новом мире. Глебушка был идеалист, и, может, именно это качество позволяло ему так легко отнимать чужие жизни: так крестоносец рубил неверных во имя Божье. В Вологде Глебушка расстрелял в один присест десять человек, в том числе молодую женщину, а потом отказался от водки, которую после расстрелов обычно все глушили (правда, вместо этого долго ходил по лесу один). Глебушка вообще не пил и не курил: он был спортивным человеком, делал гимнастику по Мюллеру, а первые пару дней в Шенкурске даже пробовал по утрам плавать в тихой, покрытой белесым туманом Ваге. Потом, правда, перестал: вода была уж очень холодная, и Глебушка не хотел простыть. — А я заходил в эту типографию позавчера, — весело сказал Глебушка, споро стуча по пароходным сходням подбитыми железом штиблетами. Глебушка не любил сапогов и носил штиблеты с гамашами, будто по Тверскому бульвару собирался фланировать, а не по серым грязным улицам Шенкурска. — Она ведь всё ещё работает, только нерегулярно. Какие-то этикетки они там печатают для пека и скипидара. Я у них спросил — вас же закрыли, говорю? Они отвечают — закрыли не нас, а газету «За народ», а мы-то чего, дескать? Мы не редакция, мы набираем и печатаем. Сейчас заказ на этикетки, говорят, вот и работаем: как закончим, перестанем. Ну, контры я тут не увидел. — А что на самом деле печатают, ты проверил? — обернулся к нему Заноза. — Ну, не первый же день я на свете живу, — фыркнул Глебушка. — Да, машину, наборный стол обошёл, напечатанные листы посмотрел: действительно, этикетки. По-английски частично, правда, но английский язык у нас в Республике вроде не запрещён пока. Надписи я сверил, перевод точный, — Глебушка вдруг по-детски засмеялся: — Вы представляете, они мне взятку хотели сунуть: бутылку скипидара! Ну село селом! Такая, прости Господи, — Глебушка потряс рукой в воздухе, подбирая слово, — неиспорченность! Я им говорю: ещё раз такое увижу, я этим скипидаром знаете какое место вам намажу! А деньги, говорю, даже не суйте, а то мигом к товарищу Бессонову пойдём. — Ты зря веселишься так, Глебушка, — серьёзно сказал Заноза. — Что они деревенщина, это не значит, что они дураки. — Да я разве говорю, что они дураки, — поскучнел Глебушка и вздохнул. — Я понимаю, ситуация непростая. Город весь против нас. — Вот и я о том же, — согласился Заноза, оглядываясь по сторонам. Сойдя с парохода, чекисты двинулись вверх по крутому съезду, ведущему на главную улицу городка, Московскую. На пригорке, величественно возвышаясь над склоном, стоял большой многоглавый собор с заросшим травой двором и замшелыми плитами кладбища позади. Перед забором стояла группка монашек в чёрном, сразу оглянувшихся на чекистов — кожаное одеяние Занозы притягивало взгляды как магнит. — Вот где гнездо контрреволюции-то, — заметил Заноза, указывая на монашек. — Их бы пошерстить. — Сил достаточных нет, — заметил Глебушка. — Ну зайдём мы втроём, начнём там шорох наводить. Толка будет мало, а визга, дамских истерик этих, — много. А тут ещё и весь город сбежится: как же, наших святых заступниц обижают! Всех по веткам развешают, к гадалке не ходи. — Это ты прав, — согласился Заноза. — И Романов не выручит. — Я до сих пор привыкнуть не могу, — рассмеялся Глебушка. — Работаем с Романовым! Боюсь себе представить: вот закончится всё, вернёмся в Вологду, я начну невесте рассказывать — а вот в Шенкурске мы с Романовым вместе работали! Ладно хоть, не Николай его зовут. — Погоди, у тебя что, невеста есть? — заинтересовался Заноза. — Так ты даже с ней знаком, — с нарочитым безразличием, но на самом деле с удовольствием сказал Глебушка. — Нет, про Лиду я в курсе, — Заноза употребил новое, только появившееся выражение «в курсе», которым любили щегольнуть большевики. — А вы что, уже решили? — Вообще-то да, — важно сказал Глебушка. — А почему нам не сказал? — Как не сказал? Вот, сказал. — Скрытный ты жук, Глебушка! Вторую неделю как уехали, а он молчит! — Ну, предположим, я предложение сделал вчера, — деловито сказал Глебушка. Ему, кажется, очень приятно было поговорить на эту тему. — По телеграфу, представь себе. Очень модерново. — Это как фильма была, — усмехнулся Заноза, — «Барометр сосватал». А у тебя — телеграф сосватал. — Ну хватит с этим своим мещанством, это просто пошло, — скривился Глебушка. Он, сторонник всего нового, вообще любил упрекать других в мещанстве и пошлости. — Значит, гулять скоро будем на Глебушкиной свадьбе, да, Глебка? — Заноза потряс счастливо улыбающегося Глебушку сзади за плечи. — Хотя ты ж трезвенник, у тебя, небось, одно ситро на столах будет! А Лидка-то твоя хоть пьёт? — Ну так, — повертел рукой в воздухе Глебушка, — по случаям. Я её отучать от этого дела буду. А свадьбы не будет, скорее всего, никакой. Распишемся и всё. Всё по-деловому, по-большевицки. — Ну и когда? — Ну, как вернёмся или как она сюда переведётся по партийной линии. А чего тянуть-то? Такая жизнь: неизвестно, завтра жив будешь или нет. — Эт точно, — задумчиво протянул Заноза. Бессонов знал, что Валериан тоже был женат и дети у него были, только семья так и осталась в Череповце. Причём Заноза из Вологды к ним даже не ездил, хотя было недалеко. Неизвестно, почему. Бессонов оборвал болтовню подчинённых: приближались к типографии. Идти было совсем недалеко — подняться на горку да свернуть в первый же переулок, совсем не городского, а дачного вида — с зарослями крапивы и крушины по бокам, с деревянными зданиями, утопающими в густой, насыщенно-зелёной листве орешника, с тонущей в серой грязи серединой улочки и продавленными досками на кирпичах, проложенными поверх луж, хлюпающих, когда доска, прогибаясь от нажатия, уходила под воду. Типография располагалась в одноэтажном красном домике с мезонином в окружении прямых, медью отливающих сосенок:  Фотка современная, но пишут, что типография как сто лет назад была в этом домике, так и до сих пор там. Вон и таблички памятные какие-то висят. На усыпанном серыми иголками и шишками пригорке перед окнами сидел белобрысый паренёк лет двенадцати с папиросой в зубах. Завидев чекистов, он быстро вскочил, дробно стукнул в окно домика и бросился наутёк бежать, показывая грязные босые пятки.
-
Ну просто шикарный пост! Тут столько маленьких моментов, за которые стоит поставить плюс, что выделить один ну просто невозможно.
|
Оставив Бессонова в салоне, Романов зашёл в одну из кают второго класса, прокуренную едкой махоркой, заплёванную подсолнечной шелухой, и взял с собой русобородых, с водянистыми глазами ветлужан Филимона и Степана Чмаровых. Этих двух многие считали братьями — оба были из одной лесной ветлужской деревни, оба носили одну фамилию, оба двоеперстно крестились да и на вид были похожи. Были они, впрочем, не братьями, а всего лишь какими-то дальними родственниками, но молчаливо держались вместе, наособицу от остальных: давала знать староверская мнительность, заведомое неодобрение всего чужого. Эти двое вообще непонятно за что воевали: то ли за Советскую власть, то ли за погибель старого, погрязшего во грехе мира, которому в геенну огненную и дорога с Никоновых времён. Романов, сам вятский, ветлужан знал и знал, что в их глухих чащобах на такие вещи смотрят серьёзно. При Петре тамошние жители были готовы скорей спалить себя всей деревней в церкви, чем осрамиться причастием у попа-никонианина, и хотя за двести лет нравы смягчились даже на Ветлуге, но и сейчас, Романов знал, ещё остались медвежьи углы, где местные легко убили бы и закопали в лесу дурака, который принёс бы им в деревню, например, граммофон — вместилище бесов, завывающих чужими голосами. И вот там, на Ветлуге, на Керженце, ведь тоже кому-то сейчас приходится строить советскую власть, — отстранённо подумалось вдруг. — Вот кому тяжело-то, а не ему тут: с этими местными эсерами-кооператорами хотя бы можно на одном языке говорить. Гулко топая сапогами, прошли по тесным, с жёлтыми лакированными панелями, коридорам парохода, через перекинутые над полоской чёрной замусоренной воды сходни перешли на дебаркадер с пожелтевшим расписанием пароходов в рамочке и закрытыми на висячий замок залами ожидания. Миновали пулемётный пост у вторых сходней и спустились на песчаный, не оборудованный, уходящий крутым обрывом вверх берег. По крутому склону, ловко цепляясь копытами за выбоины, ходили козы, на обрыве сидел, обняв за шею белого козлёнка, голоногий парнишка-пастушок, с интересом глядящий сверху на происходящее на пароходе. Всё было очень мирно — вот разве что мостки для стирки пустовали. Здесь, у пристани, были мостки, куда раньше, видимо, бабы со всего города приносили стирать бельё: а как только встал у пристани пароход «Шенкурск» — перестали приходить, начали стирать где-то в другом месте. Подъём по круто уходящей вверх дороге с тележной колеёй в зелёном ковре спорыша дался Андрею тяжело: до войны он взлетел бы, и не заметив склона, и после Осовца тоже смог бы подняться, не сильно запыхавшись; но сейчас дыхание перехватило уже на полпути: горячими толчками заколотилось сердце, отдавая в уши, тянуще заныла рана в правой части груди, как всегда при глубоких вдохах. Теперь так будет до самой смерти, Андрей, это уже не исправишь. Обогнавшие военкома Чмаровы остановились, ожидая, когда военком одолеет подъём. Изо всех сил стараясь не встать на полпути, Романов сделал последние несколько шагов вверх, показал бойцам идти дальше и сам, часто, как собака, дыша, двинулся вперёд, хотя очень хотелось передохнуть. Дорога от пристани выходила прямо на главную улицу городка, Московскую, — впрочем, на первых порах от других улиц эта отличалась разве что шириной: тянулись серые заборы, запертые ворота, домики с мезонинами, серые скрипучие мостки под ногами, широкие как пруды зеркальные лужи посередине дороги. Из дворов тянуло банным дымком; квохтали куры, брехали собаки, доносились голоса. За одним забором росла яблоня, усыпанная налитыми, зелёными с красным плодами (уже обобранными понизу): рослый Филимон подпрыгнул и ловко ухватился за высоко висящую ветку, сдёрнув яблоко вместе с листвой. Отерев добычу о подол гимнастёрки, красноармеец с хрустом вонзил в яблоко зубы. Степан поправил на плече винтовку и с тихим треском крутанул в пальцах рябиновые чётки-лестовку. — Грешно эдак брать-то, Филь, — с укоризной сказал он земляку. — Если у контры— греха нет, — прожевав, убеждённо ответил Филимон. Грустная круглобокая лошадь, роняя в лужу золотистые шарики навоза, протащила мимо телегу с зелёной горой упоительно пахнувшего, слетавшего веером травинок на дорогу сена. Возом правил немолодой мужик: он опасливо кивнул проходящим красноармейцам и снял с седеющей головы картуз, а сидящий рядом с ним мальчишка в крапчатой рубахе обернулся Романову вслед, будто лешего увидал. По другой стороне улицы навстречу просеменили три монахини, пожилая и две молоденькие: в чёрных платах, открывающих лишь лицо, с корзинами в руках. Монашки обернулись на красноармейцев, красноармейцы — на монашек: те испуганно заотворачивались, ускорили шаг. — Много их тут, куриц, — с непонятным полувопросительным выражением сказал Филимон, оборачиваясь вслед. — Монастырь тут ихний, — ответил Семён. Каменного центра у городка по сути и не было — лишь в одном месте, невдалеке от высокого многоглавого собора, кучковались, перемежаясь деревянными, несколько каменных зданий — банк, полицейская управа, тюрьма, почтамт, куда тянулась одинокая линия телеграфных проводов на косых деревянных столбах. Здесь же на перекрёстке стояло и двухэтажное краснокирпичное здание местного кооперативного клуба, где с прошлого года заседали все советы и проводились съезды.  Это здание на заднем плане. А вот оно в наше время: Окна второго этажа были широко распахнуты: белая тюлевая занавеска выпросталась наружу и надувалась, как парус, лёгким ветерком. Близ входа группками стояли, шумно разговаривая, делегаты — бородатые крестьяне-смолокуры в смазных сапогах и выходных пиджаках, молодой сельский учитель в тонких очках, помятого вида мужички в солдатских гимнастёрках. У дверей с винтовками стояли два красноармейца— архангелогородцы Иван Пырьин и Тимофей Петров. Оба, дезертировав с фронта империалистической войны в прошлом году, не смогли найти подходящее душе занятие в родном городе, походили по митингам и вступили в Красную Гвардию — обычная, в общем-то, история: таких у него в отряде чуть ли не половина была. Романов спросил, всё ли спокойно и почему они вдвоём — уходя в обед со съезда, он оставил здесь трёх бойцов, а вот Пашки Кочана что-то видно не было. — По нужде отошёл, — ответил Пырьин, бросив короткий взгляд на Петрова. Понятное дело: куда-то смылся, а эти его покрывают. Устраивать разнос своим бойцам на виду у делегатов было бы тактически неверно, и Романов предпочёл сделать вид, что поверил. Спросил, где братья Боговые. — На то они и Боговые, что Бог весть, где шляются, — весело ответил Петров, — вот, убёгли куда-то. — Вроде до почтамту пошли, — добавил Пырьин. — Перерыв объявили до пяти часов, так что скоро, — Пырьин достал из кармана серебряные часики, щёлкнул крышечкой с гравированной подписью «Дорогому В. М. въ день 50-лѣтiя», — ага, скоро должны быть. Без десяти уж. Оставив Чмаровых у входа, Романов решил подождать местных исполкомовцев внутри, в зале заседаний. Поднялся по узкой лесенке, отдышался перед высокой белой дверью, вошёл в зальчик с президиумом, составленным из трёх сдвинутых вместе и укрытых скатертями столов. Слева от президиума стояла трибуна — настоящая трибуна из досок и покрытой красным лаком фанеры: Иван Боговой говорил, что её смастерили ещё в прошлом году после Февраля, когда тут всё только начиналось. На стене за спиной членов президиума висело украшенное бахромой тяжёлое, темно отливающее кумачовое знамя с нашитыми жёлтыми буквами: «Да здравствует совѣтская власть»: давно надоевшие всем еры Боговые с лёгкостью отбросили, а вот выкинуть яти никак не решались. На крайнем месте в президиуме сидела Екатерина Филипповна Шатрова — местная тридцатилетняя учительница, которая оказалась на съезде буквально против воли: она вообще не хотела никуда идти, но на съезде не было стенографиста, и сегодня с утра Боговые притащили её, единственную в городе стенографистку, на съезд чуть не плачущую — но ничего, привели, усадили стенографировать. Потом подумали: а секции народного образования-то у нас в исполкоме нет! А должна быть! Тут же, даже Шатрову не спросив, поставили её кандидатуру на голосование, делегаты (которым было всё равно) послушно подняли руки. А сразу вслед за тем Шатрову ещё и в президиум съезда выбрали, потому что место свободное было. Растерянная и не понимающая, что всё это значит, Шатрова пересела в президиум и продолжила механически стенографировать, а сейчас с усердием гимназистки-отличницы перебеливала протокол вечным пером. — Ах, это вы, товарищ Романов, — подняла Шатрова взгляд на военкома. Она носила пенсне на шнурочке, как Мария Спиридонова, забирала светлые волосы шиньоном и была в чёрном платье с подбитыми плечиками и сердоликовой брошкой, выглядя до неуместности по-городскому в местной рустикальной среде. — Скажите, а это правда, что англичане уже у Березника? — наивно поинтересовалась она, и Романов поспешил заверить её, что нет, конечно же, это неправда, что товарищ Виноградов уверенно держит фронт значительно ниже по Двине. Услышав ответ, Шатрова странно вздохнула и опустила взгляд, принявшись снова переписывать протокол. Хоть ничего и не понимает в политике, а в душе наверняка эсерка, — понял Романов, присаживаясь на своё место в президиуме, — все они тут эсеры. На противоположной от президиума стене висели стенные часы с гирьками в виде ёлочных шишечек: без семи пять. Военком принялся ждать: пустой зал, в два рядка разномастные стулья, табуретки и скамейки для делегатов, из открытых окон задувает свежим августовским ветерком с запахами травы, навоза и дымка. На столе бумаги, карандаши, школьная эбонитовая точилка с золотым профилем Лермонтова (почему Лермонтова?), а ещё стакан и старый графин с пожелтевшим стеклом, от которого и вода внутри кажется ржавой — вот её никто и не пьёт. Через четыре стула сидит Шатрова, низко сгорбившись над листками, шуршит пером, переводя взгляд с исчерканного черновика на беловик; нога в тёмном чулке и коричневом башмачке под стулом, завитки волос на склонённой белой шее: можно подойти сзади, наклониться и поцеловать её во вздрогнувшую шею, и никто тебе, уездвоенкому, ничего не сделает, и все это знают, и ты это знаешь, и Шатрова это знает. Это можно было бы сделать прямо сейчас, но — дверь хлопнула, вошли три бородатых делегата в поддёвках, уселись в задний ряд. Это отказники — вспомнил Романов, — они, извиняясь, объясняли военкому в перерыве, что их послали волости с делегатским наказом только слушать, но не голосовать. Странно, но дело их: в конце концов, их всего трое, и это ничего не меняет. Кто-то из отказников достал кисет, принялся набивать трубку, раскуривать. Окна здесь потому и держали открытыми, что курили на съезде все, кроме разве что Шатровой, и та подняла было недовольный взгляд на отказников, но сказать ничего не решилась и вернулась к своим бумагам. Сидеть было скучно, а делать было нечего: от скуки Романов и сам достал папиросу, придвинул к себе пепельницу, закурил. Сизый дым пускал. Разглядывал металлическую пепельницу, видимо, китайскую: простоватую такую, но не без изюминки – сидит старик на краешке её, традиционный такой китайский рыбак, всё как надо. Штаны закатал высоко, опустив прямо в пепельницу босые ноги, а в руках держит тонкую удочку. Вот и получается, что ловит этот дедок неудачливый серый пепел, ссохшиеся плевки, подсолнечную шелуху, всякую погань. Прямо как мы. Мы сидим терпеливо у реки жизни, надеясь, что однажды принесет нам удача вкусную рыбешку – мы её, значит, подсечем, выловим, оглушим, бабу свою накормим, семью целую, да и самим нам будет почёт – ишь, какой умелец! А на деле попадается нам поганый мусор, а река грязная, больше болото ртутное напоминает – пепел на поверхности, смрадный дым кругом… Неважно. Дверь начинала хлопать всё чаще — делегаты возвращались с перерыва. В три минуты шестого появился Иван Боговой, молодой статный парень с копной чёрных волос на прямой пробор, в потёртой кожаной куртке, с картузом в кулаке. Боговой широким шагом прошёл через зал к президиуму и, не садясь на своё место, остановился напротив Романова: — Товарищ Романов, вы уже тут, — с места в карьер начал председатель съезда и наклонился к Андрею, понизив голос, — мы с братом сейчас на почтамте были, вызывали Березник. Виноградова там нет. Вызвали Котлас — он там. Виноградов удрал до Котласа, понимаете! В Березнике, кажется, из наших один телеграфист и остался. Дорога англичанам на Вагу открыта! Васька пока остался на почте, работает с телеграфистом, чтобы не разболтал. Я предлагаю пока делать хорошую мину при плохой игре: за сегодня быстро примем все резолюции… Романов перебил Богового, сказав, что сейчас уже пять часов вечера, и сегодня все резолюции принять не получится при любом раскладе, разве что если сидеть до двенадцати ночи, но сидеть до ночи не будут делегаты. — Ну хорошо, хорошо! — согласился Боговой. — Пара дней у нас ещё есть, так что давайте сегодня и завтра всё примем, что нужно, закроем съезд, — и надо сматывать удочки! Я серьёзно!
-
+
полет нормальный, хороший такой полет
-
Мне нравится насыщенность мелочами и общая...живость текста)
|
8:20
Барон Рауш говорил, но Чаплин, кажется, слушал его невнимательно: его, да и всех, отвлекали то прекращающиеся, то неожиданно, как икота, возобновляющиеся возгласы из-за окна. Вот Рауш говорит-говорит, про англичан, про демократию, про газету, а на середине фразы из-за окна вдруг доносится вопросительно-пьяное:
— Пулемёт! Пулемёт? Где мой пулемёт? — хочешь-не хочешь, не сосредоточишься.
Наконец, Георгий Ермолаевич не выдержал:
— Погодите минуту, барон, — прервал он Рауша. — Кто это там пулемёт потерял? — спросил он у офицеров.
— Да это Томара, — ответил Зеленин, отрываясь от штосса. — Владимир Михайлович, подпоручик, — пояснил он, чтобы не усугублять неразберихи. — Завёл собаку себе, назвал Пулемётом.
— Идиотизм, — тихо сказал Чаплин, потирая лоб, склонившись над картой. — Идиотизм и хаос. Так что вы там говорили, барон?
Константин Александрович повторил про газету. Судя по виду Чаплина, Георгию Ермолаевичу это предложение не понравилось:
— Знаете, Константин Александрович, — тяжело сказал Чаплин, откладывая на стол погасшую трубку, — вы повторяете наши прошлогодние ошибки. Если мы все вместо того, чтобы сражаться против красных, начнём строчить статейки в газеты… — Чаплин умолк и покачал головой, предлагая барону самому подумать, чем может такое обернуться.
— На агитацию лучше отвечать не словом, а делом, — заметил Кольчицкий. — А про ваше предложение включать в правительство местных я скажу, как архангелогородец: областничеством оно попахивает. Так и до украинства недалеко: выдумаем себе флаг, язык изобретём… поморский какой-нибудь. Вот если с вашим принсипом (Кольчицкий говорил слово «принцип» так, через «с» и с ударением на второе «и») подходить, какое в правительстве место должен занять Георгий Ермолаевич? Он же не местный, как и вы. А все, думаю, согласятся, что Георгий Ермолаевич должен быть не менее чем главой военного отдела.
Георгий Ермолаевич грустно помалкивал, не соглашаясь и не возражая. Вообще Кольчицкий Чаплина поддерживал, кажется, в любой ситуации и, несмотря на старшинство в возрасте и чине, с готовностью признавал его лидерство.
— Флаг должен быть с рябчиком, — подал голос от соседнего стола поручик Ганжумов, отложивший карты и вальяжно откинувшийся на спинку стула с серебряным портсигаром в руках.
— Что? — обернулся Чаплин.
— Флаг, — повторил Ганжумов. — Флаг нэзалэжной Архангельщыны должен быть с рябчиком. Мы их столько тут съели, что надо воздать гордой птице дань уважения!
— Вы сейчас серьёзно, поручик? — строго спросил Чаплин.
— Нет, — сразу поскучнев, ответил Ганжумов.
— Плохо, — тихо сказал Чаплин. — Надо бы всем быть посерьёзней.
— О, новое явление: Мартын с балалайкой, — с глумцой сказал Зеленин, указывая на вход, где появился незнакомый большинству штатский, ставящий зонт в подставку у входа и снимающий шляпу.
Штатские в «Кафе-Париж» не то чтобы не заходили, — нет, их было довольно много (хотя офицеров больше), но по большей части это были сотрудники канцелярий американского, английского, французского и итальянского посольств, деливших между собой основную часть бывшего губернаторского дома: здесь они завтракали, обедали, ужинали, встречались с захаживающими в это заведение местными дамами, — но сейчас иностранцев в «Париже» не было: рабочий день в посольствах начинался поздно, в десять утра, и все посольские работники ещё спали. Да и по виду было ясно, что вошедший — наш, русский: в первую очередь по приталенному, когда-то дорогому, но уже очевидно поизносившемуся костюму с двубортным пиджаком.
Как все поняли, что Степан Яковлевич чужероден этому заведению, так и сам Миллер понял то же. Про «Париж» он много слышал, но ещё здесь не бывал — кафе работало лишь пятый день, зато, похоже, круглосуточно: выкинуть оккупировавших угол кафе офицеров всё равно возможности не было, и швейцар продолжал сидеть на стульчике у двери, подрёмывая. Кроме занятых офицерами нескольких столов, загромождённых тарелками, стаканами, кофейными чашками, с разложенной картой, остальные столы были пусты. Пара окон была открыта, и по залу гулял, шевеля скатертями, лёгкий прохладный сквознячок со свеже-землистым запахом дождя. Лакей-латыш в белом переднике флегматично возил по полу шваброй, оставляя в проходе блестящую полосу, у буфета стоял, облокотившись на стойку локтями, какой-то чаплинский офицер в погонах — приглядевшись, Миллер узнал поручика Лукошкова, которого как-то видел в присутственных местах. На небольшой сцене в конце зала, тихо переговариваясь, работали двое плотников в робах, разбирая каркас декорации, оставшейся от ночного представления (здесь танцевали канкан).
Против воли Степан Яковлевич остановился у входа под взглядами офицеров, один за другим обернувшимися на него. А Чаплин в это время наклонился к Раушу:
— Барон, не сочтите за труд: сходите выясните у этого шпака, что ему нужно.
-
Разложенчество как оно есть. Нет слов
|
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Чудесный мальчик и чудесный пост, насыщенный вкуснейшими подробностями! Bravo!
-
Заяц Матео, и его воображаемые друзья Фабио, терракотовая Печка и кростата с курицей.
-
Чувствуется работа с материалом, ну и конечно стиль. Отличный старт!
-
я зачиталась.
Мальчик с его душевными терзаниями живой, как на ладони.
Его понимаешь и чувствуешь.
И даже пекарню с пирогами видишь и пробуешь.
Шикарно
|
— Истинно так, Степан Яковлевич! — согласно кивнул Филоненко на последнее замечание Миллера. — Всей этой кафе-парижской братии без нас, демократических политиков, не обойтись: вот как ты представляешь себе их правительство? Чаплин председатель, поручик Ганжумов на финансовый отдел, а молодого барона Рауша на иностранные дела? Кто с таким, с позволенья сказать, правительством будет разговаривать из союзников? Только ведь это мы с тобой это понимаем, а эти офицеры, у которых одно православие-самодержавие в голове? — Филоненко раздражённо постучал по подлокотнику кресла, выражая этим твердолобость офицеров-монархистов.
Миллер знал эту манеру Филоненко: Максимилиан Максимилианович вообще часто считал людей вокруг дураками — это была неприятная его черта, часто свойственная людям с интеллектом выше среднего, но не гениям: видя, что большинство людей вокруг глупее их, они часто забывают, что есть и меньшинство, и думают, что любым человеком можно играть как фигурой на доске. Миллер помнил, как летом прошлого года Филоненко выступал в армейском комитете Юго-Западного фронта с речью о союзниках, и по этой речи выходило, что англичане, французы, американцы, японцы даже — весь мир заходится поросячьим восторгом от русской революции. Это было стыдно слушать: Миллер знал, что Филоненко ничего подобного на самом деле не думает, и после речи спросил Максимилиана Максимилиановича, неужели тот полагает, что людей можно так обманывать. Филоненко тогда, кажется, даже не понял вопроса: «Так ведь сработало», — сказал он, пожав плечами. А в другой раз не сработало, и когда Филоненко попытался проделать тот же номер на митинге среди полностью разложившегося, погрязшего в пьянстве и анархии полка 79-й дивизии в дождливый, слякотный день в карпатских лесах — солдаты не пожелали слушать Филоненко, закричали, загудели его речь, а потом, страшно напирая серой, грязной, вшивой толпой, схватили всех (и Миллера в том числе) и решили повесить. Филоненко беспомощно глядел по сторонам, а Миллер запомнил только, как какой-то худенький, запаршивейший солдатик, приплясывая на одной ноге, всё совал Филоненко под нос вонючую портянку и кричал, что у него в окопах ноги, ноги сопрели!
Положение тогда спас только агитировавший вместе с ними Анардович — старый эсер, сражавшийся с казаками ещё на баррикадах в Сормове в 1905 году. Вместо того, чтобы бледнеть и просить пощады, Анардович разразился в адрес солдат отборными матюками, называя их сукиными ублюдками, неблагодарной скотиной, бешеными свиньями:
— Я за вас, гадов, пятнадцать лет в тюрьмах да на Амурской колесухе, а вы меня в петлю?! — брызжа слюной и вырываясь из рук державших его солдат, с возмущенной обидой кричал эсер. — Ну вешай, вешай, мразь! Я и из петли тебе скажу, что ты сволочь!
И этот искренний гнев человека, не столько боящегося за свою жизнь, сколько оскорблённого тем, как отнеслись к нему люди, за которых он так долго боролся с самодержавием, вдруг подействовал на солдат — агитаторов не только отпустили, а ещё донесли до автомобиля на руках (правда, заново принявшись бросать камни вслед). А Филоненко ничего, кажется, так и не понял и приписывал тогдашнюю неудачу какому-то стечению обстоятельств, даже не предполагая, что дураки-солдаты могли раскусить его фальшь.
— Итак, Степан Яковлевич, ты с нами? — дождавшись утвердительного ответа, Филоненко продолжил: — Хорошо. Значит, вот о чём следует знать Чаплину: приказ о переводе в район Обозёрской, — Филоненко произносил название станции через «ё», хотя это было неправильно, — будет дан завтра и передан на фронт телеграммой. И здесь вот какая любопытная комбинация получается: если на фронте узнают, что Чаплин получил приказ и после этого выступил против Чайковского, все подумают, что Чаплин просто струсил и не хочет идти на фронт. Чаплин, конечно, скажем уж честно, не блестящего ума человек, но не трус — что есть, то есть. И вот тебе, Степан Яковлевич, первый туз в рукаве для разговора с ним: пусть видит, что мы не в приживалки к нему набиваемся. Итак, значит: ты в «Париж», я в Искагорку! Нельзя терять времени!
Миллер понимал, почему Филоненко решил распределить обязанности таким образом: самому ему в «Париже» показываться было небезопасно. Мало того, как офицеры-монархисты относились к эсерам вообще и прошлогодним фронтовым комитетчикам в частности, за плечами у Филоненко, давно ещё, до знакомства с Миллером, была какая-то неприятная история: то ли он приказал кого-то высечь, то ли его самого высекли — в общем, там фигурировали розги, и, кажется, это не добавляло ему уважения в глазах офицерства.
Тем удивительней было видеть, что Филоненко решился предложить офицерам союз: с его стороны это было вдвойне рискованно, и тем понятней было, что ситуация и правда нешуточная. Миллеру Филоненко, кажется, доверял и считал, что тот исправно выполнит поручение своего старого товарища. Но не ошибался ли он в этом? Стоило ли присоединяться к мятежу офицеров, ненавидящих и презирающих таких, как Миллер? Может, стоило донести о планах Филоненко в правительство и попытаться найти для эсеровской власти опору, способную защитить власть от посягательств мятежников? Опереться — на кого? На рабочих предместий, куда направляется сейчас Филоненко? На союзников? На бойцов отряда Берса*, арестованных Чаплиным в начале августа и оттого озлобленных на него? Привлечь к защите правительства местных знаменитостей типа этой Ласточки Революции, которая, возможно, своей популярностью соберёт на защиту людей? Или всё же не пытаться противиться неизбежному, согласиться на план Филоненко и попытаться выбить для себя место в новой власти? Выбор лишь за ним.
-
Ох, Филоненко, ох, чертяка!
|
Да, Нижний Новгород, куда Варя вернулась в июле 1905 года после своего путешествия, был скучен и непригляден. Неприглядно было и само лето — холодное, дождливое, и знаменитая Ярмарка за Окой в тот революционный год будто тоже скукожилась: полупусты были торговые ряды, унылы аттракционы, хмуры рабочие с приказчиками. А потом был август, и начались занятия в гимназии: начинался выпускной год, первый класс — в Мариинских гимназиях шёл обратный счёт классам: начинали учиться в седьмом, заканчивали — в первом, и оценки ставили как в юнкерских училищах, по 12-балльной шкале. И сперва казалось, что выпускной год будет таким же скучным, если не скучней, чем предыдущие — но уже в октябре началось такое, чего Варя никогда ранее не видела. Это началось незаметно, как незаметно начинается болезнь или эпидемия: как человек сперва не обращает внимания на колику в животе, как газеты не сообщают о том, что в Китае от какой-то заразы умерло несколько человек, так и в сентябре 1905 года никто сперва не заметил, что в Москве начали бастовать рабочие типографий. Забастовки в этом революционном году вообще случались постоянно: вставала то одна фабрика, то другая, то несколько сразу, потом где-то объявляли локаут, где-то рабочие сами возвращались за станки — в общем, если в январе, после Кровавого Воскресенья, новости о забастовках ещё кого-то удивляли, то к сентябрю от них уже все подустали. Но московская забастовка печатников не прекращалась: напротив, теперь уже питерские типографии присоединились к ней в знак солидарности. Это уже заметили: отец, читая «Нижегородский листок», прокомментировал, что с требованием о всенародно избираемом парламенте бастующие слишком размахнулись — никто такого им, дескать, не даст. И, возможно, он был бы прав, но в конце сентября в Петербурге скоропостижно скончался князь Трубецкой, ректор Московского университета. Варя не очень знала, чем этот князь был знаменит, но слышала, что он был известным либералом (то есть был за парламент, как отец, — отец у неё тоже был либералом, это Варя знала). Проводы тела Трубецкого из Петербурга и похороны в Москве переросли в многотысячные демонстрации, после которых стало ясно — это уже не шутки, в Империи творится что-то серьёзное. И действительно, в начале октября забастовка начала разрастаться, расползаться по стране. Отец убедился в серьёзности происходящего, когда о стачке объявили московские железнодорожники: Москва была главным транспортным узлом России, и остановка её железных дорог естественным образом парализовала и ведущие в неё ветки: например, нижегородские железнодорожники колебались, присоединяться к стачке или нет; но после того, как забастовала Москва, отправлять поезда всё равно стало некуда, и работа прекратилась сама собой. Вслед за железными дорогами забастовали телеграфы и почты: в Нижний перестали доходить новости из Питера и Москвы. Дальше всё начало сыпаться, как костяшки домино: одна за другой вставали фабрики, заводы, учреждения. Отцовские пароходы заканчивали свои рейсы, возвращались в Нижний и тут вставали на прикол в затоне. Удивительно было проходить по Верхневолжской набережной и видеть пустую серо-стальную Волгу — обычно-то река была заполнена туда-сюда снующими пароходами, катерами, баржами. Удивительны были вымершие будто улицы, где не работали магазины, присутствия, конторы. Казалось, вся Империя, весь огромный её механизм со скрипом и искрами тормозил, замедляясь до полной недвижности, будто у державы сорвали какой-то стоп-кран, и, какие бы рычаги беспомощный машинист ни дёргал, какие бы указы в спешке ни принимал — никак нельзя было привести машину снова в движение. Против ожиданий, отец не только не был в ярости от забастовки и денежных потерь, а, наоборот, поддерживал бастующих. Эти дни он проводил отнюдь не в бездействии: телефон не работал, и он сам мотался с кучером Филиппом в коляске по разным своим деловым партнёрам, что-то с ними обсуждая, а те заезжали к нему. — Да организуй ты своим рабочим временную столовую! — гремел отец из кабинета, где обсуждал что-то с Блиновым, владельцем роскошного пассажа на Рождественской улице. — Не обеднеешь же, чай! Пускай стоят, стоят до конца! Такого шанса ещё сто лет не будет — сейчас гнуть, гнуть Николашку надо! В понедельник 17 октября Варя отправилась на учёбу ко второму уроку: первым был Закон Божий, и этот предмет Варя как староверка с полным правом пропускала. Мариинская гимназия находилась на той же Ильинской улице, в полуверсте от Вариного дома, поэтому в отцовской коляске Варя ездила туда только в плохую погоду, и то не всегда. Но сегодня погода была отличная: стоял яркий, солнечно-рыжий осенний день, по панелям как стаи леммингов с ветром носились облетевшие листья, лицо задувало мелкой хрустящей на зубах пылью. Улицы уже привычно были пусты — лишь на углу, будто забытый кем-то, стоял городовой в шинели, да временами проезжал извозчик, и тем удивительнее было увидеть суматошное столпотворение в белых сводчатых коридорах гимназии, окунуться в восторженно-нервный гвалт голосов, заметить свисающий со стены у раздевалки кусок красной материи. Оказалось, что гимназия — подумать только! — тоже присоединилась к забастовке: во время первого урока под окнами появились гимназисты из первой мужской, вразнобой закричавшие, чтобы девочки тоже снимались с учёбы, потому что все гимназии и реальные училища Нижнего присоединяются к всеобщей политической стачке. Уроки тут же были оставлены, и самое удивительное, что учителя этому даже не препятствовали, и наставница Вариного класса, молодая симпатичная полушведка Елена Карловна Лундстрём, только посоветовала гимназисткам не лезть на баррикады, когда такие появятся. Все почему-то ждали появления баррикад, все были уверены, что со дня на день их начнут строить, и расходились лишь во мнении, где: здесь в городе или в заводском пригороде Сормово. В том, что будут баррикады и уличные бои, не сомневался и отец, который искренне обрадовался новости о гимназической забастовке — теперь появилась причина не выпускать Варю на улицу, где, отец был уверен, вот-вот начнут стрелять. Весь тот день он, как зверь в клетке, бродил взад-вперёд по тёмной столовой, не зажигая керосинки (а электричества не было), Марья Кузьминична не выходила из молельни, лакей Хрисанф сидел на крыльце с ружьём, ожидая появления мародёров, кучеры Филипп и Иван готовили коляски, чтобы спешно уезжать из города, если вдруг что, горничная Матрёна успокаивала Варю, что всё будет в порядке, хотя сама была до смерти перепугана. Освещение не работало: улицы вечером погрузились в первобытный мрак, и бледным пятном по облакам шарил луч прожектора с парохода речной полиции. Где-то в Петербурге граф Витте носился между представителями бастующих и императором с правками Манифеста, великий князь Николай Николаевич угрожал государю, что застрелится, если тот не подпишет Манифест, германский броненосец шёл по Балтике на восток, чтобы эвакуировать кузена Никки, и огромная Империя замерла в напряжённом ожидании, как бегун у стартовой черты. И, когда Варя, еле уснувшая в ту ночь, проснулась на следующее утро, ей вдруг стало сразу ясно, что всё решилось и решилось лучшим образом: выглянув в окно, она увидела валящую по улице толпу — безоружную, радостную, с откуда-то взявшимися красными флагами, бантами, цветами. Вряд ли в этот день её смог бы удержать дома даже отец: но отца не было, не было и Марьи Кузьминичны, и из всей прислуги дома оставался только старый Хрисанф да кухарка Настя — все остальные, как и весь город, как и вся страна, были на улице. Это была осенняя Пасха, это было лучше, чем Пасха, — по улицам валила счастливая ликующая толпа: распевались революционные песни, которых Варя никогда не слышала (как грозно это звучало из уст рабочих — «сами набьём мы патроны, к ружьям прикрутим штыки!»), летели кумачовые знамёна над головой, в волосах Вари скоро оказался стебелёк с пышной красной гвоздикой: цветки щедро раздавал из большой корзины приказчик цветочной лавки. Толпа сама вынесла Варю на Благовещенскую площадь перед Кремлём, где собирался митинг, и оратор надрывно кричал о победе над самодержавием, но тут же призывал и не верить подписанной царём бумажке — и удивительно было встретить в толпе не кого-нибудь, а Варину классную наставницу, Елену Карловну Лундстрём — тоже счастливую, с большим красным бантом на кончике зонтика, под руку с незнакомым Варе молодым человеком в форме железнодорожного ведомства, тоже с красным бантом на груди. — Варя, Варя! — закричала Елена Карловна, маша рукой из толпы и подзывая ученицу к себе. — Свобода, Варечка, свобода! — глядя, как классная дама чуть ли не прыгает от восторга, как девчонка, сложно было поверить, что она кому-то ещё четвёрки и шестёрки ставит за поведение. Но тут же Елена Карловна спохватилась: — Но забастовку гимназическую мы с завтрашнего дня прекращаем, Варя, имейте в виду! — и снова переливисто рассмеялась. Варя потом издалека видела, как Елена Карловна целуется с этим железнодорожником. Завоёванным свободам — собраний, слова, союзов — радовались все, но в Вариной семье особо радовались одной, самой важной для них: свободе совести. Старообрядческая вера с апреля 1905 года уже не считалась незаконной, как раньше, но всё же признавалась лишь как «терпимая» конфессия; теперь же все религии были уравнены в правах: староверы получили возможность открыто строить церкви, монастыри, открывать семинарии, выпускать газеты. В Печёрском монастыре устраивались невиданные зрелища — диспуты староверского священства с никонианским: — Не следует обманывать публику! О делах не церковных, а политических вы говорите! — возглашал никонианский епископ Исидор. — Ваше Преосвященство! — пылко возражал ему староверский миссионер Шурашов: — Разве ваши архиепископы и епископы политиканы? В таком случае и вы политикан! — Я хозяин здесь! — выходил из себя Исидор, чувствующий, что уступает в споре. — А ты молчи! — Не буду молчать! — кричал в ответ Шурашов. — Теперь дана свобода! Я вам не подчинённый, и потому буду говорить!* Пожертвования от староверов-купцов текли рекой, и отец с головой ринулся в религиозно-просветительскую деятельность, задумывая один грандиознее другого планы: организация ведения метрических книг, как у никониан, строительство церкви в Казани, выпуск журналов: о, журналы в эту послеоктябрьскую пору, кажется, стали выпускать все вплоть до дворников. Цензура была отменена, и на лотках появлялись политически-сатирические журнальчики с названиями один другого причудливей, с иллюстрациями одна другой декадентней — «Жупелъ», «Пулемётъ», «Адская почта», а уж как в таких изданиях поносили царя, императрицу, всех министров без исключения — год назад за такое можно было бы отправиться прямиком в Акатуй, а сейчас — ничего; оказалось, что царя можно открыто ругать, и тебе ничего за это не будет! … День рождения Вари был 1 декабря, но эту дату в семье не отмечали, празднуя вместо неё именины, Варварин день, 4 декабря. Именины было принято отмечать вместе с крёстными родителями: Дмитрием Ивановичем и Александрой Александровной Четвериковыми. Александра Александровна происходила из рода Алексеевых — разумеется, старообрядческого, конечно, купеческого, но замужем была… за потомственным дворянином. Это было редкостью среди купеческой, а уж тем более древлеправославной среды, но объяснялось тем, что Дмитрий Иванович Четвериков, её муж и Варин крёстный отец, был дворянином лишь во втором поколении: благородное звание было пожаловано за вклад в благотворительность его батюшке, московскому купцу (ну разумеется). Дворянской спеси Четвериковы понахвататься ещё не успели и среди московских, рыбинских и нижегородских купцов считались своими людьми — именно поэтому отец, который «благородий» терпеть не мог, с Четвериковым был дружен и с удовольствием ездил к нему, хотя при случае и ругал Дмитрия Ивановича, который был, по мнению отца, нерадивым хозяином. У Четвериковых была под Москвой большая суконная фабрика, продукция с которой успешно конкурировала с заполонившим было Россию сукном из Лодзи, но управлял ей брат Дмитрия Ивановича, имевший больше деловой хватки; Дмитрий Иванович же охотней занимался земскими делами, организацией школ и обустройством своей усадьбы. У них близ фабрики была целая усадьба с парком, как у каких-нибудь князей, а ещё одна усадьба — прямо в Москве, в Токмаковом переулке. «Обарился» — недовольно говорил об этом всём отец, который усадебной и вообще сельской жизни не признавал. 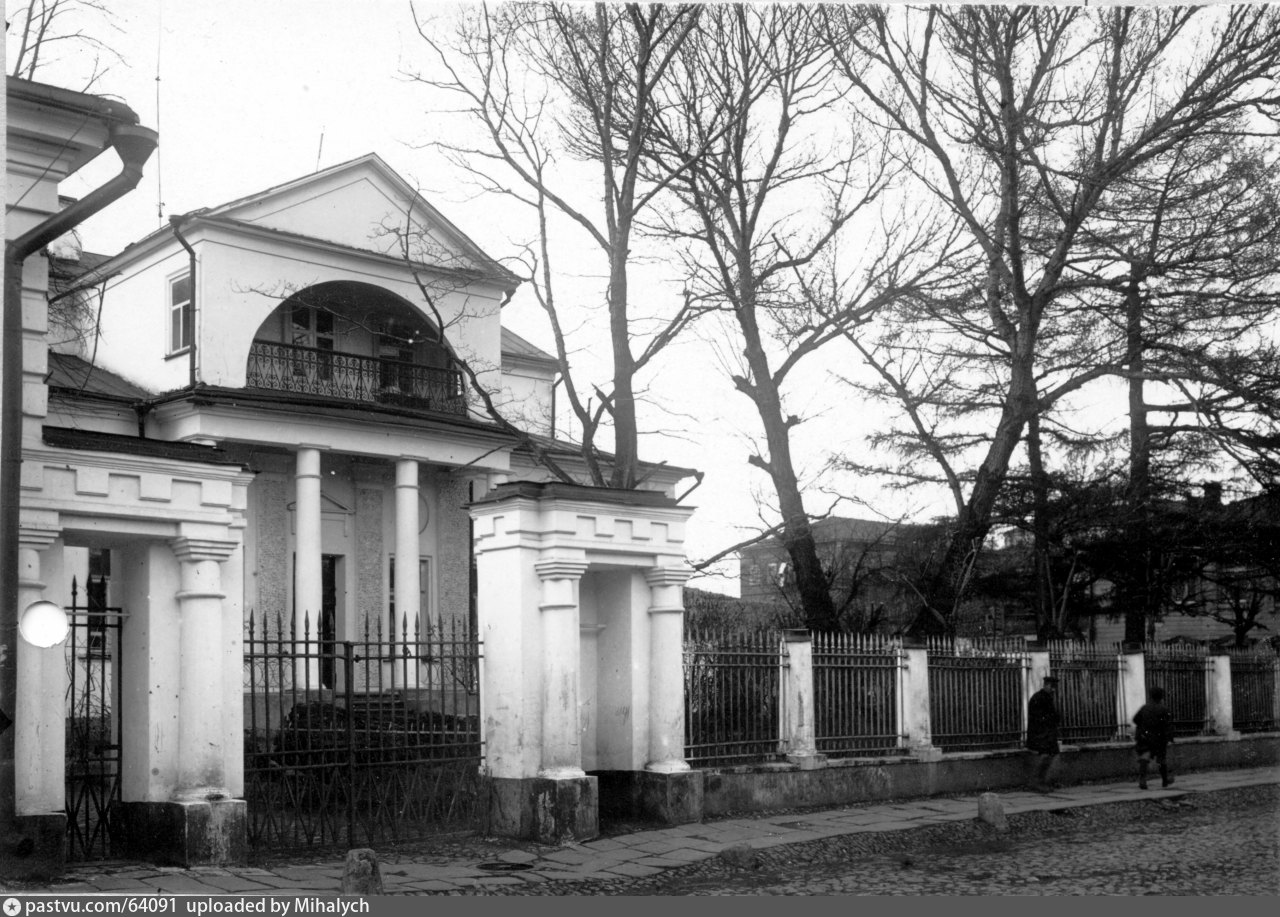 Усадьба Четвериковых в Токмаковом переулке в Москве Разумеется, Четвериковы, хоть также происходили из старообрядческого рода, давно уже перешли в никонианство: староверов в дворяне не производили. Но, это, кажется, для Четвериковых было не очень важно — семья у них была, что называется, прогрессивная: религии они предпочитали искусство и не обращали внимания, кто как крестится. В их доме куда важнее было то, кто какие книги читает и какие знает языки, — Александра Александровна, например, знала четыре, в том числе итальянский. Её мать была гречанка, и это чувствовалось в смугловатом, черноглазом её облике. По-французски она говорила превосходно, изысканно грассируя, так что Варе приходилось не раз краснеть за свои гимназические знания, когда Александре Александровне приходило в голову поговорить с крёстной дочерью по-французски. Александра Александровна была примечательна не только сама по себе, но и родством со знаменитыми людьми — и не столько даже с Николаем Александровичем, её покойным братом, бывшим московским городским головой, сколько с кузеном, имя которого сейчас гремело по всей России — Константином Сергеевичем Станиславским, основателем знаменитого Художественного театра. Именно благодаря Художественному театру Варя и оказалась в декабре 1905 года в Москве: обычно на её именины Четвериковы приезжали в Нижний, но в этот раз отец решил, что сами втроём поедут к ним в Москву: во-первых, отметить Варино семнадцатилетие, а во-вторых — посмотреть, наконец, «Детей Солнца», новую постановку Художественного театра по пьесе Горького. Разумеется, отец, никогда не интересовавшийся театром, не мог пропустить пьесу своего обожаемого Горького и давно бы уже съездил и посмотрел, благо не первый месяц она шла, но революция, сумасшедший 1905 год всё не давал выбраться. И вот — выбрались, и было весёлое празднование именин в доме Четвериковых: и дом был старинный и огроменный, с бальным залом времён Наташи Ростовой, с колоннами, янтарными лепестками отражений хрустальной люстры в начищенном паркете, и семья у Четвериковых была под стать дому огромная: четыре сына, четыре дочки, от девятнадцати до трёх лет от роду. Наверное, именно из-за этого в разговоре Александры Александровны с Марьей Кузьминичной всегда ощущался какой-то подтекст, чуть высокомерная гордость со стороны крёстной: мол, всё так, милая Марья Кузьминична, но, видите ли, у меня восемь детей, а у вас только Варя — но и та не ваша. Поэтому, наверное, Марья Кузьминична Четвериковых не любила и в Москву ехала неохотно — но, приехав, была, как обычно, любезна, и сердце разрывалось глядеть, как усердно она изображает умилённый восторг и беззаветную радость видеть маленьких дочек Четвериковых, Катю и Наташу, почти себя саму убедив, что завидовать тут нечему.  Семья Четвериковых. Насколько я могу судить, здесь Александра Александровна изображена вместе со своей сестрой Марией Александровной, вместе с которой они были замужем за родными братьями Четвериковыми. Впрочем, это всё было не очень важно, а важно было то, что шестого числа они ездили в театр смотреть «Детей Солнца», и Варя видела, как на сцене играют знаменитые Качалов и Москвин, вдова Чехова Книппер и скандально известная, очень красивая и изящная Андреева: любовница застрелившегося Саввы Морозова и вместе с тем — Горького, с которым теперь открыто жила, хотя все знали, что у Алексея Максимовича в Нижнем есть живая жена (это неслыханное бесстыдство Горькому, однако, прощали: известно ведь, что писателя нельзя судить той же меркой, что обычного человека). А после спектакля Александра Александровна, взяв Варю за локоток, отвела за кулисы и представила самому Станиславскому (самому Станиславскому!), пышноусому с жидковатой, но по-богемному растрёпанной седеющей шевелюрой, в импозантном галстуке бабочкой. Режиссёр чинно поздравил именинницу, приложился к ручке и тут же убежал дальше по коридору, на ходу спрашивая у всех, где Качалов. Но даже не это больше всего запомнилось Варе в тот день, а как они глубокой ночью возвращались из театра на двух лихаческих тройках: взрослые в одних санях, а Варя, с девятнадцатилетними близнецами Сашей и Ваней Четвериковыми, московскими студентами, в других. По всей ширине пустой дороги веером распахнулась тройка: встряхивал обындевелой гривой коренник, сильно кидая из-под копыт снег, дробно бьющийся о передок, круто загибали головы пристяжные. Мимо неслись призрачные, все в белом, деревья бульвара, впереди качалась широкая спина лихача, заученно кричащего одиноким прохожим «Па-аберегись!». Ледяной ветер пылко хлестал по лицу, перехватывал дыхание, в тесных санях всем боком ощущался тёплый и твёрдый шинельный бок сидящего рядом Вани, а сидящий напротив румяный от мороза Саша, склонившись к Варе, взахлёб рассказывал ей, что Метерлинк «is the latest craze», а потом они с Ваней на два жутких голоса, идеально попадая друг другу в тон, как умеют только близнецы, начали читать его стихотворение: — Кто-то мне сказал, — угрожающе начинал Саша. — О, дитя, мне страшно! — замогильно подвывал Ваня, вероятно, воображавший себя в этот момент Москвиным. — Кто-то мне сказал: Час его настал. Лампу я зажгла, (О, дитя, мне страшно!) Лампу я зажгла, Близко подошла. В первых же дверях, (О, дитя, мне страшно!) В первых же дверях, Пламень задрожал, У вторых дверей (О, дитя, мне страшно!) У вторых дверей Пламень зашептал. У дверей последних, (О, дитя, мне страшно!) Вспыхнув только раз, Огонёк угас. И действительно, глухая ночь без единого огонька была вокруг: закрыты были двери подъездов, темны были окна, в ледяном небе между просветами белесых туч одиноко и жутко мелькала луна, бледно сизовела снежная улица, и эта поездка, кажется, была ещё восхитительней той автомобильной в Вене, и с восторгом думалось — сколько ещё будет в жизни таких упоительно захватывающих моментов? Много будет, Варя, много, — вся жизнь ещё впереди, и ненавистная гимназия, скучные уроки, разные неприятности — всё это забудется, а останется в памяти лишь это: восторженно-жуткое замирание сердца, когда на повороте санки опасно накренялись на один полоз, и Варя от страха хваталась за рукав Вани, и тут же грохались обратно, встряхивая всех в возке, и лихач самодовольно кидал через плечо седокам: «Не боись, барчуки, довезу как шишечек!» Они планировали уехать назад в Нижний на следующий день: Варю и так пришлось отпрашивать из гимназии, и лишние дни пропускать не хотелось. Но Четвериковы уговорили отца остаться ещё на пару дней, и тот согласился во многом потому, что на днях из Питера в Москву вернулся — ну, конечно, кто же ещё? — дорогой Алексей Максимович. Разумеется, Четвериков пригласил Горького к себе, и тот, хоть и говорил по телефону, что жуткО, жуткО занят, всё-таки заехал. Алексея Максимовича, долговязого, часто сутулящегося, худого и длинноволосого, Варя видела не один раз — пока он жил в Нижнем, он был частым гостем в отцовском доме, и Варя была хорошо знакома с модным писателем — и удивительно было видеть, каким франтом теперь стал Горький, приехавший к Четвериковым на лихаче: в шубе с бобровым воротником, в чёрной визитке, с золотыми запонками и отвёрнутыми уголками на туго накрахмаленном стоячем воротнике, благоухающий одеколоном. Всё это великолепие особенно странно смотрелось, когда Горький начинал говорить со своими знаменитым (и, Варя знала, отчасти нарочитым) оканьем — будто матроса с волжской баржи шутки ради нарядили барином. Горький тоже поздравил Варю с семнадцатилетием, не забыв отметить и то, какой красавицей она выросла, а затем, наотрез отказавшись от приглашения отобедать, уединился с отцом и Четвериковым в кабинете хозяина и некоторое время о чём-то с ними говорил. И Варя совсем не ожидала услышать от вернувшегося из кабинета встревоженного отца, что планы меняются, и они этим же вечером уезжают в Нижний — и не на курьерском, который уже ушёл, а на медленном товарно-пассажирском поезде, где даже первого класса не было! На все предложения подождать хотя бы до завтра отец отвечал решительным отказом, и Четвериков с Горьким его в этом поддерживали. — Вы пОезжайте, пОезжайте, — говорил Алексей Максимович ничего не понимающей Марье Кузьминичне. — Завтра этО ещё неизвестнО, пОезда будут или нет. И действительно, как Варя потом узнала, старый и медленный поезд, на котором они спешно отбыли назад в Нижний, оказался последним: в тот же день в Москве началась всеобщая забастовка, а вслед за ней и восстание, и с ужасом Варя читала в газетах новости, никак не вязавшиеся с местами, в которых она была всего несколько дней назад, — о пулемёте на колокольне Страстного монастыря, о баррикадах на Садовом Кольце, о расстреле из пушек восставшей Пресни, о карательном отряде Семёновского полка, усмиряющем Казанскую железную дорогу… Чаша сия не миновала и Нижний: не успели они вернуться в особняк на Ильинке, как по городу прокатилась весть — восстало Сормово, рабочий пригород Нижнего. От этой вести город будто впал в ступор: это не было похоже на то, как постепенно тормозила, замирая, деловая жизнь в октябре — нет, в этот раз всё встало моментально, будто рубильник дёрнули: перестал ходить трамвай, закрылись лавки, погасло электричество, отключился телефон, а гимназия прекратила работу сама собой, без всякой забастовки. В городе боёв не было, но пару дней гулко, будто дальним громом, ухало из-за Оки: Варя потом узнала, что восставшие рабочие сражались на баррикаде в Сормове и на вокзале, а их расстреливали из пушек. Варя в эти дни не выходила из дому (да кто бы её и отпустил), а вот отец, у которого в Сормове были дела, как безумный целыми днями метался между рабочим посёлком и городом. Варя видела, например, как он, весь обмётанный снегом, в шубе, ворвался в дом, прошёл до своего кабинета, оставляя слякотные следы на коврах, и там присел у сейфа, не снимая мохнатой шапки. — А сама как думаешь, что ищу?! — нервно обернулся он на Марью Кузьминичну, задавшую неуместный вопрос. — Надо взятку совать, чтобы верфь из пушек не расхреначили! — А что тебе эта верфь-то? — ошеломлённо спросила Марья Кузьминична. — Как что?! — с мукой воскликнул отец. — Так где пароход-то мой строится?! А они его из пушек хотят расколотить! — Да что тебе этот пароход? — взмолилась мачеха. — Чай не последний он у тебя! Не езжай туда, Василич, застрелят же! — А-а-а, дура! — раздражённо крикнул отец, махнул рукой и, сграбастав пачку сторублёвок, так же стремительно выбежал из дома, как появился. Верфь, слава Богу, не расколотили, восстание было подавлено, город возвращался к обычной жизни, а гимназия, ненадолго возобновив уроки, вскоре ушла на обычные рождественские каникулы. Но Рождество было невесёлое: после восстания город притих, как прибитый: ездили по улицам казачьи патрули, городовые ходили с винтовками, лакей Хрисанф рассказывал, что по ночам охранка ездит в Сормово делать аресты рабочих. Поговаривали, что арестованных не всегда доводят до охранного отделения, а иногда расстреливают у проруби на волжском льду. Из уст в уста передавали подробности восстания: горничная Лампа (Евлампия), у которой в Сормове работал брат, рассказывала Варе, что пушками стреляли не столько по баррикаде, сколько по общежитиям, где оставались жёны и дети повстанцев, чтобы те побежали с баррикад их спасать. Ещё говорили, что жандармский генерал-майор Левицкий, почуяв возможность подзаработать, угрожал расстрелом из пушек разных сормовских заводов, на которых и рабочих-то уже не было, только чтобы хозяева откупались от него (вот отец и бегал с деньгами). Рассказывали также, что начальник охранки ротмистр Трещенков после взятия главной баррикады отдал Сормово городовым и войскам на разграбление, как в средние века, — те, дескать, перепились и ходили пьяные по общежитиям, отыскивая раненых рабочих, добивая их без суда, насилуя их жён. Обо всём этом было жутко слушать, и странно было понимать, что вот она, Варя, спокойно живёт в большом уютном доме, где истопник Семён всегда жарко топит печи, кухарка Настя готовит, седой лакей Хрисанф подаёт на стол, горничные Матрёна и Лампа убирают, кучеры Филипп и Иван возят на санках, а садовник-дворник Фома чистит снег — и вот она живёт этой довольной, удобной жизнью юной барыни, а где-то совсем недалеко, за Окой и Ярмаркой, тысячи её сверстниц в скотских условиях трудятся по одиннадцать часов в день за гроши, ежедневно терпят несправедливость, унижение, насилие над собой — а когда они или их родные пытаются восстать и добиться каких-то улучшений для себя, их расстреливают пушками, — на японцев у них пушек не хватило, а на сормовцев хватило! Но хуже всего было осознавать, что вокруг так думает она одна: всем остальным на эту страшную несправедливость было, кажется, наплевать. Отец, ругая власти, не жалел слов и для «дураков-рабочих с их красными тряпками», Марья Кузьминична в этом ничего не понимала, а одноклассницы в гимназии — ох, с ними было гаже всего. За эти полгода Варя вообще отдалилась от одноклассниц и стала в классе почти что парией. Всё началось, наверное, ещё в августе, когда Варя, вернувшись из путешествия, принялась взахлёб рассказывать всем о Вене, о Биаррице, Париже, Лондоне, раздаривать привезённые из-за границы сувениры: брелоки с Эйфелевой башней, бельгийский шоколад, иностранные монеты, — и сама не заметила, как переборщила. Дело в том, что в классе, кроме неё, за границей бывала только одна девочка, но и та лишь в Берлине, — а что такое Берлин по сравнению с Веной, Парижем и Лондоном? Главная классная красавица и заводила же, Зина Ребровская, дочь председателя дворянского собрания, сразу возненавидела Варю: сама-то летом ездила только в Коктебель и простить Варе путешествия по Европе никак не могла. В прошлые года, когда Варя проводила лето в скучных скитах, богатство её семьи в классе мало что значило, а вот после европейского вояжа все вспомнили, что отец Вари миллионщик, что они — раскольники, а потом вспомнили и что Варя —незаконорождённая дочь, и это как-то постепенно, но неотвратимо всех отдалило от Вари. Дошло до того, что как-то Варя нашла в ящике своей парты анонимную записку: «Не удивительно ли, что отецъ нашей Варечки носитъ фамилію Сироткинъ, а его дочь имѣетъ фамилію Дмитріева? Можетъ быть, Варечка давно замужемъ за г-номъ Дмитріевымъ, фотографомъ? Объяснитесь передъ подругами, мадамъ Дмитріева!»(Максим Петрович Дмитриев был известным на весь Нижний Новгород фотографом: ссылка) И дальше было только хуже: похоже, что совпадение фамилий Вари и фотографа Дмитриева показалось насмешницам ужасно забавным, и злословие не прекращалось: вскоре придумали, что Варя — любимая модель господина фотографа, а в очередное утро Варя нашла в ящике парты маленькую фотокарточку в медной оплётке, где была изображена какая-то полуголая дамочка в восточном наряде, в котором исполняют танец живота. К голове одалиски было приклеено вырезанное из классной фотографии лицо Вари. На обороте была надпись: «Яблоко отъ яблони: Варя пошла по стопамъ мамы».Варя понимала, что эти интриги плетёт против неё Зина Ребровская со своей свитой, видела, как они хихикают и посмеиваются, обсуждая Варю за её спиной, и с каждым новым днём было ясней, что Варя становится отверженной в классе. Именно в эти одинокие морозные январские дни, когда вокруг Вари не было ни единой понимающей её души, когда в доме было скучно и постно, а в классе гадко и мерзко, в жизни Вари появилась Гертруда Эдвардовна. Отец давно уже хотел нанять Варе репетитора по языкам: он уже не один раз говорил, что после гимназии хочет отправить Варю учиться за рубеж, правда, ещё сам не очень понимал, куда: в разговоре мелькали то Германия (там хорошее техническое образование), то Сорбонна (французский у Вари был получше немецкого), а после путешествия в разговорах всё чаще стала проскальзывать Англия и совсем уж невероятная Америка. Кажется, мысль отправить дочь учиться за океан отцу нравилась с каждым днём всё больше: Соединёнными Штатами среди людей его круга вообще было принято восхищаться (чудаковатый нижегородский хлеботорговец Башкиров, например, фраппировал город, вывешивая над своей дачей звёздно-полосатый флаг). Однако, была проблема: в гимназии не преподавали английский, и Варя не знала на нём ни слова. Найти репетитора в городе, конечно, было возможно, но это, как правило, были молодые люди, и, помня историю с Давидом, отец побаивался приглашать молодого человека для занятий с юной дочерью. Поэтому, когда на собеседование к отцу пришла ссыльная эстонка Гертруда Эдвардовна Тениссон, отец долго не раздумывал. Вообще-то называть Гертруду Эдвардовну ссыльной не совсем верно: она находилась не в административной ссылке, а под запретом проживать в родном Ревеле и университетских центрах Империи. Нижний Новгород был одним из крупнейших неуниверситетских городов России, поэтому людей, подобных Гертруде, в Нижнем было не так уж мало, и она быстро нашла единомышленников — отмечаясь в охранке по прибытии, познакомилась с молодым поляком эсером Витольдом Ашмариным, живущим в Нижнем уже второй год на тех же условиях, что и Гертруда, и так же вынужденным регулярно отмечаться в охранке. — Так вы заходите к Фейту, я напишу вам адрес, — сказал Ашмарин, когда они вместе вышли из здания Охранного отделения и пошли, хрустя свежим снегом, по сугробистой улице мимо двухэтажных домишек, серых заборов, деревянных телеграфных столбов. — Наша организация сейчас, конечно, в целом разгромлена: здесь в декабре, как в Москве, было восстание, и большинство наших арестовали. Но кое-кто остался, и мы восстанавливаем работу. Ничего, в этом году мы им ещё покажем! Эсеровский комитет собирался на квартире у доктора Андрея Юльевича Фейта, который с женой и малолетним ребёнком недавно вернулся из сибирской ссылки и теперь со смехом говорил Гертруде, что её наказание — ерунда, а вот если бы её сослали за Байкал… Квартира Фейта, поняла Гертруда, вообще была местом сходок здешних эсеров — сюда заходили ссыльные студенты, помощники присяжных поверенных, народные учителя, — весь цвет местной революционной интеллигенции. Гертруда тоже стала бывать у Фейтов и как-то встретилась там с молодой учительницей Мариинской гимназии Еленой Лундстрём, которая в разговоре упомянула, что одной из её учениц требуется репетитор по английскому языку. Гертруде как раз нужна была работа: свои деньги заканчивались, на помощь из Эстляндии рассчитывать не приходилось, а чем заняться в этом чужом, незнакомом русском городе, Гертруда не знала. И вот на следующий день она отправилась на собеседование с отцом ученицы в его особняк на Ильинской улице. Оказалось, что репетитор требуется не просто какой-то девочке, а семнадцатилетней дочке миллионщика-старообрядца, живущего в большом особняке с острыми, под готику, декоративными башенками, с целым штатом прислуги, конюшней во дворе и староверской молельней в подвале. Хозяин, Дмитрий Васильевич Сироткин, оказался крепким, полным бородатым мужчиной лет за сорок с высоким круглым лбом и лысеющим затылком. — Так за какие же грехи вас сюда сослали, Гертруда Эдуардовна? — внимательно выслушав рассказ эстонки, строго спросил он, и сердце Гертруды ёкнуло — показалось вдруг, что работа, которую она уже считала своей, может уйти из рук, если миллионщик не захочет принимать на жалованье политически неблагонадёжную. Можно было юлить, сослаться на то, что её осудили без вины… но Гертруда уже знала этот тип русских купцов — такие, как правило, были либералами, выступавшими если не за социализацию земли, то уж точно за парламент и ответственное перед ним министерство, и проблемы эстонской национальной партии должны были вызывать у них симпатию. И она честно рассказала Дмитрию Васильевичу о своих проблемах в Ревеле, умолчав, однако, о своём участии в московском восстании и сепаратистских устремлениях партии «Аула» — этого Сироткин мог не оценить. И действительно, объяснение его вполне устроило: — Да… — сочувственно протянул Сироткин, — дела у вас в Ревеле творятся. Да чего уж тут, по всей России чёрт-те что творится… А английский вы откуда знаете? Гертруда рассказала, что её отец был корабельным инженером, сотрудничавшим с британскими поставщиками, и по-английски говорил свободно. Сироткину это чрезвычайно понравилось: — Бывал я, бывал на английских верфях, — с удовольствием закивал он. — Какой уровень техники, какая культура производства! Нам, сиволапым, ещё расти и расти. Ну что ж, хм, Гертруда Эдуардовна. Заниматься вам с Варей придётся часто, много, поэтому предлагаю вам поселиться здесь. Места у нас тут достаточно, комнату вам выделим хорошую, рядом с Вариной. Занимайтесь с ней английским, но и про немецкий с французским не забывайте — подтягивайте её! Если в аттестате по обоим предметам будет двенадцать баллов, получите от меня хорошую премию. Пятьдесят рублей жалованья в месяц вас устроит? Конечно, Гертруду устраивало: пятьдесят рублей она и в газете «Postimees» не получала, а тут даже на жизнь тратиться почти не требовалось — жила в доме Сироткиных она на полном пансионе и обедала за одним столом с хозяевами. Правда, у Сироткиных, как оказалось, неукоснительно соблюдали все православные посты (отчего стол был скучноват) и строго запрещали курить — курение в этой староверской семье, Гертруда поняла, вообще считалось грехом, сравнимым с содомией, а слово «табашник» было одним из обычных ругательств. Но, пожалуй, самым серьёзным ограничением, которое жизнь в доме миллионщика накладывала на Гертруду, была невозможность посещать эсеровские собрания вечером у Фейтов — свободное время у Гертруды теперь было только в первой половине дня, когда Варя уходила в гимназию. Только с утра теперь к Фейтам и получалось заходить, и Андрей Юльевич с пониманием относился к тому, что принимать участие в восстановлении эсеровской организации Гертруда теперь может лишь частично. — Понимаю, понимаю, такая работа, — говорил он. — Это ведь с дочкой Сироткина вы занимаетесь? А сколько лет этой барышне? Семнадцать? А вы, Гертруда Эдвардовна, не выясняли, как она к нашему делу относится? Возраст-то самый тот. Вы напролом-то не лезьте, но вы ж должны понимать: у нас с пожертвованиями в кассе худовато: рабочие слава Богу если по десяти копеек скидываются, а от капитала пожертвований не дождёшься: вот вошь на аркане и гуляет. А тут дочка миллионщика! Вы бы, может, попробовали как-нибудь её в наше дело вовлечь?
-
Как можно так много и классно писать? У меня в курсовых полезного материала и то меньше, наверное.
-
И правда - монументально! А еще, как всегда, глубочайшая проработка деталей: от политики до бытовых мелочей, от лозунгов и до присказок лихача!
-
Крёстная! Горький! Станиславский! Книппер-Чехова!
Распирает от чувства собственной важности )
Отдельное спасибо за драму в гимназии. Мощный толчок такой.
|
— Ну а чё? — отозвался Вася, — вон, Вестика с вами отправить, чтобы дорогу к путям показал. — А чего меня-то? — глупо спросил здоровяк. — Вестика не надо, — просипел дядя Сажин. — Он вас не к путям, а к чёрту на кулички заведет. Он в трёх соснах заблудиться может: одно слово — тормоз Вестингауза. Вестик ничего на это не ответил, даже не очень изменив туповато-вопросительного выражения бровастого, щекастого лица под барашковой шапкой. Видимо, он был привычен к тому, что его все считают дурачком. — А чего б всем не сходить, а, Васёк? — обернулся дядя Сажин к Васе. По остроносому лицу Васи с неряшливыми чёрными усами промелькнуло сомнение: было видно, что Вася не горит желанием куда-то идти с парочкой, которую только что хотел ограбить, — тем более, что трое их приятелей, подоспевших следом, до сих пор не догадывались, чем на этой пустой улице промышляют рабочие Виндавской железной дороги, и неизвестно как отреагировали бы, если бы узнали. Поэтому-то Вася и надеялся поскорей спровадить гостей, отрядив с ними идиота Вестика; а вот дядя Сажин, смотревший чуть дальше, кажется, решил, что Вестик, оставшись без присмотра, неизбежно всё разболтает, и потому заключил, что безопасней идти всем вместе. — Ну, или ты один тут оставайся, — предложил дядя Сажин Васе. — Ну нет, — решительно мотнул головой Вася, — я уж тогда тоже с вами. Один хрен не слышно шуму городского, — закончил он словами известного пошловатого романса. Двинулись: Анчар с Герой и тремя железнодорожниками впереди, кушнеровцы с Зефировым позади. — Вы пути бомбой взрывать, что ли, собрались? — спросил дядя Сажин после нескольких минут неловкого молчания. Тянулись вымершие, тонущие в полуночном мраке улицы, ветер колко бросал в лицо пригоршни снежной крупы, леденели руки в перчатках. Железнодорожники шли, ссутулившись, с поднятыми воротниками, руками в карманах. — Это ловчей б всего, конечно, бомбу под рельс положить, — рассудительно заметил он. — Только это нужно ямку сделать, лом нужен щебень-то ковырять. Сверху кинуть — по верхам удар пойдёт. — Можно бы… — задумчиво протянул Вестя, — а, не, не получится. Вася хмуро молчал, идя сбоку от всех, надвинув кожаный картуз на глаза, временами длинно сплёвывая через зубы в снег. — А, а вон там вокзал наш, — неизвестно зачем сообщил всем Вестя, когда, не доходя до Виндавского вокзала, свернули в переулок. 18:45Наконец, добрались до Знаменской церкви, стоящей в одноимённом переулке у железнодорожных путей.   Это заметно более ранний (1860-х гг.) снимок этого места, сделанный в сторону Николаевского вокзала примерно из района нынешней Рижской эстакады. Другого, кажется, нет. Пустое справа на снимке пространство к 1905 году застроено: там стоит Знаменская церковь и разные домишки. Ещё правее пары колей, по которым идёт паровоз, уже проложена передаточная ветка на Курский вокзал. В остальном всё примерно так. Кирпичные корпуса на заднем плане — локомотивные сараи, чуть дальше должна быть товарная станция. Застройка здесь была железнодорожная, другого слова и не подберёшь: именно такие места — краснокирпичные пакгаузы, лесные склады, башни водокачек, депо с широченными воротами, непонятного назначения будки — видишь, подъезжая на поезде к вокзалу любого города; а за ними, за хозяйственными строениями, всегда видишь очень бедные, несчастные, темноватые от налёта гари дома, в которых живут же вот какие-то люди и привыкают как-то к оглушительному грохоту и звенящей, дребезжащей тряске от проезжающих поездов, привыкают как-то и ночью не просыпаться от ухабистых перекатов, от пронзительного, рвущего ночную тишину гудка. Выходящие на пути окна этих домов всегда с грязноватым сероватым налётом, чёрные как старое зеркало: окна эти держат всегда занавешенными и не моют потому. Бедно тут живётся — понимали Анчар, Гера да и виндавцы с кушнарёвцами и химиком, пробираясь к путям между низеньких серых палисадников, за которыми в снегу тонули огородики местных (печально торчали из снеговой равнины голые прутья, косые столбики), да и сложно было представить, что в этой отравленной едким креозотом и паровозным дымом атмосфере ещё может что-то расти. Но дымом сейчас не пахло: последний паровоз тут проходил давно. Чуть севернее от ветки Николаевской дороги отходили передаточные ветки на Курскую и Казанскую дороги, и в этом месте пути растянулись в ширину добрым десятком колей, идущих параллельно друг другу как зубья расчёски. Большинство путей были пусты, и хотя на некоторых чернели товарные вагоны, было очевидно, что дорога не заблокирована обындевелыми паровозами намертво, как в Кунцеве: здесь вагоны просто стояли на запасных путях, где и должны стоять, ожидая разгрузки или формирования состава. Впрочем, какие тут пути куда ведут, разобраться было непросто: очевидно, что ближайшие две колеи шли мимо трёх вокзалов на Курский, а вот с теми, что дальше, было непонятно, — какие-то, вероятно, следовали прямо на вокзал, другие на товарную станцию, находившуюся где-то поблизости, третьи в локомотивное депо — вон то кубоватое здание с большими воротами и клетчатыми чёрными окнами. Было темно, пусто и тихо, только по-степному завывал стылый, будто металлический ветер, сразу усилившийся на открытом пространстве, всё ожесточённей сыплющий с низкого белесого неба жгучим снегом. Снег покрывал чёрные шпалы тонкой, очень ровной мучной пеленой, на которой рельефно отпечатывался каждый след, и сейчас, оглядывая железнодорожное полотно от края путей, подпольщики не видели, чтобы здесь кто-то недавно проходил. Вася, зябко оглядывающий железнодорожное хозяйство, хотел было что-то сказать, но в этот момент издалека, со стороны Николаевского вокзала, послышался треск винтовочных выстрелов. Видимо, с той стороны бой всё ещё продолжался.
-
Какие, однако, колоритные товарищи! А упоминание романса вообще прекрасно - он и вправду хорош)
|
Зефиров скоро вернулся, одетый в серое пальто, с картузом на голове и шарфом вокруг шеи.
— Ну-ка дай, — протянул он руки в варежках к Балакину, держащему бомбу, и тот с облечением передал снаряд химику. — Я уж лучше сам пока понесу, — прокомментировал Зефиров, — у меня рука точно не дрогнет. Как руки затекут, я кому-нибудь из вас отдам.
— Да я запросто понесу, — с готовностью сказал Балакин, которому, кажется, было стыдно за свой испуг.
С предложением Анчара согласились все. Спустившись по пустой типографии на улицу, разделились: Анчар с Герой пошли впереди, а Зефиров с печатниками за ними. Сейчас сумерки окончательно сменились глухой декабрьской ночью, и сложно было поверить, что всего шесть часов вечера: не работало уличное освещение, большинство окон были темны, как в полуночный час. Мелкий колючий снег усиливался, грозя перерасти в настоящую метель: тянулись по обледенелой панели улице змеи позёмки, ветер срывал с сугробов волны свежего, не слежавшегося ещё снега, жгуче хлестал по лицу. Несмотря на усиливающийся снег, не теплело: наоборот, из-за ветра казалось, что стало ещё холоднее, и непонятно было — остался ли кто-то в этот собачий холод на баррикадах, в открытых всем ветрам солдатских бивуаках на бульваре? Улицы были пусты, но где-то ещё кто-то сражался — одиночно, уже не сплошным треском, хлопали далёкие выстрелы с разных сторон.
На пустых тёмных улицах, по которым они шли — в Никоновском переулке, у Екатерининского парка, в Самарском переулке, — было тихо и пусто: лишь раз мимо навстречу ним проехал извозчик с каким-то насмерть перепуганным барином в санях да встретилась пара прохожих. Не было в этих местах и баррикад, и Анчар с Герой успели было подумать, что вооружённые люди здесь им уже не встретятся, — и, как выяснилось, ошиблись.
18:25
Ведущая к Виндавскому вокзалу Мещанская улица, на которую они вышли, была так же темна и покинута, как другие, и Анчар с Герой совсем не ожидали, что из чёрной занесённой снегом подворотни наперерез им вдруг выскочат, обступая, трое человек с револьверами.
— Опачки! — с глумцой воскликнул один, в кожаной кепке, в полушубке, с рыжей щетиной, наставляя на Анчара полицейский наган с оборванным шнуром. — Чё так поздно по улице гуляем, буржуазия? Кошелёчки достаём, взнос на революцию делаем. Цепочки, колечки, часики, — перевёл он ствол на Гертруду, — всё снимаем сами, дамочка, а то в переулочек заведём и там поможем.
— Вась, Вась, — вполголоса позвал его другой налётчик, показывая за спину Анчару, откуда приближались Зефиров с печатниками. Те шли спокойно, не доставая револьверов: видимо, им из-за снега было непонятно, что тут происходит.
— Это чё у него, бомба, что ль? — тихо откликнулся Вася, и Анчар с Герой не могли не отметить приметливость налётчика — не каждый бы безошибочно распознал в жёлтом жестяном цилиндре в руках студента адскую машину, а этот распознал. Вряд ли простой бандит с Хитровки мог знать, как выглядят бомбы: выходит, что этот уже где-то такие снаряды видел.
В это время третий налётчик, крупный, полный, наставив ствол на Зефирова, закричал:
— Ну-ка брось бомбу! Брось бомбу живо!
— Ты чего, дурак??? — недоуменно и гневно закричал Зефиров, державший бомбу у груди. — Куда мне её бросить, в тебя, что ли? Жить надоело?!
— Э, э! — Вася тоже наставил ствол на Зефирова с печатниками, которые, наконец, сообразив, в чём дело, потянулись за оружием. — Ну-ка ручки из карманов вынули! — и Чибисов, у которого пистолет был за пазухой, действительно, медленно поднял пустые руки, а вот Балакин, браунинг которого был в боковом кармане шинели, вынимать руку из кармана не спешил.
-
Вот это был красивый ход))). В начале мы так этих грабителей боялись, так боялись, и их не было. А когда о них уже все забыли - вот они. И логично - ночь же))).
|
Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Скучные старики сами выдумали смерть, сами её боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один.Леонид Андреев, «Рассказ о семи повешенных»19:15 21.07.1906
Нижний Новгород, Острожная площадь,
Народный дом
+28 °С, ясно, тихо— Господа социалисты! Отпирайте двери, не то выломаем! — доносился голос ротмистра с улицы. Варя выглянула в окно: с высоты третьего этажа был хорошо виден десяток верховых казаков, стоящих посреди освещённой медным вечерним солнцем пыльной площади на городской окраине; если перегнуться через подоконник, можно было увидеть и группу городовых и пожарных с топорами, столпившихся у запертого парадного входа в Народный дом, окружённый войсками и полицией. На противоположном конце площади, у дровяных складов и сараев собирался народ, с любопытством наблюдающий за осадой: приказчики в белых фартуках, бабы в платочках, босоногая ребятня. — Дайте нам пятнадцать минут, чтобы успокоить товарищей! — глухо ответил ему из-за двери кто-то из эсдеков, посланных тянуть время. — Даю пять минут, потом начинаем ломать! — откликнулся ротмистр: молодой, в форме без орденов, с подстриженными усиками, с револьвером в руке. — Трещенков! — с непонятной досадой сказала тоже выглядывавшая в окно Елизавета Михайловна Панафигина. Один из казаков заметил девушек в окне, дёрнул с плеча карабин и прицелился, чтобы пугнуть. Варя и Елизавета Михайловна быстро отпрянули от окна; выстрела не последовало. Обстановка в помещении, занятом Нижегородским губернским комитетом П.С.-Р., напоминала известную картину Брюллова: пол был забросан бумагой, ящики бюро и шкафов были выдвинуты и распотрошены как после обыска. Лазарев, седой и пожилой глава комитета, один из самых уважаемых в губернии эсеров, лихорадочно сгребал бумаги, записи, тащил их к растопленной (в тридцатиградусную жару-то!) печке, у которой на корточках с кочергой сидел Колосов, пихая бумажные папки, брошюры в топку. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге показался Витольд Ашмарин, молодой ссыльный поляк, в расстёгнутом люстриновом пиджаке, весь растрёпанный, будто пьяный. В высоко поднятой руке он держал тупоносый браунинг. — Я не сдамся этим скотам! — очумело заявил он. — Я буду отстреливаться и пущу себе последний патрон в лоб! — Витольд Францевич, вы что! — негодующе бросилась к нему Елизавета Михайловна. — Ну-ка отдайте пистолет! — Не дам! — по-детски выкрикнул Ашмарин и спрятал браунинг за спину. Панафигина вцепилась ему в руки, принялась вырывать оружие, Ашмарин отчаянно сопротивлялся, и тут пистолет оглушительно грохнул: пуля, никого не задев, ушла в деревянные доски пола. Все остолбенели, и, воспользовавшись замешательством, Панафигина выхватила-таки браунинг. — Вам что, на каторгу невтерпёж?! — сердито обратилась она к Ашмарину. — Какой же вы идиот, Витя! — в сердцах выпалила она и направилась к выходу. Сконфуженный Ашмарин поспешил за ней: — Вы куда, Елизавета Михайловна? — Выкину в подвал ваш браунинг! Пускай разбираются, чей! — эти слова уже доносились из коридора. Варя обессилено присела на венский стул у заваленного журналами стола с дешёвым чернильным прибором и керосиновой лампой. Из окна донеслись тяжёлые тупые удары. — Не ломайте, не ломайте пока! — закричал всё тот же голос. — Ещё чуть-чуть нам времени, и мы сами откроем! — Ваше время вышло! — откликнулся ротмистр. — Отойдите все от двери, мы будем стрелять! Всё было как страшный сон: невозможно было поверить, что сейчас её в первый раз в жизни арестуют, поведут в какое-то жуткое место, в тюремный замок, который тут — как удобно! — через дорогу, посадят там в камеру с лязгающим железным засовом… и ведь как хорошо всё было ещё сегодня утром, когда Варя ехала на извозчике в Народный дом; и вчера в это же время она с удовольствием и осознанием важности дела носила отсюда свежеотпечатанные пачки с Выборгским воззванием, чтобы оставить их на складе, и месяц назад и не предполагала, что всё может обернуться так, а год назад — год назад она только вернулась из путешествия по Европе, ещё и не думая о том, чтобы присоединиться к революции, и если бы ей тогдашней, шестнадцатилетней, сказали, что через год она будет сидеть в осаждённом эсерском штабе, ожидая ареста, — Варя бы не поверила. И ведь, если подумать, всё началось именно с того путешествия. Путешествие ВариЭто был первый и пока единственный раз, когда Варе довелось побывать за границей. У отца, конечно, хватало денег на любые путешествия, и сам он выезжал за рубеж по своим коммерческим надобностям, но семью с собой не брал, считая, что юной дочери полезней проводить лето не на зарубежных курортах, а в затерянных в керженских лесах скитах. Там Варя и привыкла проводить каникулы в обществе таких же девочек-белиц, отправляемых на послушание богомольными родителями-староверами из Нижнего, Казани, Москвы, и строгих инокинь-черниц, запрещавших бить варёное яйцо о стол, потому что «стол есть престол», не державших чаю, потому что «пить чай — значит отчаиваться», и заставлявших послушниц разучивать песни о народившемся Христе-младенце: и почему-то песни даже о таком радостном событии были у них будто похоронные. А вот в прошлом, революционном, гремящем на всю Россию забастовками и беспорядками году отец внезапно объявил, что летом, как только у Вари закончатся занятия в предпоследнем классе гимназии, они втроём поедут в Австро-Венгрию на богомолье в Белую Криницу, духовный центр их согласия. Отец готовил в Нижнем Новгороде съезд представителей древлеправославной веры и хотел лично оговорить какие-то вопросы с белокриницким митрополитом. Но не успел отец и опомниться, как маршрут под уговорами Марьи Кузьминичны и Вари сначала распространился на Вену, потом на Лазурный берег, потом на Париж, а затем уже и сам Дмитрий Васильевич, решив, видимо, что гулять так гулять, предложил, раз уж всё равно по пути, заехать ещё и в Англию, где давно хотел побывать. Варя первый раз выезжала так далеко: до этого она бывала лишь в скитах да в Москве у крёстной. Но в этот раз Москву проехали, не останавливаясь, на лихаче с одного вокзала на другой, и уже через несколько часов ужинали в тряском ресторанном вагоне: и как восхитительно необычно было есть суп, вздрагивающий в особым образом закреплённой тарелке, как странно было видеть вазу с фруктами на фоне окна, за которым бежал тёмный закатный лес, тонко поднимались и опускались линии проводов, временами мелькали полосатые будочки и обходчик, и удивительно было понимать, что этот бородатый человек в фуражке с двустволкой за спиной и собакой у ноги появился в твоей жизни всего на миг, исчез, и никогда ты его больше не встретишь. А на следующий день была граница: предупредительно-вежливые жандармы, проверяющие паспорта, смена вагона на австрийский, сразу какой-то узкобокий и тесноватый, и, в первый раз, немецкое «Guten Tag, meine Damen und Herren» от австрийского пограничника, входящего в вагон. Белая Криница, не город даже, а большое украинское село, оказалась самой скучной частью их путешествия, но, к счастью, недолгой: отец, изначально планировавший богомолье главной целью поездки, теперь, кажется, и сам уже побыстрее хотел добраться до более занимательных мест. Заграница здесь ощущалась лишь в необычных австрийских деньгах, в странной форме жандармов, а местные улицы, пускай и отличались от волжских деревень, но больше напоминали о картинках из сытинского издания Гоголя, чем о чём-то заграничном. Говорили здесь по-украински, но, в общем, примерно понятно, а главный храм выглядел точь-в-точь как русские церкви. Там всей семьёй выстояли литургию, а потом долго, с усердием, будто выполняя нужное, но неприятное упражнение, молились перед потемневшими, жутковато выглядящими иконами дониконова письма. Отец пожертвовал на нужды церкви десять тысяч рублей, поэтому всю семью сразу окружили угодливым почётом, разместили в лучших покоях беленькой монастырской гостиницы и задали в честь благодетеля обильный ужин. А вечером, когда отец о чём-то долго беседовал с митрополитом, в комнату Вари заглянула молодая монахиня-черница и битый час медовым голосом, вставляя в речь украинские слова, рассказывала Варе о тихой радости жизни невест Христовых. Этот номер Варя уже знала: склонить её к уходу в монашество пытались всякий раз, когда отец отправлял дочь на лето в скит. Неудивительно: инокиня-дочь миллионщика, пускай и незаконная, стала бы серьёзным финансовым подспорьем любому скиту или монастырю. Поэтому Варя уже знала, как вежливо, но твёрдо сообщать монахиням о том, что покидать мирскую жизнь она пока не готова. Но, если сначала путешествие и показалось тягостным, то всё изменилось, когда они прибыли в Вену: здесь, на чугунно-ажурном вокзале, Варя первый раз по-настоящему почувствовала себя за границей. Всё было непривычное: носильщики в странной форме, мальчишки с тележками фруктов и сигарет на перроне, рессорный фиакр извозчика в высоком лакированном цилиндре, и с восхищением Варя смотрела из-под кожаного верха на сверкающую огнями реклам шумную чужеземную столицу под проливным вечерним ливнем. Всё было восхитительно: блестящая медью тележка, на которой носильщики в бежевой с красным, очень красивой униформе везли по гостиничным коврам чемоданы и шляпные коробки гостей, пневматический лифт с огромным зеркалом в тёмной бронзовой раме, ресторан с белоснежными скатертями и угодливыми лакеями, упоительная смесь запахов кофе, табака и газа. Конечно, все вокруг говорили по-немецки, и тут возникла проблема: ни отец, ни Марья Кузьминична иностранных языков не знали и всецело полагались на Варю, которая изучала в гимназии немецкий и французский. Как выяснилось, однако, знания Вари они переоценили: оказалось, что в Вене все говорят совсем не так, как гимназический учитель герр Крюгер, а к тому же быстро, нечётко: Варя путалась, краснела, забывала слова и падежи. После пары конфузов было решено найти переводчика, желательно чтобы знал ещё и французский с английским, чтобы можно было не искать во Франции и Англии новых. С этим проблемы не возникло: в гостинице обещали помочь, и уже на следующее утро в ресторанном зале их поджидал переводчик, представившийся на чистом русском как Давид Лазаревич Зильберфарб. Национальность переводчика поначалу вызвала замешательство: в Нижнем жило мало евреев, Варя их почти не видала и знала только то, что евреев обвиняют в ритуальных убийствах, всемирном заговоре и паразитировании на христианах, за что в юго-западных губерниях иногда устраивают погромы. Но на убийцу или паразита Давид похож не был: это был молодой, высокий и прямой как жердь человек двадцати лет от роду, и ничего особо еврейского на первый взгляд в нём не было: даже нос был без горбинки и не особо большой. Вообще Давид был хорош собой: тонкое гладко выбритое лицо с парой родинок на щеках, копна густых чёрных волос, которые он часто откидывал с высокого ровного лба, глубокие тёмные глаза. Одет он был бедновато: в клетчатый дорожный костюм, как у коммивояжера, с рыжими штиблетами, зато на выходе из ресторана получил в гардеробе вместе с котелком вычурную чёрную трость с резьбой и круглым набалдашником. Тростью он, кажется, очень гордился и ходил с ней по-пижонски, сунув под мышку наконечником вверх. Давид рассказал о себе, что он студент, подрабатывает переводами на каникулах, а языки знает, потому что родился в Вильно, в детстве жил с родителями в Лондоне, а пару лет назад уехал учиться в Вену на инженера-электрика. Это упоминание окончательно расположило к нему отца — для Дмитрия Васильевича не было в мире темы занимательней, чем техника: паровые котлы, турбины, электрогенераторы, трансформаторы. Обо всём этом Давид бойко поддерживал разговор, а в конце даже осмелился предложить прокатиться на автомобиле: у него, сказал он, был знакомый chauffeur, в этом году приобретший новенький «Пежо». Отец уже как-то катался на автомобиле в одну из своих прошлых заграничных поездок, а вот для Марьи Кузьминичны и Вари этот опыт был совершенно новый, и, приехав на фиакре в гараж, с удивлением смотрели обе, как chauffeur заливает из железного бочонка в отверстие в борту автомобиля бензин, каким чистят одежду. Удивителен был и автомобиль — с блестящими глазами фар, дутыми гуттаперчевыми шинами, широкими жестяными крыльями над ними, розовой кресельной обшивкой открытого салона и высокой стойкой руля. Chauffeur выдал всем кожаные шапочки с наушниками и плотно прилегающие к голове затенённые стеклянные очки на тесёмке, а также строго указал Варе снять лёгкий белый шарфик, потому что на скорости его конец может запутаться в колесе и задушить насмерть. «Das Auto ist kein Witz», — по-немецки важно добавил он, назидательно подняв палец. Разместились в салоне: Варя с Марьей Кузьминичной сзади, отец рядом с водителем. Давид, решивший не стеснять дам на не очень широком заднем сиденье, сказал, что сам доберётся до гостиницы. Chauffeur, присев перед машиной, принялся крутить какую-то рукоятку, и ко всеобщему восторгу мотор под капотом всхрапнул и затарахтел. Chauffeur быстро впрыгнул на своё место, дёрнул за рычаг, и машина покатила — сначала медленно, но потом всё ускоряясь и ускоряясь. Остался позади машущий рукой Давид, понеслись, сливаясь, влажные тёмные стены деревьев, замелькали трамваи, ландо, газетные ларьки, кафе, бил в лицо ветер, а натужно фырчащий всеми 25-ю лошадиными силами мотор всё ускорял автомобиль до жуткой, немыслимой скорости, которую мог бы развить разве что паровоз. — Пятьдесят вёрст в час! — с восторгом кричал отец, оглядываясь назад, поблескивая синеватыми стёклышками очков. — Кёнен… как будет «шестьдесят», Варя? Зехьцихь? Кёнен зи зехьцихь махен? — толкал локтём отец chauffeur'а, вспоминая немногие немецкие слова, которые знал. — Nein, nein, — перекрикивая ветер, отвечал усатый chauffeur, крепко держась за руль руками в рыжих крагах, — es ist zu schnell! Марья Кузьминична визжала, мир очумело летел за спину, и так же стремительно понеслись дни наконец-то набравшего ход путешествия: замелькали перед глазами картины, дворцы, оперный занавес и золото лож, дикими калейдоскопными снами мешаясь в голове как в мясорубке, и, не успела Варя оглянуться, нужно было ехать дальше. Отправились во Францию, но не на Лазурный берег, как планировали изначально: в Ницце в прошлом месяце неожиданно покончил с собой Савва Морозов, и суеверная Марья Кузьминична, прознав об этом ужасном событии, наотрез отказалась туда ехать. Отцу, который был с Морозовым хорошо знаком, кажется, хотелось порасспросить знающих людей о том, как так вышло с Саввой Тимофеевичем, но с женой он спорить не стал, и вместо Ниццы отправились в Биарриц. Именно тогда, в пути из Вены в Биарриц, их настигло известие о восстании на «Потёмкине». Они ужинали в ресторанном вагоне, и на одной из маленьких и красивеньких, будто карамельных, станций в Швейцарии отец отправил Давида на перрон купить вечернюю газету. Давид вернулся, на ходу вчитываясь в развёрнутый лист «Нойе Цюрихер Цайтунг», и чуть не столкнулся с ресторанным лакеем, несшим блюдо под блестящим колпаком. — Вот так новости, Дмитрий Васильевич! — заявил он и принялся сходу переводить статью о восстании на броненосце. Отец внимательно слушал, всё мрачнея, и одну за другой налил и выпил три рюмки своего любимого «Бенедектина» («Венедиктовки», как он называл этот ликёр). Когда Давид закончил переводить, отец тяжело молчал, никак не комментируя услышанное. — Ну, тут всё на веру принимать нельзя… — осторожно заметил Давид. — Про червивый суп журналисты, скорее всего, сами выдумали. И тут отца прорвало: — Да кой чёрт выдумали! — зло выкрикнул он. — Давыд! Я все эти дела знаю: сам к себе на пароходы флотских нанимаю, у меня особый человек по деревням ездит, уволенных в запас ищет! Сколько я с ними говорил, сколько от них наслушался: червивый суп — это все знают, что матросов гнильём кормят! Как за скотину держат! Да не как за скотину, хуже: лошадь свою мужик всё-таки кормит, чтоб не подохла! Тут же… зла у меня на них не хватает! — отец треснул кулаком по столу. — Офицерьё вор на воре: тащат всё, что не привинчено! А что привинчено, отвинчивают и тоже тащат! Вот у них в Цусиме ничего и не стреляло, что всё разворовали! Они когда ещё вокруг Африки шли, я всё в газетах читал: у этого буксирный трос порвался, у этого порвался, у этого порвался. Так ты натяжение-то проверяй, — затряс отец руками перед носом Давида, — ход-то убавляй, и рваться не будет! У меня любой матрос это знает, а у них всем наплевать: тросы-то, чай, казённые! А попробуй какому-нибудь благородию скажи такое — что-о-о ты! Он же дворянин, за веру, царя и отечество! У меня капитал полтора миллиона, у него имение десять раз заложено-перезаложено, но я перед ним всё равно жук навозный, потому что он граф или фон-барон какой! Да какая ж твоему благородию цена, если ты на мясе воруешь, как приказчик у колбасника! Да и любой колбасник такого приказчика в шею выгонит, как прознает, — а эти ничего, служат! Да если б я… — отец задохнулся от гнева, заломил руки в театральном жесте. — Вот у меня в фирме шестьсот матросов одних, что на твоём броненосце, так если б я их взялся гнильём кормить, от меня бы завтра они все сбежали! А эти считают — можно, матрос никуда не денется! Да только просчитались господа благородные! Половину флота утопили, а другая половина сейчас против них под красными флагами пойдёт, вот увидишь, Давыд! И будет революция у нас! — надрывно выкрикнул отец на весь вагон, заставляя иностранцев оглядываться. — Может, революция — это не так уж плохо для России, Дмитрий Васильевич? — опасно спросил Давид. В другой раз отец бы одёрнул любого, задавшего такой провокационный вопрос, но сейчас Дмитрий Васильевич совсем разошёлся. — Да ничего хорошего! — фыркнул отец и выпил ещё рюмку ликёра. Варя первый раз видела, чтобы отец выпил больше трёх рюмочек за трапезу. — А будет, будет, доиграются эти долдоны! И главный их долдон доиграется! Я ж его вот так видел, вот как тебя сейчас, говорил с ним! Так ты знаешь, Давыдка, что в нём самое страшное? То, что он дурак, вот просто дурак! В моей фирме такому бы постели во втором классе перестилать не доверили, потому что наволочки все наизнанку будут, а этот у нас всей державой руководит! Варе было странно и жутко слышать подобные речи от отца: он и раньше в семейной обстановке поругивал, бывало, чиновников, министров, губернатора, но говорить такое о Государе? И Давид, кажется, соглашался с отцом не из подобострастия, а искренне, и сам желал революции в России! О революционерах до этого Варя только слышала — это были какие-то ужасные люди, взрывающие бомбами министров, убившие Царя-освободителя, желающие России зла: так объясняли в гимназии, так писали в газетах. Социалисты убили великого князя Сергея, подстрекали к забастовкам и демонстрациям, и невозможно было представить, чтобы приличный человек поддерживал этих смутьянов, — а Давид, оказывается, поддерживал, а отец с ним чуть ли не соглашался! Впрочем, все политические вопросы у Вари вылетели из головы, когда в Биаррице она первый раз в жизни увидела море. Море открывалось постепенно, будто оттягивая момент знакомства: сначала показалось сверкающей как золотая фольга полоской на горизонте из окна поезда, потом угловатым сапфирным лоскутом в просвете между беленькими, очень аккуратными зданиями французского городка, и наконец, в полный рост распахнулось с балкона гостиницы «Отель дю-Пале»: ослепительно лазоревое, пересыпанное солнечными искрами, пересечённое длинными меловыми полосами пенных гребней, с сахарным маячком на скале. Марья Кузьминична была в восторге от моря, но куда больше — от города, от роскошных магазинов аристократического курорта. Варина мачеха была нестарой ещё тридцатипятилетней женщиной, но красавицей не была и в пору своей юности, и тем ярче представляла собой смешение французского с нижегородским: тратила немыслимые деньги на наряды, какие-то безумные шляпы с райскими птицами, ненужные штуки из крокодиловой кожи. Не то чтобы её в жизни интересовали только подобные вещи, нет, тут скорее была мещанская запасливость, желание закупиться модными вещами как сушёными грибами на весь год на зимнем рынке: в Нижнем такие вещи нужно было втридорога выписывать, а тут получалась экономия: и невозможно было объяснить Марье Кузьминичне, как неприлично и пошло было так себя вести. Она таскала с собой по торговым аркадам Давида, и за него у мачехи даже выходили споры с отцом, заставлявшим Давида переводить ему все новости о ходе потёмкинского восстания из газет. Сам отец при этом напряжённо глядел из ресторанного окна в сизый горизонт, будто ожидая там появления мятежного броненосца. Ему в Биаррице вообще не понравилось: море это, он заявил ворчливо, ничем не отличается от Каспия (он часто ездил в Баку по своим нефтяным делам), местная роскошь казалась ему чрезмерной, с отдыхающими иностранцами в гостиничном салоне он общего языка найти не мог, а каких-то живших по соседству русских аристократов с достоинством обходил стороной (а те с презрением стороной обходили нувориша). Расточительство жены он не одобрял и всё беспокоился, как бы Варя не утонула во время купания. К счастью, его хандра закончилась, когда в гостиницу въехала семья Набоковых. С либеральным журналистом и юристом Владимиром Дмитриевичем Набоковым отец был неплохо знаком и сразу нашёл в нём собеседника, отпустив за ненадобностью Давида на волю — и тот тут же принялся пользоваться свободным временем: присоединялся к группе англичан, гонявших по песку мяч, и, пока не требовался Марье Кузьминичне для очередного похода по магазинам, носился с ними по пляжу, обмениваясь выкриками на английском и с веером песчаных брызг посылая мяч в сторону импровизированных ворот. На вопрос, где он выучился играть в футбол, Давид с гордостью ответил, что в Вене играет в команде еврейского спортивного общества «Бар-Кохба», а ещё там же занимается конькобежным спортом. Выражение «еврейское спортивное общество» звучало так же странно, как «древлеправославное кабаре», и Варе это сначала показалось это смешным: сразу представились какие-то пейсатые футболисты в лапсердаках и чёрных шляпах. Давид слегка оскорбился на это, заявив, что, может, в России о таком пока не слыхали, а в Европе обществ «Бар-Кохба» уже много, и что вообще еврей в двадцатом веке уже может и даже должен быть не чахнущим над Торой начётчиком, а спортивным здоровым человеком. Но в чём Варя была безусловно лучше Давида — так это в плаванье. Оказалось, что футболист и конькобежец почти не умел плавать и когда пытался грести саженками, выходило нелепо и глупо: куча брызг, а толку мало. Он потом смешно оправдывался перед Варей, что у них в клубе «Бар-Кохба» хотели-хотели построить бассейн, да так и не построили, вот он и не выучился. А Варя умела отлично плавать без всякого бассейна: летом в скиту купание было одним из немногих развлечений, да и то игуменья пыталась запретить, только её никто не слушал. Правда, в тихом тинном Керженце плавать было не в пример легче, чем в море — в первую очередь из-за тяжёлого, тянущего вниз костюма: в уединённом лесном скиту стесняться было некого. Но даже в купальном платье с панталонами Варя могла плавать, не держась за привязанный к буйку канат, как другие купальщицы, заплывала на глубину и вызывала тем то неодобрительные замечания о безрассудстве этой русской мадемуазель, то разного рода взгляды — в том числе и Давида. Разумеется, Давид к этому времени был уже неизбежно влюблён в Варю: двадцатилетний молодой человек не может не влюбиться в красивую шестнадцатилетнюю девушку, с которой проводит много времени. Варя это понимала, но понимала также, что ничего серьёзного из этого получиться не может: отец не был антисемитом, но о том, чтобы отдать свою единственную, пускай и незаконную, дочь за еврея, не могло быть и речи. К шестнадцати годам Варя уже примерно представляла, кто будет её женихом: обязательно старообрядец, скорее всего, из купцов — вряд ли, конечно, из миллионщиков Рябушинских или Бугровых: те не будут сватать сыновей за внебрачную дочь, но, возможно, из какой-то небогатой, но работящей семьи, ради приданого и связей: в своё время отец так удачно женился на Марье Кузьминичне. В любом случае, Давиду Зильберфарбу в этом будущем места не было, — но как-то оказалось, что это не очень важно, когда Варя, только выйдя из воды, остановилась в кипящей пене за торчащей из песка ноздреватой рыжей скалой с лужицами тёплой воды в щербинах и выемках камня, стояла, скрытая скалой от пляжа и взглядов отдыхающих, и тут из-за края скалы появился Давид. Он был в полосатом купальном костюме, с мокрыми, чёрными сосульками висящими волосами, и взгляды их встретились с таким очевидным обоим смыслом, что Варя совсем не удивилась, когда внезапно оказалось, что он прижимает холодные мокрые губы к её губам. Они потом ещё не один раз встречались за этой скалой. И в других местах тоже встречались: на идущей вдоль пляжа каменной галерее с лужами от перехлёстывавших ночью через бортик сильных волн, в коридоре гостиницы, когда отец и Марья Кузьминична задерживались в номере, в пустом белом переулке, спускающемся к морю, где их случайно застиг идущий на пляж вафельщик-баск в берете, с жестяным коробом на шее. «Je ne voulais pas vous interrompre», — проходя мимо, иронически сказал он, тем чрезвычайно смутив обоих и заставив в следующий раз быть вдвойне осторожными: а если бы это был не вафельщик, а отец? Они понимали, что, если их встречи не удастся удержать в тайне, конец всему: последовал бы скандал, матерная ругань, расчёт на месте — а Давиду ведь, оказалось, очень важны были эти 150 рублей, за которые он договорился сопровождать семью Дмитрия Васильевича в поездке. И всё-таки, осторожничая, как шпионы, они продолжали видеться и целоваться так, что губы потом болели, и только когда Давид пробовал опустить руку туда, куда не следовало, Варя его останавливала, говоря, что этого нельзя. Ну нельзя, так нельзя. Вся в соли после моря, сменив в кабинке липкое купальное платье на мохнатый халат и умывшись горячей водой, Варя сидела в полосатом шезлонге, наблюдая за бесконечной тёмно-синей равниной моря. С кипящим шумом волны разлетались по матовому мокрому песку, стекали назад тонкими прозрачными ручейками. Карусельным водоворотом кружились чайки; у воды, разбивая выпуклой грудью пену, носилась собака, у протянутого под водой каната краснели шапочки купальщиков, в стороне под присмотром гувернантки-англичанки в песке возились два маленьких сына Набокова, и во всём этом солнечном, ветреном покое было рассыпано такое безмятежное счастье, что не верилось, не представлялось возможным, что где-то существует Нижний Новгород, что где-то существует зима, тёмное декабрьское утро, плохо натопленный, неуютный класс с переложенными ватой и заклеенными бумагой двойными рамами, портрет Государя на одной стене и Пушкина на другой, обрыдлое кофейное платье с чёрным передником, лакированные исцарапанные парты с крышками, лысый герр Крюгер, «Dimitrijewa, komm an die Tafel» (он всегда произносил её фамилию через три «и»), и юберзетцунг нах руссиш скучных, неправдоподобных текстов из учебника: «Der alte Barbarossa, der Kaiser Friederich», и понимаешь, что нет и не было никогда никакого Барбароссы, всё выдумка, ложь скучных стариков, — а настоящее только здесь: юность, любовь, солнечные пятна под закрытыми веками, ласковый солёный ветер, мелкий песок на мокрых ступнях, шорох волн, разговор лежащих рядом в шезлонгах Набокова с отцом: — Я не считаю, Дмитрий Васильевич, что Горький особенно талантлив, — с ленцой замечал Набоков. — Нет, Горький очень талантлив, — с жаром возражал отец, который с Горьким был хорошо знаком, устраивал с ним приюты для бедных и очень его ценил: — Он знает жизнь простого человека, как никто иной! — Да-да, знает, — флегматично соглашался Набоков, — но я не выношу этой попытки скрестить Ницше с Диккенсом. Мне думается, что это просто не очень умно, — печально добавлял он, и Варя с обидой за отца понимала, что Набокову легко удаётся увести разговор от темы, в которой он разбирается меньше отца, от пароходов, автомобилей и прочей техники, к литературе, в которой отец ничего не смыслил: — А вот как вам новый Андреев, скажите? Рассказ про убитого губернатора читали? — Андреев — это же декадент? — настороженно спрашивал отец, который из светской литературы хорошо знал лишь Горького, Мельникова-Печёрского и Короленко, потому что те писали о родных ему местах. — Да, так его называют, — бесстрастно соглашался Набоков. Тут со стороны рассыпающегося белой пеной моря подбежал сын Набокова, красивенький как с поздравительной открытки мальчик лет шести, в аккуратной матроске, в блестящих башмачках и бескозырке с английской надписью. С необычайно важным и торжественным видом он нёс что-то в кулачке вытянутой руки. — Look what I've found, daddy! — обратился он к отцу, протягивая ему зажатый кулачок. — What is it, Володя? А butterfly? — обернулся к мальчику его отец. — No, it's a gem! A real gem! — захлёбываясь от восторга, объявил мальчик, и показал всем свою находку. На пересыпанной мелкими песчинками ладони у него лежал мутно-зеленоватый, обточенный волнами кусочек бутылочного стекла. А дальше была поездка в Париж — мотающийся вагон, протяжный паровозный вой, рассыпающиеся в ночном окне белые и жёлтые звёздочки огней дальних городков, лучистые кометы фонарей, дощатый пол станции с закрытым на ночь газетным киоском, красный свет лампочки под абажуром на столике, и уже в поезде Варя с ужасом понимала и не хотела верить, что заболела: сухо драло горло, ломило в костях, без остановки звенело в ушах, а случайно услышанная французская фраза из коридора в усиливающемся бреду под стук колёс начинала поворачиваться в уме на тридцать девять градусов, ещё на тридцать девять: gare de Lyon, Lyon de gare, лён да гарь, клён да даль и так далее, пока эта жаркая карусель не лишала фразу всякого значения. Как добирались с вокзала до гостиницы, Варя помнила плохо: круговерть улиц, какофония звуков, доносящихся как через вату, тупая головная боль и раздирающий грудь кашель. Вызванный лысый тусклоглазый доктор померил Варе температуру, посветил электрическим фонариком в рот и сообщил переводившему Давиду, что это, слава Богу, не малярия и не тиф, а инфлюэнца. Вся в липком поту под одеялом, Варя лежала в лихорадке в густом бордовом полумраке гостиничной спальни, и всю ночь с ней в комнате сидела Марья Кузьминична. Жестокое слово «мачеха» Марье Кузьминичне вообще не очень шло: она всё время как будто стремилась не отстать от отца в его обожании дочери, быть ей более любящей матерью, чем была бы настоящая — и всегда это у неё выходило неискренне, через силу. Варя понимала: это оттого, что она всегда будет для Марьи Кузьминичны живым свидетельством — проблема не в отце, а в ней. Замужем за отцом она была уже пятнадцать лет, а детей у них так и не появилось. Варя знала, что Марья Кузьминична ездила ко врачам в Москву и Петербург, советовалась со старцами и старицами, бесконечно била поклоны в домовой молельне, моталась в коляске с чемоданом пожертвований по скитам и приютам: всё без толку. И так же без толку было Марье Кузьминичне изображать из себя Варину маму, играть в эту игру, в которую не верила ни та, ни другая, — всё равно даже этим не получалось вымолить у жестокой Богородицы с тёмных икон своего, уж точно своего ребёнка, и иногда Марья Кузьминична как будто начинала считать Варю виноватой в чём-то, пускай это и проявлялось лишь в раздражённом тоне, неуместном упрёке, косом взгляде, будто говорящем «Всё из-за тебя! Это из-за тебя я, вместо того, чтобы гулять по Парижу, сижу здесь!» — но всё-таки сидела: а что ей ещё оставалось, не могла же она её бросить. — Марья Кузьминична? — деликатно постучался и заглянул в дверь Давид. — Варя спит? Я всё равно не сплю, так что могу посидеть с ней, а вы отдохните пока, — шёпотом предложил он. — Не нужно, не нужно, — откликнулась Марья Кузьминична, налегая на «о». — Я уж сама как-нибудь тут. Рубашку если ей сменить или вдруг что. — Ах, ну да… — смутился Давид. — Да, лучше, если мать рядом, — неловко и невпопад добавил он, и Марья Кузьминична не стала его поправлять. На третьей неделе совместной поездки Давид так и не догадывался, что Варя — не дочь Марьи Кузьминичны, видимо, полагая, что обращение Вари к ней по имени-отчеству предписано какими-то староверскими правилами. Варя болела неделю: кризис наступил на вторую ночь — жуткую, одновременно жаркую и знобливую, когда сборки бордовых портьер на окнах складывались в плясавшие бредовые фигуры, а полоска электрического света из-под двери обманчиво казалась наступлением долгожданного утра, — и в конце концов утро наступило, кризис миновал, и дальше было легче. Варя много кашляла, пила консоме с маленькими белыми сухариками, читала книжку «Le Taon» некой мадам Voynich (traduit de l'anglais, Давид подбросил и очень рекомендовал), глядела из окна, в котором были только крутые красные крыши с врезанными в них окнами (даже знаменитая башня была с другой стороны здания), и временами заводила граммофон. Но от мурлыканья матчиша или рыдающего надрыва Карузо было тошно, особенно когда вспоминалось, что отец с Марьей Кузьминичной и Давидом сейчас ушли в Opéra Comique, а Варе доктор строго предписал оставаться в постели, и вот лежит она тут, а вокруг гостиницы лучится под розоватым вечерним небом Париж, сверкает огненными прорезями вывесок, дрожит в чёрной воде Сены изумрудными огнями реклам, катит многоголосой толпой по бульварам, а она тут сидит одна с книжкой про итальянских карбонариев да пластинками, на которых — и от этого почему-то больше всего хотелось плакать от жалости к себе — нарисована собачка, заглядывающая в раструб граммофонной трубы: «His Master's Voice». В один из последних дней в Париже, когда Варе уже разрешили выходить на улицу, и она всё-таки получила возможность посмотреть главные достопримечательности хотя бы мельком, вечером она случайно услышала странный разговор отца с Давидом. Давид, как обычно, переводил отцу из газет, что-то о деле Дрейфуса (оно тянулось, сколько Варя себя помнила, и казалось бесконечным), и, как уже у них завелось, разговор перескочил со статьи на одно, другое, третье, а оттуда — на революцию и республику. — Я не понимаю, Дмитрий Васильевич, как вы, образованный человек, можете быть против республики в России, — распаляясь, говорил Давид. — Ведь только при республиканском устройстве права меньшинств, таких как наше или ваше, могут быть надёжно защищены. — Да невозможна в России республика, невозможна и не нужна! — гремел в ответ отец. — Ты, Давыд, в своих Европах-то от жизни отстал, не чувствуешь народа! Народ и слова-то такого, «республика», не знает! Вот царя он знает, ему он готов подчиняться! Да и чего зря лясы точить! Нам парламентишки вшивого не дадут, а ты уж на республику размахнулся! — Не дадут!… — без всякой почтительности фыркнул Давид. — И никогда так просто вам не дадут: самим брать надо! Как здесь, в Париже, сто с лишним лет назад взяли! — Ты чего ж, головы рубить предлагаешь? — Да Бог с вами, — спохватился Давид. — Времена всё-таки иные настали, гуманные, гильотина не потребуется. Уравнять всех в правах, отменить сословия, как во Франции — и довольно! — А тебя-то что так этот вопрос волнует? — спросил отец. — Ты ж в России не живёшь, возвращаться не собираешься, какое тебе дело? — Как какое?! — пылко возмутился Давид. — А евреи? Миллионы евреев живут в России, а ваш народ их угнетает! — Ну, чтобы староверы кого-то угнетали, я такого не слыхал… — ворчливо ответил отец. — Да, ваша конфессия тоже угнетена, но вас хотя бы не громят! — Нас не громят? Нас не громят?! — теперь уже настал черёд отцу возмущаться. — А про Питиримово разорение ты слышал? Когда войска по лесам ходили и скиты жгли? А как при Николай Палыче нас гоняли? Думай, что говоришь, балда! — и ещё долго они в таком духе спорили. После этого-то разговора, уже на пути в Англию, Варя набралась смелости и спросила у Давида, правда ли он за революцию в России, правда ли, что он социалист. Это было на пароходе, на котором они переправлялись из Кале в Дувр: отец с Марьей Кузьминичной вышли на белую, блестящую никелированными поручнями палубу, а Варя и Давид остались в салоне. В окне сияло пронзительно синее волнистое море с белыми барашками и треугольниками парусов вдалеке, из сизой дымки вырисовывались исполинские меловые утёсы английского берега, сильный морской ветер, на который Варя боялась после болезни выходить, прибивал к полным коленям стоящей у фальшборта Марьи Кузьминичны юбку, вырывал из рук белый бахромистый зонтик. — Разумеется, я за революцию, Варечка, — серьёзно ответил Давид. — Конечно, я социалист. В наше время честный человек обязан быть социалистом, по-другому просто не бывает. Варя возразила, что её отец несомненно честный человек, но при этом не социалист. Давид несколько смутился от этого аргумента, но быстро нашёлся: — Твой отец из другого поколения, его уже не переделаешь, — говоря с Варей наедине, Давид переходил на «ты» и очень боялся сбиться с «вы» в присутствии отца и мачехи. — Он потратил молодость на то, чтобы зарабатывать деньги; тебе же повезло родиться в богатой семье. Это, конечно, не твоя вина, но это увеличивает твою ответственность перед народом. Ведь именно благодаря простым труженикам ты имеешь всё, что у тебя есть! Наше с тобой поколение, — коснулся он руки Вари, — обязано изменить этот мир к лучшему, такова его высокая миссия. Тебе, Варечка, нужно лучше узнать жизнь простого человека, тогда ты естественным образом станешь социалисткой. А потом был Лондон под стеклянным, будто умытым небом: бурые башни Вестминстерского дворца и Тауэрского моста, вереница чадящих буксиров и катеров по запруженной судами Темзе (и этим знакомым видом будто намекалось на скорое возвращение на Волгу), ласково и щекотно садящиеся на руки голуби под колонной Нельсона на Трафальгарской площади, неимоверно древние мумии в Британском музее, невероятный Хрустальный дворец — весь из стекла и железа! А ещё была поездка на поезде, странно разделённом на купе без общего прохода, с отдельными дверями наружу, в Оксфорд: пустые по летнему времени колледжи с изумрудными газонами, увитые плющом каменные стены, очередная серая готическая церковь с сумрачными витражами и желтовато-мраморными лежачими статуями рыцарей и дам на надгробьях. Это четырнадцатый век, — важно пояснял Давид, сверяющийся по английскому «Бедекеру», а потом всё пытался незаметно скрыться с Варей в сторонку прочь с глаз отца и Марьи Кузьминичны. Вообще, чем ближе к концу путешествия, тем Давид становился настойчивей, и даже перспектива расчёта на месте его уже не так пугала, как в Биаррице: видимо, часть своего жалованья он уже получил от отца. В Париже он почти не имел возможности оставаться с Варей наедине, но сейчас выискивал каждый случай, лез с объятьями, поцелуями — и на что-то, видимо, надеялся, планы какие-то строил. — Помнишь, мы на пароходе говорили о жизни простого человека? — спросил её Давид, когда они вдвоём вышли из церкви, оставив отца и Марью Кузьминичну разглядывать витражи. Они прошли во дворик, где из зелёного, как сукно биллиардного стола, газона выглядывали ряды замшелых могильных плит. — Мы ходим по каким-то красивым местам, но ведь это всё ненастоящее: так живёт ничтожная часть английского народа, а эти вот, — он показал на могилы, — вообще все давно умерли. Знаешь, что? Когда я с родителями приехал сюда, мы жили на востоке Лондона, около Спитэлфилдс. Вот представится случай, я свожу тебя туда, чтобы ты своими глазами посмотрела на всю эту нищету, на эти страдания. Знаешь, Джек-потрошитель ведь орудовал именно в тех местах. Но не бойся: у меня в трости, — он опять показал свою обожаемую трость и нагнулся к Вариному уху, будто говоря что-то очень секретное, — спрятан клинок. И Варя как-то очень отчётливо понимала, чем должна закончиться эта прогулка, чем не может она не закончиться: он будет пугать её изнанкой жизни, водить по грязным, покрытым гарью кирпичным переулкам; потом они зайдут в какой-нибудь тёмный электротеатр, где в сизом полумраке на скрипучих стульях сидят бледные, измождённые после изнурительного дня на фабрике работницы, завороженно глядящие, как на штопаном экране свинцовой окалиной дрожит фильма про красивую жизнь; потом они с Давидом будут проходить мимо жутких кабачков, где небритые докеры в кепках и подтяжках хлебают чёрный стаут из стаканов за сальной стойкой, он даст по зубам какому-нибудь наглецу; а потом они будут ехать назад в кэбе, и маятником будут ходить по бархатистой тьме салона бледные тени от дрожащих золотистых газовых фонарей в окне, залитом каплями дождя, и долго, упоённо они с Давидом будут целоваться, а потом… с замиранием сердца Варя боялась предполагать, что может последовать потом, боялась представить, как он стукнет в потолок кэба своей тростью (с клинком, Варя, с клинком!) и гортанно выкрикнет по-английски какую-то фразу, из которой Варя поймёт только слово «отель». Но ничего этого не случилось: отец, кажется, догадывался, что происходит между Варей и Давидом: пускай он, надо думать, и полагал, что у них всё зашло не дальше гуляний под ручку, но тем не менее он начал особо внимательно следить за Давидом, не отпуская от себя его ни на шаг, а Марья Кузьминична, наоборот, не отпускала от себя Варю. Вслух ничего не говорилось, и отношение отца к Давиду осталось таким же покровительственно-добродушным, но последнюю неделю в Англии они целыми днями пропадали отдельно от Вари и Марьи Кузьминичны на каких-то верфях, и в один из последних дней, улучив-таки момент, Давид хмуро сказал Варе, что никогда не видывал человека, так интересующегося нефтеналивными баржами, как её отец. «Ваш батюшка настоящий Пётр Первый!» — досадливо сказал он, разведя руками, и Варя поняла, что на самом деле хотел сказать Давид: не получилось, не представился случай — а как хотелось. Нет, не получилось, и теперь уже окончательно — со сложным чувством понимала Варя в последний день в Англии, уже поднимаясь на борт парохода «Цесаревич Алексей», который должен был доставить их в Ригу: в небе рядами висели белоснежные облака, по пристани гулял свежий, отдающий углём и рыбой ветер, а с парохода уже доносилась русская речь матросов в белых робах: путешествие заканчивалось. Давид очень чинно со всеми прощался и, уже не заботясь о том, что подумает отец, пообещал Варе писать — и даже выполнил обещание: Варя потом получила от него три письма, последнее в октябре. Он там писал что-то о теннисе, психоаналитическом толковании сновидений, сионизме и венском скетинг-ринке, но всё это было так далеко от того, чем жила Варя, что переписка прекратилась сама собой. Ещё четыре дня на пароходе, день в Риге, два дня на поезде, и они поспевали в Нижний к самому открытию Ярмарки: подумать только, а ведь когда-то Варя считала открытие Ярмарки одним из важнейших дней года, как Пасха или Рождество, и какой ничтожной скучной мелочью это казалось сейчас. Да и вообще, когда прибыли домой, в дождливый июльский день, с кучей чемоданов и коробок, на выгрузку которых потребовалось с десяток носильщиков, Варя узнавала Нижний и не узнавала: город стал какой-то маленький, низенький, и тоскливо было видеть большую как пруд лужу перед домом на Ильинке, куда они возвращались. Как эта поездка на извозчике с поднятым верхом мимо двухэтажных кирпичных зданий, заборов, пароходных пристаней была непохожа на поездку в такой же дождливый день в Вене! Нет, нет, Варе уже было тесновато так жить. Надо было что-то делать.
-
Нет, это не пост. Это полноценный рассказ, законченная история, причем мастерски написанная в духе времени со множеством маленьких, но таких важных нюансов. Браво!
-
Это... да у меня нет слов! Я тут полчаса перечисляла достоинства поста, да позволено мне будет этим простым словом охарактеризовать это произведение искусства, но потом стерла к чертям. Все похвалы и восхищение выглядят слабым подобием, никак не отражающим действительно потрясающего ощущения той жизни, что набросана яркими мощными мазками.
-
В сущности здесь можно плюсовать каждые пятьсот знаков.
-
Господи, радость-то какая. Малиновый звон. Спасибо, ОХК, за Варю. (читаю время от времени, радуюсь.) Рада, что персонаж попал в хорошие руки.
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Финал этой истории все ближе. Чем глубже Фабио погружается, тем быстрее его ноги нащупают почву.
|
— Не Леонид, — поправил руководитель дружины Гертруду. — Лёнька — это от Алексея. Ничего страшного: все всегда путают, — понимающе улыбнулся он. — Так от кого вы, говорите? От Медведя?
Анчар с Герой подтвердили, что да, от Медведя.
— Так вы эсеры, что ли? — нахмурился Лёнька. — Ну, товарищи эсеры, нам с вами не по дороге. Мы тут вообще-то все большевики.
— Не все, — выпустив папиросный дым, подал голос привалившийся к стене Зефиров, наблюдавший за разговором со стороны. — Я анархист.
— Медведь слишком много на себя берёт, — мрачно сказал Лёнька, не обратив на Зефирова внимания. — Он себя, поди, уже диктатором Москвы воображает?
— Ну, мысль-то здравая, — задумчиво прокомментировал Зефиров. Студент отклеился от стены, расхлябанной походочкой подошёл к окну и затушил папиросный окурок о подоконник.
— Конечно, здравая, — поддержал его один из рабочих, с козлиной бородкой и усиками. — Давно вокзалы надо было брать.
— Бомбы есть, самое главное, — встрял другой. — Подобраться к стенам, кинуть в окна, после взрыва сразу же ворваться со стрельбой! На испуг взять!
— Не выйдет, — авторитетно заявил Зефиров. — Об раму ударится и детонирует.
Анчар и Гертруда отметили, что объяснять смысл глагола «детонировать» никому не пришлось: всё-таки типографские рабочие были особой кастой пролетариата — поголовно грамотные, каждый день имеющие дело с текстами самого разного рода, в знании умных слов они зачастую могли дать фору если не приват-доценту, то студенту-первогодку точно. Не зря именно печатники считались авангардом рабочего класса — именно с забастовки московских типографий в сентябре началась всеобщая стачка, к середине октября парализовавшая всю экономическую жизнь в стране и заставившая царя подписать Манифест.
— Можно так… — задумчиво предложил рабочий с бородкой. — Один высаживает раму, другой сразу метает внутрь бомбу.
— Рамы-то двойные, дурак! — подал кто-то голос.
— Ну, обе высадить…
— Тихо все! — фальцетом крикнул Лёнька, и спор угас. Было даже странно видеть, что этого плюгавого и рябоватого белобрысого паренька в кожанке все рабочие так слушаются. — Устроили тут бардак! Вы что, от Зефирова анархизма понабрались? Тогда вам в нашей партии делать нечего!
— Анархия, вообще-то, это не… — поднял было палец химик, но Лёнька не дал ему докончить, сердито шикнув:
— Тихо, Зефиров! Серьёзный вопрос на повестке, не шутка, — Лёнька обвёл взглядом собирающихся вокруг него рабочих. — Никаких дискуссий по вопросам тактики я вести с вами не собираюсь. На комитете голосовали за меня? Голосовали. Теперь извольте подчиняться, а кто не хочет — скатертью дорога, только оружие сдай. Брать Николаевский вокзал, товарищи, конечно, надо, это всем очевидно. Но надо брать и Сущёвскую часть! Диспозиция на текущий момент такова, что вокзал нам пока наличными силами не взять, — и действительно, сложно было предполагать, что десяток человек, столпившихся сейчас вокруг Лёньки, смогут занять обложенный войсками вокзал главной железной дороги страны. — Снимать людей с осады Сущёвки тоже нельзя, да те же кротовцы и не пойдут никуда. Но можно, как предлагает вот товарищ Кассандра, испортить пути. Это можно сделать динамитом. Как вы, товарищи, все помните, мы пришли сюда, чтобы Зефиров нам сладил бомбу, чтобы ей напугать городовых в Сущёвке. Но Зефиров, который, как известно, анархист и приказов не признаёт, — не удержался Лёнька, — снарядил нам не одну бомбу, а три. Тем самым поставив нас всех под угрозу попасть под взрыв одновременно трёх бомб!
— Лёнь, ну хватит уже, а, — попросил Зефиров.
— Однако, анархическое поведение товарища Зефирова в итоге сыграло нам на руку, — ровно и гладко продолжал большевик. Похоже, что Лёнька выступать перед рабочими был привычен и делал это совсем не так, как Медведь, — не пытался громкими лозунгами и рубящими жестами взбудоражить толпу, зажечь и порывисто увлечь за собой; нет, Лёнька говорил размеренно, как по писаному, и речь его больше походила не на экстатическую проповедь революционного Савонаролы, а на гимназический урок — однако, урок такого учителя, который, все знают, зорко следит за каждым в классе и непременно проверит усвоенное по окончании занятия. — И, раз бомбы у нас в наличии три, мы вполне можем выделить одну бомбу, чтобы сейчас можно было ей испортить пути. Поэтому мы сейчас пошлём троих. Троих человек с бомбой, чтобы они испортили пути. Ну и вот товарищи эсеры туда же пойдут, я так понимаю. Пятерых человек должно быть достаточно, чтобы всё как надо сделать. Остальные действуем, как намечали раньше. Кто желает идти портить пути с эсерами?
— Я пойду, — тут же поднял руку Зефиров. — С эсерами всяко веселей, чем с вами тут. Как на поминках всегда.
Больше руку никто не поднимал, и Лёнька сам показал сперва на полноватого рабочего лет тридцати-тридцати пяти в полушубке, с русой бородкой, больше похожего не на пролетария, а на какого-то земского врача, и ещё одного, чернявого, с густой неряшливой щетиной, с которой уже сливались небольшие усики. — Балакин, Чибисов, пойдёте с эсерами. Как взорвёте пути, идите сразу к Сущёвской части: даст бог, мы её к этому времени уже возьмём. Надо, надо нам сегодня её взять до ночи! — энергично добавил Лёнька. — Ну, вперёд. Да бомбы не забудьте!
— Так две брать? — спросил кто-то из рабочих.
— Да, да, берите две, — откликнулся Лёнька, а Зефиров добавил:
— Осторожней с ними! — и поспешил за дверь отдела рекламы: — Давайте я вот круглую возьму, а вы эти две берите.
Рабочие во главе с Лёнькой потянулись к выходу, топая сапогами по лестнице: двое осторожно несли в руках плоские жестяные коробки, по форме напоминающие массивные тома вроде энциклопедий. В конторе типографии остались только Анчар с Герой да Чибисов с Балакиным, озадаченно оглядывающие новых спутников. Из дверей отдела рекламы появился Зефиров с крупным, длиной в аршин, цилиндром из жёлтой жести в руках, напоминавшим гильзу от большого пушечного снаряда. Продольный шов цилиндра был грубо соединён рядом сапожных гвоздиков, неровный жестяной край торчал заусенцами. Торцы цилиндра закрывали круглые крышки от бонбоньерок: на той, что сверху, была картинка: мило улыбающаяся дамочка в старомодном платье с оборочками, с корзиной красных цветов в руках: «Торговый Домъ наслѣдницы Яни Янулы Панайот, Москва».
— Это вот бомба, — тихо сказал Зефиров. — Я почему такой формы оболочку сделал? Думал, что маскировка будет: её вот так можно простынёй какой-нибудь обмотать, и будет вроде как грудной ребёнок. Можно к любому офицеру подойти, не вызывая подозрений, — Зефиров посмотрел на Гертруду с вопросительным видом: мол, кому ещё с замаскированной так бомбой ходить, как не ей?
— Длинновата для ребёнка-то, — хмуро сказал небритый Чибисов, разглядывая бомбу.
— Ну… такой вот ребёнок. Ребёнок-богатырь, — странновато сказал Зефиров, рассматривая лежащее у него на руках творение, склонив голову набок. Сейчас он действительно комично напоминал молодого отца, держащего на руках грудного младенца.
— У вас оружие-то есть, а, эсеры? — хрипловато спросил Балакин, надевающий в сторонке пальто и, услышав, что оружия нет, вздохнул: — Хреново. А у тебя, химик, есть?
— А? — поднял голову Зефиров. — А, да, у меня есть револьвер, он там лежит. Сейчас принесу. На-ка, держи, — и он сунул бомбу в руки Балакину. Тот оторопело подхватил адскую машину, весь замерев и даже, кажется, дышать перестав.
— А она н-не рванёт? — испуганно обратился он вслед опять ушедшему за дверь отдела рекламы Зефирову.
— Если уронишь, то рванёт, — спокойно откликнулся Зефиров из-за двери, и Балакин осторожно перехватил бомбу понадёжнее и прижал к груди.
-
Лёнька тоже четко вышел. Вообще в ходе этого модуля чувствуется, как сильно автор погрузился в тему, и как было бы обидно, если бы этот модуль все же не состоялся. Я даже испытываю некоторый стыд - я и на десятую часть так не разбираюсь в диком западе, как Николенька - в революции)))).
|
Каретная площадь проводила Анчара и Геру «марсианским концертом» — по сигналу с баррикады собравшаяся у решёток и жестяных листов толпа начала вразнобой с жутким, первобытным грохотом колотить по ним, и всё это — раскрасневшийся господин в пальто с бобровым воротником, озверело лупящий тростью по рыжему кровельному листу, несколько поднимающихся и опускающихся серых спин в кружок, как у крестьян, орудующих цепами на молотильне, замотанная в серую шаль баба, выделывающая руками в варежках что-то вроде дирижёрских пассов, вероятно, полагавшая своё представление очень смешным, — всё это выглядело так нереально, так не вязалось с обычным обликом вечерней зимней Москвы, что впору было поверить, что столица и правда подверглась какому-то марсианскому вторжению — благо и цвет флагов был подходящий. Тем временем вечерело: зашло солнце, и до того скрытое свинцовыми тучами, и самое время было бы зажигать газовое освещение, но дела никому не было до газового освещения: фонари стояли тёмные, темны были и окна домов на Пименовской, по которой Анчар с Герой шли к типографии, и лишь кое-где в окнах проглядывался жёлтый свет лампы или свечи, но и тот через щель в задёрнутых шторах. Зато сейчас, в сгущающихся сине-снежных ветреных сумерках, особенно ярко виднелись костры сзади на Каретной площади, и спереди у выхода в Щемиловский тупик, где у самого здания типографии Кушнарёва стояла ещё одна баррикада.  Именно эта баррикада.  Типография Со стороны Каретной доносилась разрозненная револьверная пальба, откуда-то издалека, вероятно, со Страстной, всё ещё бил пулемёт, но орудия больше не грохали. Здесь же, кажется, было безопасно, и потому у костров кучковались люди, странными тёмными силуэтами выделяющиеся за огнями, жарко пылающими в сиреневой полутьме. Народу, впрочем, становилось меньше, — ещё разбредались по тротуарам зеваки, уходящие прочь с Каретной площади, но не было уже тех праздношатающихся масленичных толп, которых так много сегодня видели на улицах Анчар и Гера. Кто-то, впрочем, не спешил расходиться, останавливаясь у горячо обдающего жаром, бросающего снопы искр костра, обмениваясь новостями с Каретной площади (там шёл бой), от Сущевской части (там ничего не изменилось) и иных мест. У костра быстро выяснили, что Лёньку нужно было искать в типографии: туда и направились. Вход в типографию был так же украшен красными флагами, как ресторан «Волна» и столовая Прохоровской мануфактуры, но внутри было иначе: вместо шумного революционного бардака подпольщиков встретил пустой печатный зал: ряды типографских станков — блестящие в полумраке стальные шестерни, тёмные валы, медные рычаги, массивные чугунные станины. Во время жизни в Женеве Анчар помогал в типографии, выпускавшей «Революционную Россию», но там и зал был куда меньше, и станки попроще, — но всё же и здесь он узнавал какие-то вещи: вот промазной валик для нанесения краски, вот крючок наборщика, которым ловко можно выдернуть неправильную литеру из формы, вот щётка для очистки краски, совсем как обувная и такая же почерневшая. А вот Гертруда во время работы в ревельской газете «Postimees» видела точно такие же станки (редакция была сверху, типография в подвале) и знала, как они называются: ротационные офсетные станки «Кёниг унд Бауэр». Двинулись дальше. Поднявшись на второй этаж, гулко ступая по пустому помещению, миновали тёмный наборный зал с погасшими электрическими лампами с потолка, рядами столов, шрифтовых касс. Каких мучений стоило достать пятнадцать фунтов русского шрифта в Женеве, как все в типографии тогда проклинали Кирилла и Мефодия за то, что нигде во всей Швейцарии не найти литер с ятями, буками и ерами, — а вот тут целые кассы, десятки, сотни фунтов увесистых свинцовых кубиков литер. Поднялись по лестнице на третий этаж в контору, и только здесь увидели людей: в напряжённой тишине на стульях, столах и подоконниках сидело с десяток человек, по виду рабочих.  Наборный зал  Контора Анчар только хотел обратиться к кому-то из дружинников, странно рассевшихся не по всему залу, а кучкой рядом с лестницей, в дальнем от кабинетов конце, но на него тут же гневным шёпотом шикнули: — Тихо!… Тихо!… — и замахали руками. Один из дружинников, лет двадцати пяти, с жидкими соломенными волосами и белесыми, еле заметными на рябоватом лице усиками, показал Анчару и Гере, чтобы они дальше не ходили, а подождали. Все дружинники тут чего-то ждали, поняли гости: все глядели на дверь с табличкой «Отдѣлъ рекламы», как будто сейчас из-за неё должен появиться какой-то гений рекламного дела с объявлением, которое заставило бы всех солдат и городовых в один момент перейти на сторону народа с оружием в руках. — Там у нас того… — шёпотом обратился он к Анчару, поднявшись со стула, — мешать нельзя. Стенка тонкая, всё слыхать. Чуть чего, всё, — он беззвучно изобразил руками подобие взрыва. Принялись ждать. В конторской зале резко пахло керосиновым чадом от трёх стоящих на столах и балюстраде у лестницы ламп с неэкономно выдвинутыми фитилями, но зал был большой, и даже яркого огня чадящих ламп не хватало: углы зала тонули в дрожащих тенях. За окнами с переложенными ватой рамами совсем засиневело, и снег, кажется, всё усиливался, тонким белым слоем оседая снизу стекла. Несколько дружинников курили, распространяя резкий сладковатый запах дешёвых папирос. — Что-то долго больно он с одной-то бомбой возится, — шёпотом сказал один, в низко надвинутом картузе, сидящий на балюстраде. — Такое уж дело… — прокомментировал кто-то. — Осторожно надо. Не торопи, а то рванёт. Один из рабочих встал, крадучись двинулся к окну, протяжно поскрипывая досками пола. На него шикнули: — Куда?… — Я это… — шёпотом ответил рабочий, виновато оглядываясь, — фортку открыть. А то запах… — Подь сюда!… — цыкнули на него, и в этот момент дверь отдела рекламы распахнулась. На пороге стоял долговязый длинноволосый парень, по виду студент младших курсов, с косо сидящим на носу пенсне, в косоворотке и расстёгнутом жилете, с мятой папиросой в губах. — Готово! Все три снарядил! — громко объявил парень, измождёно привалился к косяку и с делано безразличным видом затянулся папиросой, картинно откидывая сальные русые волосы со лба. Все повскакивали, с облегчением загалдели, начали поздравлять химика с удачной сборкой бомб. Тот в ответ слабо улыбался, как изнурённый победитель марафонского забега: — Да, можно брать, да, — важно говорил он, видимо, с удовольствием выделываясь перед товарищами, наслаждаясь своим успехом, — только осторожней берите, без резких движений: это ударные бомбы! Единственным из дружинников, кто, кажется, не был особо впечатлён успехом химика, оказался тот самый белобрысый рябоватый рабочий, остановивший Анчара. Сейчас он отвёл химика в сторону и строго заговорил с ним, зло глядя на долговязого студента снизу вверх: — Зефиров, у тебя в голове что, вообще пусто — три бомбы сразу снаряжать? А… — здесь у рабочего от гнева перехватило дыхание, он запнулся, — а если бы одна взорвалась, то и две другие вместе с ней, так, что ли? — Ну Лёня, — с беззаботной ленцой отвечал студент, пустив папиросный дым вверх тонкой струйкой, — я тебя не учу, как дружину в бой водить? Давай ты меня тоже не будешь учить, как бомбы снаряжать? Я, между прочим, сейчас вот настолечко, — Зефиров показал пальцами, насколечко, — от смерти прошёл. — Ты понимаешь, дурак, что ты нас бы всех угробил? Мы тут сидели, думали в безопасности, но это ведь от одной бомбы в безопасности! А если бы три разом взорвались, что от нас тут осталось, об этом ты подумал? — Я тебе говорю, Лёня, ты не понимаешь, тут по одной собирать никак невозможно! Надо три сразу, а то пропадёт настрой, рука дрогнет, — всё, кирдык, — студент легко махнул рукой с папиросой, как пьяный. — Чёртов анархист, — хмуро выругался Лёня, видимо, поняв, что в теперешнем состоянии с Зефировым разговаривать толку мало. — Потом с тобой поговорим ещё.
-
Товарищ Зефиров и здесь делает свои безусловные бомбы.
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Отборный бред как и всегда)
-
Очень красиво и изящно написано, как все глубже проникает в поры, просачивается в разум безумие.
-
Прочитал ветку, ничего не понял, но тут явно какой-то Линч! Ставлю плюс.
-
Магистр любит рассказывать анекдоты. И судьба порой играет с нами дурную шутку. Однажды Магистр рассказал в обсужде занятную историю о Средних веках.
Самоубийство как величайший грех против Бога и человечества согласно представлениям католической церкви (и, например, Франции) должно караться смертной казнью. То есть неудавшегося самоубийцу предполагалось добить в судебном порядке. Причем в последний раз это подтвердил ордонанс аж в 1670 году.
Одним словом — нехилую ты мне задачку поставил!
А пост шикарный, да.
|
— Да что ж вы какие!… — Марсианин дёрнул рукой, чтобы досадливо хлопнуть по столу, но в последний момент удержался. — Какие десять человек? У меня всего на этой баррикаде восемнадцать вместе со мной да со стороны Дмитровки филипповцев человек двадцать пять! Ну уйдём мы сейчас, бросим баррикаду — так через час её тут уже не будет! А будет пулемёт стоять с пушкой, как на Сухаревской башне, и в спину кушнаревцам бить! — Марсианин махнул рукой куда-то в сторону то ли Сухаревской башни, то ли типографии Кушнарева. — Вы вот что, товарищ, — обернулся он к Анчару, — вы найдите-ка сами десять человек, вооружите их и ведите за собой хоть на штурм Зимнего дворца! А мой отряд с этой позиции до ночи никуда не уйдёт!
Марсианин снова закашлялся, и, не успели Анчар с Герой что-то ему возразить, витражная дверь зала хлопнула и из гардеробной в зал влетел юный раскрасневшийся от мороза паренёк в лопоухой ушанке и драном дворницком тулупе:
— Элу-элу! — по-марсиански закричал он, взмахнув маленьким дамским «велодогом». — Идут, идут! Приступ!
Марсианин вскочил из-за стола, сорвал висевшее на спинке стула кепи с наушниками и свирепо-укоризненно скользнул взглядом по Анчару с Герой: вот видите, мол.
— Элу-элу! — сорванным голосом, как мог, сипло закричал он: — Вперёд, марсиане!
Сидевшие за столиками дружинники начали вскакивать, надевать шапки, торопливо обматывать шеи шарфами, застёгиваться, затем суматошно, беспорядочно, с гомоном потянулись к выходу, как реалисты после звонка с урока — и действительно, многие из них, как принесший весть с баррикады часовой, и были реалистами, студентами, молодыми рабочими — понимали Анчар с Герой, глядя как толкаются в узкой тёмной гардеробной, где кто-то по привычке оставил верхнее платье, дружинники.
— Флаг, флаг не забудьте! — со звонким надрывом кричал кто-то, будто самым важным в обороне баррикады было установить на ней красный флаг.
— Да там два уже! — крикнули ему с улицы.
— Бери третий, Бог троицу любит!
— Я с вами, Шура, я с вами! Не убегайте без меня! — пробежала мимо Анчара с Герой по полупустому залу та курсистка, которая читала стихи со сцены, и вылетела на морозную улицу, держа в охапке ворох одежды.
Вышли вслед за дружинниками на улицу и Анчар с Герой. Как обычно бывает после того, как немного отогреешься в тепле, до дрожи резко навалился металлический мороз, мелкий колючий снег больно защипал по щекам, ледяные порывы ветра били то в лицо, то в бок, то в спину. По всей площади шла беспорядочная суетливая беготня: тащили красный флаг, дружинники по-обезьяньи карабкались по ледяной стенке баррикады, перегораживающей Каретный ряд, публика с возбуждённым азартом, но без особой паники, вприбежку, с интересом оглядываясь, отступала дальше от баррикады по Пименовской. Курсистка, стоя на розовом от разбитых винных бутылок льду, спешно обматывалась шалью и застёгивала пальто, одновременно высматривая убежавшего куда-то Шуру.
— Городовые, это городовые идут! — почему-то радостно наперебой закричали дружинники, выглядывающие поверх баррикады. — Городовые — это ничего!
— Публика! — надсажено заорал Марсианин, залегший на баррикаде под одним из трёх красных флагов, бьющихся сейчас на пронизывающем хлёстком ветру, — занять места в оркестровой яме! По моему сигналу даём марсианский концерт номер один! Элу-элу!
Видимо, для зевак эти слова имели какой-то смысл, потому что некоторые — далеко не все, но один за другим несколько десятков зевак — начали подбирать со снега кто вывороченный булыжник, кто палку, кто брал на изготовку трость, собираясь вокруг приставленных к стенам ржавым листам кровельной жести, снятых решёток ворот.
-
— Публика! — надсажено заорал Марсианин, залегший на баррикаде под одним из трёх красных флагов, бьющихся сейчас на пронизывающем хлёстком ветру, — занять места в оркестровой яме! По моему сигналу даём марсианский концерт номер один! Элу-элу!Очень в духе Марсианина с его кошачьими концертами в тюрьме)))).
|
Странно было носить на голове шапку только что убитого человека — она и маловата была, и пахла неприятным парикмахерски-банным запахом, как только может пахнуть ещё тёплая шапка с чужой головы, и в крови была испачкана, как ни отирай о снег, — хорошо хоть, кровь не была сразу заметна на чёрной барашковой шерсти. Но в шапке стало теплее — благодарно заныли отогревающиеся уши, перестало ломить от ледяного ветра затылок и лоб. За разговором о политике Гера, однако, не могла не отметить, что в чужой шапке товарищ Анчар сразу стал выглядеть подозрительно: цельность буржуазного образа не нарушало ни рваное пальто, ни отсутствие головного убора; а вот круглая барашковая шапка самого базарно-мещанского фасона сразу сделала подпольщика похожим, в самый раз под паспорт, на какого-то разорившегося нотариуса или проворовавшегося маклера, ещё не успевшего сдать в заклад пальто, но близкого к тому. Наверное, поэтому на выходе из Козицкого переулка на Дмитровку их в первый раз остановил гренадерский патруль, досматривающий прохожих, — раньше их будто не видели, а теперь задержали, строго спросили, нет ли оружия и куда и с какой целью они идут. Анчар ответил заготовленным рассказом про Самотечную улицу, и командовавший патрулём фельдфебель, охлопывая Анчара по бокам, сказал идти через Цветной бульвар, так как на Дмитровке и в Каретном ряду небезопасно. — На Цветном тоже небезопасно, — добавил он, внимательно проверяя паспорт нотариуса Коровкина, — но там, кажись, уже баррикады все снесли. Пообещав прислушаться к совету, Анчар с Герой повернули и вышли к задней стене Страстного монастыря с противоположной пулемётной колокольне стороны. Стрельба на Страстной площади утихла, молчал и пулемёт, зато снова раз за разом с той стороны раскатисто бухали пушки: видимо, обстрел Тверской возобновился. Здесь, на Страстном бульваре за монастырём, тоже было столпотворение солдат — впрочем, не такое, как на Тверском: костров не было, и солдаты с винтовками за спиной, видимо, только недавно пришедшие сюда, базарно толпились серыми кучами, дыша на руки, дымя папиросами, приплясывая от холода. Это гренадеры, — определил Анчар: он, хоть и не был военным, но гренадерские погоны отлично знал — в Москве квартировало много гренадерских полков. Отдельная серошинельная очередь протянулась к стоящим в стороне ломовым саням, заставленным ящиками с торчащими из сена бутылками: каждый получал по чарке и, отирая быстро индевеющие на морозе усы, отходил обратно к своим. Особняком стояли, собравшись в кружок, офицеры, склонившись над ящиком, на котором была разложена карта. — …наносят отвлекающий удар вот здесь… — говорил один, ребром ладони деловито указывая что-то на карте, но останавливаться и прислушиваться было опасно: тут везде были солдаты, и публика — вездесущая публика, и не думающая прятаться по домам ни от мороза, ни от стрельбы, — торопливо проходила стороной, огибая солдатскую толпу, стараясь не глазеть вокруг. Вышли к Малой Дмитровке, и с первого взгляда стало ясно, что здесь не пройти, — тут было то же, что на Тверской: пустынная, заснеженная, усыпанная осколками стёкол улица: страшно глядели чёрные провалы окон, безмолвствовала затейливая старорусская шатровая колокольня церкви Рождества Богородицы, и только за Настасьинским переулком взад и вперёд по улице шагом ездил казачий разъезд, отгоняющий желающих пройти. Далеко за спинами казаков виднелась чёрная полоска баррикады с парой установленных красных флагов. — Не велено туда! — устало и неохотно покрикивал казак в заломленной фуражке на двух барышень, смело направившихся по тротуару мимо разъезда. — Не велено, кому сказано! — казак сделал движение, будто поднимает нагайку, и барышни, сразу поняв, повернули обратно. Вдруг совсем рядом сухо бахнул револьверный выстрел, и уже наученные опытом прохожие, в том числе Анчар и Гера, сразу отпрянули в стороны. Стрелял гренадерский поручик, шедший по тротуару среди публики: Анчар и Гера вот только-только разминулись с ним — а сейчас он стоял в картинной позе для стрельбы, в пол-оборота, с полусогнутым локтем, целясь в сторону совершенно пустого тротуара по левой стороне Малой Дмитровки. Это выглядело дико, будто офицер спятил и ведёт дуэль с воображаемым врагом, ожидая выхода того к призрачному барьеру. — Ваше благородие, можно пройти? — несмело обратился из-за спины офицера пригнувшийся к снегу прохожий — напуганный господинчик с портфелем, цепляющий на нос свалившееся золотое пенсне. — Проходите, проходите, — не сводя глаз с прицела, флегматично ответил поручик. — Да как же… вы ведь стреляете! — Я не в вас, я вон в того прохвоста, — медленно процедил офицер, сосредоточенно целясь, и сейчас стало понятно, в кого — из-за афишной тумбы выскочил и, придерживая кепку на голове, пригибаясь, бросился бежать к выходу в Настасьинский переулок кто-то в ватном пиджаке, очевидно, рабочий. Офицер пальнул по нему ещё раз — не попал; рабочий скрылся в переулке. Стоявшие у другой стороны улицы казаки тоже вытащили было револьверы, но решили беглеца не преследовать: за каждым таким не набегаешься. — Ты сам прохвост! — выкрикнул кто-то из публики в адрес офицера, и тот обернулся, бешено зыркнув, но выкрикнувшего, конечно, не обнаружил. Офицер дёрганым движением сунул наган в кобуру, шмыгнул носом и широко пошагал дальше, и Анчару вдруг подумалось, что этот поручик тоже может быть под кокаином. Образовавшая уже маленькую толпу публика потянулась дальше. Направились дальше и Анчар с Герой: по Дмитровке, очевидно, пройти было нельзя, и решили попробовать через Каретный ряд. У массивного колонного фасада Ново-Екатерининской больницы также толпились войска — только не гренадерская пехота, а жандармы с городовыми: ни Анчар, ни Гера никогда не видели столько жандармов и городовых в одном месте — чуть ли не сотня их тут набралась. Эти вооружены были хуже, чем гренадеры, — винтовок у них не было, только револьверы и шашки: зато и здесь, как у задней стены Страстного монастыря, раздавали водку, и городовые с жандармами так же тянулись к саням разномастным хвостом. Снова забухала пушка — но на этот раз не от Страстной площади, а совсем неожиданно — от Театральной. «Опять пошли по пассажу колотить» — прокомментировал прохожий. Анчар походя поинтересовался у него, по какому пассажу, и прохожий ответил, что по Голофтеевскому (он был в самом начале Неглинной улицы), что там засела какая-то дружина, и вот по ней уже битые два часа лупят из пушек. На Петровке, у ограды парка Ново-Екатерининской больницы дежурили городовые, которым, как и казакам на Дмитровке, видимо, было поручено не пропускать людей к Каретной площади — но людей было много, городовых мало, и те, собравшись у жалкого костерка, только время от времени покрикивали на прохожих, что в ту сторону ходить не велено, а если уж кто идёт, то пусть пеняет на себя. На них не обращали внимания. Беспрепятственно прошли в сторону Каретного ряда и Анчар с Гертрудой, и так, наконец, добрались до Каретной площади. 16:00Здесь, как и на Кудринской, было людно, но отличие было в том, что баррикады тут никто не строил — с тех пор, как Гертруда ушла отсюда утром, всё уже было построено, и построено крепко и основательно. Каретный ряд близ выхода на площадь перегораживали не одна, а сразу две последовательно идущих баррикады: первая низенькая, в половину человеческого роста, вторая же — высокая, прочно скреплённая льдом. Но ещё основательней была баррикада, наискось протянутая через перекрёсток Долгоруковской и Оружейного переулка: внешняя её сторона почти целиком состояла из обледенелых массивных дверей и ворот, образующих единую гладкую ледяную поверхность выше человеческого роста, а сверху на баррикаде рядом с длинными и узкими красными флагами были помещены два чучела — оба в фуражках, одно в оборванной солдатской шинели, другое просто в каких-то тряпках, с примотанной к изображающей руку палке обломанной шашкой. На груди одного чучела висела табличка «Дубасовъ», другого — «Треповъ. Патроновъ не жалѣть!»    Это та самая баррикада, и, если честно, я не вижу, чтобы она была сколь-нибудь основательней большинства других запечатлённых на фото баррикад, но полагаю, что снимки сделаны ещё до окончания её строительства или уже при её разборке: во всяком случае, в источниках неоднократно указывается, что это была самая мощная баррикада на Садовом кольце (а то и вовсе в Москве). Тем более, что и чучел на фото тоже нет, а они там были! Забаррикадировано тут вообще было всё как следует: перегорожены были и Дмитровка (именно эту баррикаду Анчар и Гера видели со Страстного бульвара), и Триумфальная-Садовая, и Самотёчная, и Божедомский переулок, и только выход на Пименовскую улицу был оставлен открытым. В разных концах площади были разложены костры, что делало её похожей на гуннское становище, и у каждой баррикады у костров сидело по несколько дружинников. Публика же, как и в прочих местах, тянулась через проходы в баррикадах, перетекала с места на место и оживлённо обменивалась новостями: — Нет-нет-нет, молодые люди, вы туда не пройдёте, — назидательным тоном знатока сообщал интеллигентного вида господин с седой бородкой клинышком студенту в шинели с поднятым воротником и барышне с ним под ручку, указывая в сторону Сухаревской площади. — Там на крыльце башни стоят, — господин важно понял палец, — артиллерийские орудия. — Трёхдюймовки! — весело подтвердил стоявший рядом молодой парень в картузе и кожанке. — И пулемёты! Палят по всем, только сунься! — рассмеялся он так, как будто это его очень забавляло. Анчар подошёл к одному из дружинников у костра и спросил, где искать Марсианина или Лёньку. — Где Лёнька, не знаю, небось в типографии, — хрипло, с ленивым пренебрежением ответил дружинник с серой мохнатой шалью на плечах, грея протянутые руки над огнём, — а Марс в «Волне». «Волна» вон ресторан, — обернувшись, небрежно махнул он в сторону двухэтажного здания на углу Каретного ряда. Над входом в ресторан висели два красных флага, но в этом ничего странного не было — где они тут только не висели, — а странно было то, что у входа в ресторан весь снег тоже был красный, точнее розовый — неужели тут кого-то расстреливали? Судя по количеству красного, расстреливать должны были десятками. Впрочем, приблизившись, Анчар с Герой увидели, что в красном снегу повсюду лежат тёмные стеклянные черепки, гнутые осколки, закрытые пробками бутылочные горлышки от вин, водок, коньяков, шампанского. Кажется, здесь расколотили целый погреб. В ресторане было так же накурено и шумно, как в столовой Прохоровки, — и, как та мало чем напоминала заводскую столовую, так и ресторан «Волна» был меньше всего теперь похож на обычный московский купеческий ресторан средней руки: разве что остались жухлые пальмы в кадках и безыскусные панно по стенам, в синей гамме, под Айвазовского: «Ялта», «Гурзуфъ», «Ѳеодосія». — Когда ж пробьет желанный час и встанут спящие народы, святое воинство свободы в своих рядах увидит нас! — изысканно грассируя, нараспев, с чрезмерным вдохновением декламировала со сцены миловидная белокурая курсистка, высоко поднимая сжатый кулачок. В зале за покрытыми скатертями столиками, сдвинутыми и отдельными, сидели дружинники — в своих обычных куртках, свитерах, пальто, склонившиеся над тарелками, тянущие чай из блюдец, вольготно развалившиеся на венских стульях с папиросами, проникновенно слушающие декламацию. В одной из внутренних стенок ресторана зияла жуткая рваная, с клочьями обоев и решетчатыми обломками дранки, дыра, по-видимому, от взрыва бомбы. Рядом с дырой стоял покрытый белоснежной скатертью столик, за которым двое дружинников с аппетитом, низко склонившись над столом и работая ложками как инструментом, уплетали суп — один из тарелки, второй прямо из большой фарфоровой супницы. — Марсианин? — откликнулся первый попавшийся дружинник, когда его спросил Анчар. — Вон он, — и указал в угол зала. Марсианин оказался круглощёким парнем лет двадцати-двадцати пяти с пышной курчавой шевелюрой, по виду простуженным: хоть в зале было и тепло, он сидел в застёгнутом пальто, с обмотанным шарфом шеей и шумно прихлёбывал крепкий чай из стакана. Рядом с ним на столе стояли пышащий жаром самовар, блюдо с крендельками, сахарница и лежал браунинг. Гера пыталась припомнить, тот ли это человек, кто подписывал ей утром мандат для прохода на Пресню, и пришла к выводу, что — нет, не тот, что Марсианином в тот раз подписался кто-то другой, а этого человека она видит первый раз в жизни. — Вам чего? — шмыгнув носом, поднял он взгляд на Анчара и Геру.
-
Восторги, один сплошной восторг: за подборку материалов, за следование исторической канве, за то, что каждая строка дышит временем. И, конечно, за замечательный, интересный текст.
-
— Ты сам прохвост! — выкрикнул кто-то из публики в адрес офицера, и тот обернулся, бешено зыркнув, но выкрикнувшего, конечно, не обнаружил. Да, вот это чувство, когда за спиной у тебя кто-то что-то крикнул, а имперский штурмовик оборачивается и упирается взглядом в тебя, я хорошо помню по Трубной площади.
|
Чем отличается подпольная газета от легальной? Кажется, кроме самого факта нелегальности, немного чем: и то, и то — газета; но, взяв в руки, отличишь сразу. Во-первых, подпольные газеты печатают на тончайшей, лёгкой, сухо шелестящей папиросной бумаге. Подпольную газету не почитаешь, подняв перед собой, — все буквы с другой стороны видны на просвет; с подпольной газетой нужно обращаться осторожно — её легко порвать; но зато и складывается она не в мясистый свёрток, а в тоненькую трубочку. Отличается подпольная газета и вёрсткой: её поля совсем узкие, её не ухватишь руками так, чтобы не закрыть части какой-то колонки; у неё нет обширных подвалов с фельетонами, нет завитых рамок отделов, нет виньеток, фотографий, карикатур, рекламы. Сухо и строго здесь всё, как в словаре: две колонки; статьи и заметки отбиты друг от друга простыми линиями, и сплошной стеной сверху вниз, занимая всё пространство почти без остатка, идёт убористый текст, текст, текст. И только на первой странице послабление — большое заглавие «Революцiонная Россiя», большое, но тоже строго набранное. А как пахнут революцией все эти статьи — анонимные или с подписями вроде «Вашъ братъ Рабочiй», тексты резолюций с митингов, заметки с мест, начинающиеся «Мы получили сообщение» или «Нам стало известно», отчёты центральной и местных касс (как таинственны все эти упоминания взносодателей «математикъ — 1000, Наболѣвшая душа — 300») и самый загадочный отдел — почтовый ящик, полный конспиративных сообщений вроде «ТИМОФЕЮ: Пакетъ № 2 полученъ» или «Нѣтъ вѣсточки отъ Г. К. Выясните, что съ нимъ». Печатают подпольные газеты, конечно, не в России, а за границей — эсеровские, например, в Швейцарии. И в Россию они идут не сплошным потоком, не на почтовом поезде, как развозят номера какой-нибудь «Биржёвки» по провинциям, а тоненькими ручейками — по пятьдесят, сто, двести штук за раз, — зато и ручейков этих не один, не десять, а и не сосчитать сколько: с недавних пор возить литературу из Финляндии стало модной забавой среди питерской молодёжи и интеллигенции: сделать общественно полезное дело, пощекотать себе нервы, но при этом особо ничем не рискуя: полным дураком надо быть, чтобы попасться на провозе литературы: должно быть, маши перед носом железнодорожного жандарма номером «Ревроссии» — и то заметит разве что на третий раз. Поэтому то, что сейчас Анчар вёз в Москву сотню номеров «Ревроссии», подвигом не было. Вот когда этим летом он возил из Финляндии в Питер динамит — это было опасно, это было нужно, это требовало смелости. А газета — да после октябрьского Манифеста и объявленной свободы печати и смысл-то в ней пропал: кто хочешь сейчас писал что хочешь в бесчисленных сатирических изданиях, которые привозили в Женеву из России, и все обитатели тесного эмигрантского мирка только ахать могли от граничившей с хамством смелости, проснувшейся вдруг в российских щелкопёрах. Поэтому Михаил Рафаилович Гоц — тяжело и, кажется, смертельно больной, прикованный к постели, но по-прежнему энергичный и живо интересующийся новостями из России член ЦК, и говорил Анчару лично при последней встрече, что «Ревроссию», скорее всего, партия будет закрывать, так как смысл в ней пропал. Но вышел же вот семьдесят шестой номер, и в Россию надо было его как-то переправлять. Вот сейчас Анчар и ехал с сотней номеров в чемодане. В чемодан эти номера переправились только пару дней назад, в Варшаве, а до того висели на теле перевозчика, скрученные в трубочки, помещённые в длинные тканые мешки, «колбасы», как их называли. Таких набитых газетами «колбас» под одежду можно было поместить до нескольких десятков, разным образом обмотав их вокруг торса, повесив на шею, закрепив изнутри рубашки, в штанинах и так далее. Ехать так, обвешанный пухлыми «колбасами», было мучительно жарко и потно, — но зато уж можно было быть уверенным, что жандарм на границе, даже если и попросит открыть чемодан и простукает его на предмет двойного дна (это бывало раз на сто случаев, но бывало), ничего предосудительного в нём не найдёт. А обыскивать полноватого пассажира первого класса, несмотря на натопленный вагон, зябко сидящего в скрывающем очертания тела пальто (вероятно, простуженного), никто никогда не осмелится. 11:29, 11.12.1905
Подмосковье, станция Кунцево
Пасмурно, -9 °С— Минус четыре. Или минус… нет, минус шесть. Хотя скорее минус пять, — сквозь сон донёсся до Анчара резкий голос с акцентом. Анчар открыл глаза. Купе первого класса: бархатные кресла, валики, багажные сетки над головой, жухлый варшавский цветочек в вазочке, душное печное тепло из-за стенки, серый свет холодного зимнего полудня. Затёкшие суставы, смурная голова после мутного утреннего дорожного сна. Поезд стоит. Попутчик-поляк, наклонившись к окну, подышал на стекло и растёр пальцами морозные узоры. — Так, минус пять, — удовлетворённо выговорил он. — Минус пять? — с каким-то непонятным подвохом спросил второй попутчик, долговязый вихрастый подъесаул, следующий из армии к себе на Дон в отпуск. — Так, — спокойно ответил поляк. — По Реомюру. — А не по Цельсию? — с ласковой угрозой спросил казак. — Нет, по Реомюру, — подчёркнуто вежливо ответил поляк. Как это у него получалось каждую, даже совершенно невинную фразу произносить тоном этакой шляхтецкой заносчивости, с этакой пренебрежительной расстановочкой, — наверное, нужно родиться поляком, чтобы так уметь. Со вчерашнего вечера, с самой Варшавы, это продолжалось — какая-то высказанное лишь тоном одним чванливое высокомерие со стороны поляка, глухо копящаяся неприязнь со стороны донца: оставалось лишь надеяться, что первый класс варшавского экспресса не превратится в арену для продолжения старого спора славян между собою. Анчар выглянул в оставленную поляком прогалину в окне. Деревянный заборчик, китчевые замковые башенки станции — это Кунцево. Уже чуть-чуть осталось, почти приехали. Очень многие почему-то здесь выходят — странно, ведь не дачный сезон: идёт по перрону толпа людей с чемоданами, саквояжами. И долго что-то стоим… Дверь отделения распахнулась, и морозной свежестью пахнуло от серой шинели появившегося на пороге усатого коренастого жандарма. — Господа, — объявил он с порога, — прощения прошу, но поезд дале не идёт. В Москве забастовка, все поезда стоят, — по усталому невыразительному тону жандарма можно было понять, что эту фразу он произносит сегодня не первый и не десятый раз. — Как забастовка? — беспокойно встал с кресла донец. — Какая забастовка? — в тон ему, первый раз за всю поездку, спросил поляк. — Такая забастовка, господа! — раздражённо развёл руками жандарм. — Обыкновенная забастовка: весь город стоит, поезда тоже стоят. — А как нам добираться до Москвы? — ошеломлённо спросил казак. — Это ваше… ваше Кунцево, оно далеко до Москвы? — гневно указал поляк в окно. Даже сейчас «это ваше Кунцево» прозвучало так, что уж, мол, я-то к этому вашему Кунцеву отношения никакого не имею. — Господа, Христа ради, не галдите вы как дети малые! — всплеснул руками жандарм. — Ваше благородие, — кинул он взгляд на китель и шинель казака, висящие на крючке, — как добираться, я вам ничего не скажу. Посчастливится извозчика найти — Бог в помощь, а нет, так не меня вините, а вон, фабричных! Я, что ли, эту катавасию тут затеял?! — Что, пешком?! — с яростью воскликнул вслед уже удалившемуся к следующему отделению поляк. Донец лишь обалдело пожал плечами. И в самом деле, что, действительно пешком? — думал Анчар, выйдя на перрон с чемоданом (двойное дно — снизу газеты, сверху остальное). Прошёл через набитый народом зал ожидания первого класса, вышел на широкую пристанционную площадь в окружении закрытых по зимнему времени лавочек и ларьков. Извозчиков не было. Прилично одетые господа в основном оставались в тепле станции, а пассажиры третьего класса серой вереницей потихоньку тянулись к выходу на шоссе, ведущее в Москву. У паровоза в голове поезда собралась кучка людей — господ, поездной команды, жандармов, городовых, — что-то оживлённо обсуждающих. Размышляя, получится ли всё-таки нанять извозчика или придётся топать по морозу до Дорогомиловской заставы семь вёрст, Анчар остановился у дверей станции выкурить сигарету — ещё заграничную, французскую, — как со стороны города на площади появилась тройка — настоящая лихаческая тройка, с маститыми, красивыми лошадьми, ладными открытыми санками со сложенным верхом и красным фонарём на облучке. В санях было трое — кучер на козлах и двое на пассажирских местах. Описав круг по площади, тройка остановилась перед крыльцом, и к ней сразу кинулся куривший рядом сигару седоусый господин в тяжёлой бобровой шубе. — До города, ребятушки, до города, — одышливо присвистывая, моляще обратился он к людям в тройке. — Двадцать рублей даю! — А в дупло засунь себе эти двадцать рублей! — был ему грубый задорный ответ. — Надо будет, сами возьмём, а тебя не спросим! А ну-ка цыц отсюдова, кровопийцы! — и из саней поднялся рослый молодой человек в мохнатой меховой шапке, извлёк из-за пазухи серого тулупа тяжёлый чёрный маузер и лихо наставил его на буржуя. Буржуй попятился, в ужасе разинув рот и выставив перед собой руки. Стоявшая у входа толпа отхлынула, потекла внутрь станции, послышались вопли «революционеры!», «грабители!» Ещё не разобрав лица под мохнатой шапкой, а лишь по звонкому голосу Анчар узнал Никиту Деева, рабочего с Прохоровской Трёхгорной мануфактуры, который и должен был встречать Анчара сегодня на Брестском вокзале. Знакомы они были уже несколько лет, и, приезжая в Москву, Анчар, бывало, останавливался у Никиты на холостяцкой квартире у Зоосада. Сочувствующим Никита был уже давно — с тех самых пор, как ещё юношей перебрался в Москву из Курска, в партию вошёл, как и тысячи других рабочих по всей стране, после Кровавого Воскресенья, а в октябре после Манифеста записался в боевую дружину. Никита хранил у себя литературу, участвовал в собраниях фабричного комитета и в пополнении партийной кассы — как даровитый токарь-фрезеровщик, зарабатывал он по фабричным меркам совсем немало, и мог бы даже прислугу держать — но вместо этого регулярно жертвовал на дело. — Анчар! Сюда! — взмахнув маузером, крикнул Никита, заприметив его. — Живей, живей! — с козел поторопил спешащего к саням Анчара возница — незнакомый рыжебородый детина лет пятидесяти в папахе и грязно-синем извозчичьем тулупе, а второй пассажир саней — румяный, раскрасневшийся от мороза юноша в стальных очках, в студенческих шинели и фуражке, энергично замахал рукой. — Гони, дядя Игнат! — петухом крикнул студент вознице, как только Анчар забрался в сани, но возница уже и сам, привстав на козлах, лихо вскрикнул «иииип!», натягивая вожжи. Сани резко дёрнуло, Анчара рывком бросило назад в кожаную спинку сиденья, когда тройка с места взяла галоп. Ухнули за спину домики на площади, полетели, мельтеша, голые берёзки по бокам укатанного шоссе, жгучий ледяной ветер больно забил по щекам, струи снежного месива полетели из-под полозьев. Оглянувшись, Анчар увидел, как на крыльцо станции выбегает давешний жандарм с шашкой. — Ахаа! — с восторгом возопил сидящий против хода студент, также видящий оставленную за спиной станцию, и потянулся было за пазуху, но сидящий рядом с Анчаром Никита, перегнувшись, остановил его — хоть по его счастливой физиономии и видно было, что пострелять хочется и Никите. — Не надо, Женя, не стреляй! — радостно смеясь, крикнул он ему. — Чего зря пули тратить?! — Ийип! — подгонял лошадей возница. — Ийип! Станция осталась позади: теперь тройка неслась по шоссе, по которому к городу уныло брели редкие пешеходы, с надеждой оглядывающиеся на проезжающих. Путь шёл вдоль железнодорожной насыпи, и с удивлением Анчар видел, как сразу за паровозом варшавского поезда начался хвост второго такого же пассажирского, уже всеми покинутого, зябко глядящего с насыпи раскрытыми вагонными дверями, а за ним начался такой же недвижный товарный. Всё стоит, понял Анчар, всё остановилось, весь город парализован. — Трр, трр, — успокаивающе протрещал кучер, отпуская вожжи. Удалившись от станции на безопасное расстояние, тройка перешла на бодрую рысь. — Это неистовый Евгений, он как неистовый Виссарион, только Евгений, — отсмеявшись, принялся представлять Анчару попутчиков Никита. Студент, стянув кожаную перчатку, протянул Анчару руку. — А это, — указал он на возницу, — дядя Игнат, он, как видишь, из революционных извозчиков. Анчар кстати отметил, что, несмотря на превосходный выезд, на лихача дядя Игнат похож не очень — не было в нём этого лихаческого лоска, лакейской оценивающей пренебрежительности во взгляде, да и одет он был для лихача бедновато. На простого ваньку он действительно смахивал, но на таких тройках простые ваньки не ездят. — Только мы, товарищи дорогие эсеры, не вашей партии будем, — извиняющимся тоном сказал Игнат, обернувшись. Говорил он с окающим вологодским акцентом. — Мы-то партии большевиков сами. — Я скорее анархо-коммунист, — поднял палец неистовый Евгений, — но в целом верно. А вас мы уже знаем, вы товарищ Анчар из-за границы. Вы нам, — Евгений с детским любопытством взглянул на чемодан на коленях Анчара, — ведь что-то привезли? Анчар ответил, что действительно привёз, но вряд ли большевикам будут интересны эсеровские газеты. — Уууу, — разочарованно откинулся на спинку Евгений. Тяжело вздохнул сидящий рядом Никита. — Вы, товарищи дорогие, — подал голос с козел Игнат, — только уж, прошу, не говорите никому, что мы эсерскую литературу помогали возить. А то меня на смех товарищи подымут. — А что смешного? — пылко вступился за партию Никита. — А мы вашу «Искру» не помогали возить?! — Да так-то оно так… — уныло согласился Игнат. — А мы думали, там бомбы! — по-детски обиженно заявил Евгений. — Марсианин ведь говорил, что будут бомбы! — Говорил, говорил! — раздражённо ответил Никита. — Мало ль, что он говорил? А откуда Марсу знать? Ему самому кто-то сказал, он повторил, а кто-то там что-то напутал! Ты головой-то думай! А ещё студент. — Да, ну лучше бы бомбы, конечно… — расстроенно произнёс Евгений. — Но мы вас, товарищ Анчар, не виним, это же не от вас зависело. А вот с оружием-то у нас беда! — и всё равно вышло это у него укоризненно. — Да, насчёт оружия… — сказал Никита и достал из-за пазухи замотанный в тряпочку наган. — Держи, Анчар. Раз у тебя ничего нет, вот тебе мой запасной. Сейчас патрошки дам, — он, неловко в тесноте саней изогнувшись, полез в боковой карман. — А это откуда? — вылупил глаза на револьвер студент. — От верблюда, — таинственно ответил Никита, но, после пары секунд молчаливого копания в кармане, решил всё-таки рассказать: — Вчерась, ну часов восемь, что ли, было. Ты уже давно ушел, дядя Игнат вон я не знаю где был, — вот пошли мы с Марсом в чайную погреться. На Кудринской чайная, вот туда пошли. Идём, а нам навстречу, — Никита высыпал в ладонь Анчара с десяток патронов и увлечённым тоном сказочника продолжил: — вот натурально офицерик один-одинёшенек идёт. Молодой, ну вот как ты, только из училища, видать. Шинелька такая серая, башлык вокруг шеи, — ну чисто юнкерок. Мы его, само собой, прижали так в подворотенку, и так культурно, чинно, без рукоприкладства, разъясняем, ему, значит, текущий момент. Говорим, пожалуйте, ваше благородие, жертвовать своё оружие на благо, значит, социальной революции. Он сначала упирался, говорил, казённое, с него спросят, но потом… ну что… отдал! Только всё просил: вы, только, мол, шашку у меня не забирайте, это, дескать, позор мне будет. И ещё говорит не просто так, а так: вы, товарищи, не забирайте у меня! Я уж тут не удержался и дал ему подзатыльник — какие, говорю, мы тебе товарищи, сукин ты сын, благородие обосранное? Как демонстрацию расстреливать — мы все для вас сволочь серая, а за грудки взяли и гляди-кось-ка, товарищами сразу заделались! И ещё говорит такой: я ж сам-то за Думу, я ж за конституцию сам-то! — произнеся последние слова глумливо тоненьким тоном, Никита задумчиво замолк. — Ну и чем кончилось? — спросил студент. — Ну чем? Дали пинка под сраку и отпустили. — А шашку? — Что шашку? — Шашку-то отобрали? — Не, — лениво отозвался Никита. — Оставили. Жалко стало. Ты б видел его: на нём лица не было, ещё бы повесился от позора. Да и на что она нам, дрова, что ли, рубить? — Ну и зря, — легко заметил Евгений. — Надо было отобрать. И деньги все забрать, и пристрелить ещё там же. — Ты чего несёшь-то, совсем долбанулся? — ласково спросил Никита. — Это он Нечаева начитался вашего эсерского, — подал голос с козел Игнат. — Чего сразу нашего-то? — возмутился Никита. — Нечаев сорок лет назад жил, ты ещё, дядя Игнат, тогда пешком под стол ходил, а нашей партии ещё и в помине не было! — Нечаев был прав во всём! — упрямо заявил Евгений. — И вашей тоже, кстати, не было! — не обращая внимания, продолжил Никита, обращаясь к Игнату. — Врёшь, наша была, — спокойно отозвался Игнат. — Наша партия от Маркса идёт. — Всё правильно Нечаев говорил! — не оставлял своё неистовый Евгений. — И вы, товарищ Анчар, не усмехайтесь, не надо! Я ж вижу, что вы думаете: молокосос, мол, теоретизирует! А я вчера с красным флагом на баррикаде под драгунскими пулями стоял, так что имею право так говорить! Стоял? — обернулся он к Никите. — Подтверди, стоял же я там? С флагом. Под пулями. — Стоял, стоял, — успокоительно ответил Никита. — Не кипятись, Женечка. Что ты смелый, нам всем известно. А что ты из себя французского этого демона, как бишь его, который всем головы рубил? — Робеспьера? — хмуро подсказал Евгений. — Не, другого… как его бишь… Сенжуста! Вот что ты из себя Сенжуста корчишь, мне не по душе, вот честно скажу. Вспомни хоть, как эти твои Сенжуст с Робеспьером кончили? — А как другие кончили, которые, как ты, добренькие были? — запальчивой скороговоркой взвизгнул неистовый студент. — Ещё раньше на гильотину пошли! Что ты, революцию, не замаравшись, сделать хочешь? — Да кой чёрт не замаравшись! — тоже распаляясь, крикнул Никита. — Что, я вчера с тобой на баррикаде не стоял, в драгун не стрелял? Но есть враг, понимаешь, вот есть враг, когда он либо министр какой, на котором клейма уже негде ставить, либо пускай даже солдат подневольный, но на тебя с оружием идёт. А это — этот сопляк, может, будет врагом, да, я согласен! А может, будет за революцию! А ты — хлопнуть его хочешь! — Ну конечно, — скривился в едкой усмешке Евгений, — офицер за революцию пойдёт! — А то пойдёт? Были такие, ходили из офицеров в революцию! Кропоткин вон вообще князь, между прочим-то! Вот ты бы его хлопнул, когда он юнкерком был, может, и некому было бы тебя твоей анархической белиберде учить! — Таких, как он, один из тысячи! — Ну вот лучше я остальных отпущу, чем одного из тысячи грохну! — Ну вот вся тысяча соберётся и тебя самого к стенке поставит, гуманиста такого! Не гуманиста, а дурака! — А, — захватал ртом воздух Никита в жаре спора, — а вот ты как думаешь, что, всех офицеров надо к стенке ставить, что ли? А кто армией тогда после революции будет командовать?! Ты, что ль, будешь, студиозус? — Ох, ну тоже мне наука! — фыркнул Евгений. — Знаю я, каким они наукам в своих училищах учатся! Шампанское глотать да, прости господи, в жопу друг с другом!… — А из пушек! — не унимался Никита. — Из пушек вот, например, кто стрелять будет! — Велика наука! Да я уверен, что этому за месяц выучиться можно, если базовые знания математики и геометрии иметь! — Так что ж ты не выучился, а? — торжествующе выпалил Никита. — Студент! С красным флагом он стоять умеет, так это всякий дурак умеет, а ты из пушки научись стрелять и других выучи! Студент! А то вон вчера у Ваганьковского кладбища дружинники захватили пушку — а как стрелять, никто не знает! Пушка целая, а стрелять никто не умеет! — И что с пушкой сделали? — сразу подостыв, с интересом спросил Евгений. — Что-что, — насупившись, ответил Никита. — Не тащить же её с собой. Раздолбали что могли и оставили там. — А снаряды взяли? — Снаряды взяли, — кивнул Никита. — Там порох и оболочка ухватистая, можно хорошую бомбу смастерить. Бодро бежала тройка, дробно стучал снег с копыт о передок, мелькали остроконечные отбойные столбики по краю шоссе. С серого неба мало-помалу начинал лететь мелкий крупчатый снежок, больно и сухо хлещущий в лицо. А вокруг уже начинались давно знакомые Анчару места, и чем дальше, тем больше было знакомого — промелькнула на удалении станция Фили (и там тоже стоял покинутый поезд), оставалась справа Поклонная гора, и уже мало-помалу пустые зимой дачи посреди полей и рощ сменялись московскими предместьями, одно- и двухэтажными домиками, лавочками. Они уже подъезжали.
-
Ух, вот это ты дал стране угля! Супер пост!
-
Тебя читать — одно удовольствие. Умеешь завернуть.
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Очень классный переход, когда сначала всё вроде бы в радужных красках, пасторальная картинка в духе "Хочу быть дворником", всё налаживается как бы по волшебству, а потом резко натурализм, и оказывается, что вся эта картинка скрывает кровь и грязь, месть приемным родителям, доносительство, гомосексуальные связи... В общем однозначный плюс.
Ну и конечно финальный "бой с тенью" прелестен.
-
Если кто-то вместе с Фабио перестал понимать, где кончается выдумка и начинается реальность, то не волнуйтесь, я тоже не до конца понимаюЯ вообще с самого начала был уверен, что в этом фишка, и что кто из них воображаемый, а кто настоящий, не должно быть понятно.
-
Действительно страшные, до мурашек пробирающие картины рисуются. А вкупе с мастерством автора - страшно вдвойне.
|
— Погоди, погоди, Медведь, — начал он. — Давай обсудим, хотя бы быстро, а? Это же важно — вокзал взять. Раз его еще не взяли, значит, там кто-то держится. От нас до Марсианина на Каретном версты, может, три, а до Николаевского все пять, и это через самый центр если. Давай пройдем мимо каретного и его людей с собой возьмем. Или пошли кого-нибудь туда. И может, если есть, патронов ему и правда подкинуть.
— Так, конечно, мы через них пойдём, — заверил Анчара Медведь. — Через центр мы всё равно не пробьёмся, там войска везде. Пойдём вокруг по Садовому, соберём по пути кого можем. — Да патронов достаточно! — оправдываясь, крикнул кто-то из толпы. — Ну достаточно, так делись! — тут же крикнули на него. — Мне вот недостаточно! — А у меня вообще револьвера нет! Буду шапками драгун закидывать! — глумливо крикнул кто-то. — Всё правильно товарищ говорит! Не трать патроны попусту! Когда Анчар закончил, рабочие так же, как после речи Медведя, загудели, разразились согласными выкриками (в потолок, однако, никто больше не стрелял). Глядя на лица обступающих ораторов в углу зала рабочих, Анчар узнавал их — не лично, конечно, но был ведь и он когда-то московским рабочим, давно, ещё до алзамайской ссылки, и всё было так же: не поменялась серая с чёрным неброская одежда — пиджаки на толстой ватной подкладке, полушубки с грязно-белыми овчинными отворотами, свитера толстой вязки, стоптанные сапоги, в руках — картузы, кепки, барашковые шапочки; не поменялись и лица молодых, недавно из деревни на работу в Москву пришедших парней — бритые, небритые, усатые, с папиросами в зубах — но поменялись взгляды, как в переносном смысле, так и в прямом: Анчар мог вспомнить, с каким угрюмым недоверием он встречался, когда пытался скрыто агитировать в цеху, как тяжело было собирать ячейку, чтобы что? Не революцию делать, не завод на забастовку снимать, а так, почитать брошюрку Лаврова, — но собрал ведь, и тут же ячейку кто-то сдал! Не так всё было сейчас: перемену он заметил уже в прошлый приезд в Россию, когда летом возил динамит в Питер, но в Питере было понятно — Кровавое воскресенье там для многих было не просто ужасной новостью, а личным опытом, в один миг перечеркнувшим всё, что человек знал о стране, в которой живёт; а вот сейчас и в Москве во взглядах рабочих видел он то же самое: что они уверены в своём праве и силе, что они никого теперь не боятся, что они, наконец, поняли: все, кого власти только могут собрать, все от Варшавы до Владивостока жандармы, городовые, казаки, — лишь жалкая кучка по сравнению с огромной массой народа. И митинги они наконец-то полюбили, понял Анчар: славно вот так собраться толпой и послушать красноречивого оратора, и дело даже не в том, что оратор говорит, а что он обращается к ним, ищет их одобрения, и мнение слушателей, стало быть, ему важно — в кои-то веки мнение простого человека важно! Пока Медведь где-то в стороне надевал пальто, отдавал какие-то распоряжения и кричал кому-то, чтобы с ним поделились шапкой, место Анчара перед рабочей толпой заняла Гертруда. То, что перед рабочими выступает женщина, не вызвало удивления — похоже, за эти дни в этом зале кто только не выступал, и рабочие слушали её сначала, казалось, даже с некоторым снисхождением, — вот, мол, какая барышня пригожая в шубке, и тоже перед нами тут речи толкает! Новость о восстании в Эстляндии они встретили воодушевлёнными криками — хотя, похоже, скорее дежурными, чем искренними: кажется, не все рабочие ясно понимали, где находится Эстляндия. — Это ж рядом с Питером! — крикнули из толпы. — Может, на Питер перекинется, а?! — последнее прозвучало как-то даже жалобно. Чтобы перекинулось на Питер, ждали все, и, если бы такая новость сейчас прозвучала, то, что бы там ни говорил Анчар, массового салюта в потолок было бы не избежать. Но в целом речь эстонки зацепила слушателей, может, даже сильнее речи Анчара: дело было в пулемётной последовательности последних реплик — земля и воля, в борьбе обретёшь право своё: эти лозунги рабочим были хорошо знакомы и нравились, потому последнее восклицание Геры рабочие подхватили дружным «Ура!» — Правильно говоришь, барышня! Давай с нами! — А я так предлагаю, товарищи! — захлёбываясь от желания подурачиться, высунулся из толпы вертлявый парень, по голосу — тот же, что предлагал закидывать шапками драгун. Судя по всему, он был какой-то местный балагур: — Как мы Николаевский вокзал займём, захватим поезд и поедем в Финляндию помогать там помещиков жечь! — В Эстляндию, дурак! — через хохот крикнули ему. — А хоть и в Эстляндию, главно дело, чтоб первым классом! — Ты захвати сначала! — добродушно хлопнул его по спине Медведь, протискивавшийся через толпу. — Дружина! — не оборачиваясь, громогласно возгласил он, — вперёд за мной! Серая толпа с револьверами, браунингами и ружьями потянулась через узкие двери столовой на уходящую вверх от Москвы-реки широкую заснеженную улицу, и только когда все вышли, в беспорядке собравшись у крыльца, стало ясно, что толпа, во время митинга казавшаяся — ну, не то чтобы огромной, но внушительной, сейчас как-то сразу ужалась: внезапно оказалось, что в ней не более нескольких десятков человек. К Медведю в это время с другой стороны улицы подбежала какая-то растрёпанная курсистка в платочке. «Типография Сытина», «драгуны», — неясно запричитала она. — К Бунакову, всё к Бунакову! — отмахнулся Медведь. — Он за главного остался. — А где искать Бунакова? — Там где-то, — Медведь махнул рукой на столовую. — Ну, пошли! — крикнул он, и толпа нестройно двинулась вверх по улице. После душного тепла столовой сразу стало очень холодно: мороз усиливался, но низкое серое небо не прояснялось, сыпля колючим мелким снегом. А фабрика-то огромная — поняла Гертруда, глядя на кубоватые краснокирпичные громады зданий, здесь не менее нескольких тысяч рабочих трудится, а дружина — человек пятьдесят; и где же остальные? Сражаются где-то поодиночке? Сидят в общежитии, разбрелись посреди зимы по своим деревням? И столовая-то не пустой осталась: выходя вслед за рабочими, она заметила, что некоторые слушавшие речи выступавших и согласно ликовавшие вместе со всеми, на баррикады не торопились, оставшись в тепле столовой. Медведя, кажется, это не беспокоило — или, может быть, беспокоило, как бы не разбежалась, растеряв задор, всё-таки собранная дружина, и поэтому он вёл её быстро, широким шагом, за которым рабочие едва поспевали. Кто-то затянул «Варшавянку», несколько рабочих подхватили знакомую песню, и скоро уже весь отряд шёл по улице, громогласно распевая. Видимо, сейчас, на прочно занятой революционерами Пресне это можно было делать, не опасаясь внезапного нападения. Не самое моё любимое исполнение этой песни, зато с подходящим видеорядом: ссылка— А флаг! — вдруг спохватился рабочий Яша, шедший рядом с Медведем. — Флаг-то мы не взяли! — А, — отмахнулся Медведь, тоже с удовольствием подпевающий. — Флаг по пути найдём! Ты вот что, Яша: возьми кого-нибудь одного и иди шагах в пятистах впереди нас. Если что-то увидишь, один пускай на месте остаётся, другой пулей ко мне! Понял? — А то! — заулыбался Яша, которому роль разведчика, кажется, понравилась. У Пресненской заставы отряд свернул на Большую Пресненскую. Здесь уже начинались баррикады, и, как и ближе к центру, на улицах, несмотря на мороз, было людно: горел сложенный посреди улицы прямо на трамвайных путях костёр, у которого грелись несколько рабочего вида людей, студенты в шинелях тащили снятые с петель кованые ворота на постройку очередной баррикады, в подворотне ломом с хрустом отрывали от земли примёрзшую бочку, на тротуаре сидела на укутанной бадье с пирогами толстая торговка (несколько рабочих отделились от отряда, поспешив к ней), а у закрытой винной лавки стоял, судя по всему, рабочий караул — двое переминающихся с ноги на ногу парней в тулупах с поднятыми воротниками и меховых шапках. И совсем странно выглядел за недостроенной низенькой баррикадой из ящиков, вывески «Часовой мастеръ» и дверей спиленный, но не желающий падать телеграфный столб, косо повисший на десятке проводов. Несколько рабочих под «ииии — раз!» тянули столб то в одну, то в другую сторону, силясь оборвать провода, — провода тянулись вслед, издавая неземной металлический свистяще-гудящий звук. Румяные от мороза мальчишки и праздношатающиеся люди с баррикады и тротуаров с интересом наблюдали за невиданным зрелищем. — Стой, погоди! — завопили от столба цепочкой протискивавшемуся через проход в баррикаде отряду. — Сейчас упадёт, всех проводами посечёт! — Вы с какого завода? — приставив руки рупором, закричал Медведь, останавливаясь у обледеневшей баррикады. — Не с завода, а с фабрики Сиу! — крикнули ему. — Из дружины? — Да вроде как сами по себе! — Ну раз сами по себе, то давайте с нами! Айда, ребята, поможем Сиу столб повалить! К столбу направился ещё с десяток человек, в том числе и Медведь, и скоро уже провода поддались, вырвались из изоляторов на соседнем столбе и, с пронзительным струнным визгом взметнувшись вверх, хлестнули как плётка по кирпичной стене дома, выбив стекло, и замерли на снегу вместе с поваленным столбом. Дружина, гражданские строители баррикады и просто зеваки радостно закричали «Ура!». — Ну что, с нами? — хлопая ладонью о ладонь, спросил Медведь у Сиу. — Оружие есть у вас? — Да у кого как… А куда идём-то? — Революцию делать идём! Ну, пошли! У вас красный флаг, кстати, есть? — У нас-то? А вон, там у костра! — Ну отлично, вот и флаг нашёлся! — довольно подытожил Медведь. — Сейчас мы его принесём! — сообщили Сиу и пошли к костру, где, действительно, один из рабочих начал вытаскивать из-за пазухи обмотанное вокруг тела полотнище. — Мы тоже с вами! — подбежали к отряду трое студентов, один с револьверчиком-«бульдогом», другой с шашкой на портупее городового, третий с наганом — видимо из той же портупеи. — Хорошо, хорошо! — закивали им. — Слушай, Анчар, — воспользовавшись остановкой, Медведь подошёл к Анчару и Гертруде, стоявшим вместе с отрядом. — Вы с товарищем Кассандрой тут как самые буржуи в нашей пролетарской среде выглядите, — действительно, надо думать, что господин в пускай и испорченном, но всё-таки швейцарском кашемировом пальто, брюках в мелкую полоску и блестящих галошах поверх штиблет и молодая дама в каракулевой шубке выделялись на фоне бедно одетой рабочей толпы. Если бы это была колкость, то Анчар мог бы ответить, что Медведь сам в Женеве не в обносках ходил, а зачастую и небольшие выделяемые партией деньги тратил на дорогие костюмы: была у него такая слабость; но Медведь, кажется, не шутил. — Вот чего, — сказал он, обращаясь к обоим, — ты, Анчар, говорил, что к Марсианину можно послать кого: так чего б вам вдвоём через центр не пройти? Наших-то ребят за версту видно, откуда, а вы за буржуев сойдёте, к вам не придерутся. Что пальто порванное и шапки нет — наврёшь чего-нибудь, что напали на тебя тут. Только, это самое, имейте в виду: говорят, что войска, у кого оружие находят, сразу без суда расстреливают. Я сам не знаю точно, но так говорят.
-
Как же все живо! Как же все ярко! И насколько очаровательно, что проснулся голос разума!
Вот ради таких игр и стоило возвращаться на ДМчик)
-
Глядя на лица обступающих ораторов в углу зала рабочих, Анчар узнавал их — не лично, конечно, но был ведь и он когда-то московским рабочим, давно, ещё до алзамайской ссылки, и всё было так же: не поменялась серая с чёрным неброская одежда — пиджаки на толстой ватной подкладке, полушубки с грязно-белыми овчинными отворотами, свитера толстой вязки, стоптанные сапоги, в руках — картузы, кепки, барашковые шапочки; не поменялись и лица молодых, недавно из деревни на работу в Москву пришедших парней — бритые, небритые, усатые, с папиросами в зубах — но поменялись взгляды, как в переносном смысле, так и в прямом: Анчар мог вспомнить, с каким угрюмым недоверием он встречался, когда пытался скрыто агитировать в цеху, как тяжело было собирать ячейку, чтобы что? Не революцию делать, не завод на забастовку снимать, а так, почитать брошюрку Лаврова, — но собрал ведь, и тут же ячейку кто-то сдал!
Не так всё было сейчас: перемену он заметил уже в прошлый приезд в Россию, когда летом возил динамит в Питер, но в Питере было понятно — Кровавое воскресенье там для многих было не просто ужасной новостью, а личным опытом, в один миг перечеркнувшим всё, что человек знал о стране, в которой живёт; а вот сейчас и в Москве во взглядах рабочих видел он то же самое: что они уверены в своём праве и силе, что они никого теперь не боятся, что они, наконец, поняли: все, кого власти только могут собрать, все от Варшавы до Владивостока жандармы, городовые, казаки, — лишь жалкая кучка по сравнению с огромной массой народа. И митинги они наконец-то полюбили, понял Анчар: славно вот так собраться толпой и послушать красноречивого оратора, и дело даже не в том, что оратор говорит, а что он обращается к ним, ищет их одобрения, и мнение слушателей, стало быть, ему важно — в кои-то веки мнение простого человека важно! Вот это вот мне тогда очень понравилось.
|
— Да, да, ужасные беспорядки, — понимающе закивал офицер. — Но это ведь не здесь рядом было? Хорошо, хорошо… Нет, простите покорно, но шапку я вам дать не смогу-с. Мы сами третий день на морозе, так что лишних нет-с, — сразу переменившись в тоне, холодно ответил он на просьбу, и на том бы и распрощался, но вдруг со стороны Тверской показалось какое-то движение, и снова с колокольни загрохотал пулемёт, и когда Анчар и Гера обернулись, увидели три санных упряжки, выезжавших на площадь, — точнее, ехали теперь уже только две, а один возок, лёгкий, высоко поднятый на узких гнутых стойках, повалился на бок, и, хрипя, пыталась подняться из снежной каши на подгибающиеся ноги окровавленная гнедая лошадь. Из опрокинувшегося возка вывалились два человека, беспомощно, как рыбы, лежавшие сейчас на снегу.
— Пачками, по санкам огонь! — командно закричал кто-то сзади, и повскакивавшие с мест у костров солдаты, припадая на колено, принялись, поводя стволами вслед, целиться в другие два пересекающих площадь возка, и кто-то даже сделал несколько выстрелов, но упряжки и сами уже останавливались.
— Не стреляй, не стреляй! — кричали из них. — Красный Крест! Раненых везём! — из санок поднялся бледный долговязый рыжий человек, тоже без шапки, и отчаянно замахал высоко поднятыми руками с уже виданной сегодня повязкой Красного Креста на рукаве. К санкам уже бежали, обступая их, солдаты, офицеры от костров и артиллерийской батареи. Остановивший Анчара и Геру подпоручик тоже, коротко кивнув, торопливо зашагал к месту происшествия, где уже собиралась серая солдатская толпа. Выпавших из опрокинутого возка поднимали под мышки, тащили к остальным, собирали в кучу, а те кричали, что они ранены, — и действительно, голова одного была туго перебинтована с красным пятнышком, у другого рука висела на клетчатом шарфе, третий, раненный куда-то в бок, отчаянно заорал, когда его бесцеремонно стащили с саней.
— Дружинников везёшь, сукин сын?! — орал на рыжего возницу подбежавший штабс-капитан. — На Пресню повёз?
— Не на Пресню, на Арбат везли! А дружинников здесь нет никаких! — умоляюще кричал возница, не опуская рук.
— Да? А это вот кто? — штабс-капитан указал на кого-то, не видного Анчару и Гере за серыми солдатскими спинами.
— Не дружинник я, ваше благородие! — взмолился тот. — Мимо шёл, шрапнелью по руке цепануло!
— Что ты врёшь-то, подлец! — продолжал греметь штабс-капитан. — У тебя ж на роже написано, что ты из дружины!
— Да не из дружины я! — отчаянно частил задержанный. — Шёл детям молоко покупать, а лавки-то закрыты все, полгорода обошёл!
— Где же твой бидон тогда? — в этот момент как-то очень обыденно раздался одиночный револьверный выстрел: спешивший к толпе унтер-офицер из орудийной прислуги походя дострелил раненую, жалобно ржавшую лошадь.
— Бидон на Триумфальной остался, посмотрите, там лежит! Да и вообще не с завода я, в номерах «Ялта» половой, из-под Ярославля сам! Ваше благородие! Ну за что?
— Тащи, тащи его вон туда, — уже не слушая, указал штабс-капитан, солдаты расступились, и Анчар с Герой увидели, как двое солдат выволакивают из своего круга с мольбой оглядывающегося по сторонам курчавого русоволосого парня в сдвинутой на затылок барашковой шапке и драповом пальто, накинутым на одно плечо, с изодранным рукавом — одна его рука была перебинтована и помещена в петлю из жёлтого с чёрными клетками шарфа. И именно по этому шарфу непривычной расцветки Анчар с Герой и узнали этого человека — он был один из тех дружинников, которые шли в контратаку по Тверской за барышней с маузером: тогда он пробежал совсем недалеко от них, размахивая «бульдогом», и шарф у него был именно этот.
Солдаты потащили по снегу сучащего ногами, вопящего от боли дружинника (его волокли за раненую руку), а штабс-капитан — невысокий, подтянутый, с маленькими чёрными усиками, хладнокровно направился за ними.
— К стенке тащить, ваше благородие? — обернулся один из солдат.
— Нет-нет, вот здесь оставь прямо, — деловито, как будто речь о ящике шла, распорядился штабс-капитан, расстёгивая кобуру. К нему торопливо подошёл давешний подпоручик в очках, наклонился к уху, что-то зашептав, и штабс-капитан обернулся, зыркнув на него свирепым начальственным взглядом, как смотрят только на подчинённых, осмелившихся оспаривать действия старших по званию, — и в этот момент взорвалась бомба.
Бомбу кинули с противоположной стороны площади, от монастырских стен, где, как и в других местах по периметру площади, разрозненно стояли люди — кто поодиночке, кто парами, как Анчар с Герой, кто группками. Гулко грохнуло за солдатскими спинами, будто молотом с размаху врезали по чугуну рядом с ушами: взметнулся чёрно-снежный столб, задрожали стёкла в окнах, дико заржали лошади, утягивая за собой сани, закричала публика, бросаясь врассыпную. Солдаты, не дожидаясь команды, повалились на снег, начали беспорядочно палить в сторону невидимого отсюда бомбиста, раненые и возницы Красного Креста кто лежал на снегу, кто прятался за орудиями батареи, кто удирал, оглядываясь, — и падал, когда в него стреляли, — и недвижно навзничь лежал на снегу в луже растекающейся крови под головой мёртвый дружинник в круглой барашковой шапочке с клетчатым шарфом.
-
-
Неожиданно, однако. Но очень ярко, динамично и страшно своей бытовой реальностью для тех дней.
|
3:30, 22.07.1906
Нижний Новгород, Ярмарка,
Петербургская пристань, у разводного моста
+17 °С, ясно, тихоЗажигался уже рассвет, бронзово высвечивая перьевые облака, длинно протянувшиеся по синевеющему небу. Сиреневый мглистый пар поднимался над рекой; в бледной синеве, в миражной поволоке пейзажа вырастал город на том берегу — кремль, церкви, кубоватые здания, чёрные гущи деревьев, — и хрустально свежо, как только в прохладные летние рассветные часы и бывает, пах воздух. По пустой сереющей в предрассветном сумраке улице мимо закрытых лавок, глядящих деревянными ставнями, всё ещё ярко горящих электрических фонарей, померкших в полумраке цветистых реклам, Анчар шёл к мосту. Мост, знал он, был разведён, но швейцар на входе сообщил, что как раз в это время у моста полно лодочников, которые за пару гривенников перевозят на другую сторону. Задерживаться в пустеющем «Артистическом клубе» Анчар не хотел и потому направился к мосту. — Горчица, горчица, куда лезешь, мать твою?! — разносился над рекой искажённый рупором свирепый голос человека, стоящего на обрыве разведённого (не поднятого, а понтонного, оттянутого в сторону) моста: это был чин речной полиции, командовавший движением пароходов и барж по Оке. — Очереди не видишь! Малый назад! С маленького черно чадящего крутобокого буксирного парохода, уже лихо вошедшего в узкий проход между отрезками моста, что-то неразборчиво закричали в ответ. — Назад, я тебе говорю! Отходи к пристани и чалку подавай, последний пойдёшь, — откликнулся человек с рупором. — Варя, — по-дирижёрски обернулся он в другую сторону, — Варя с баржей, проходи! Вниз по течению Оки, тоскливо и оглушительно загудев, бурля воду под лопастями, зашлёпал колёсами серый в сумерках грузопассажирский пароход «Варя» с привязанной на буксире пустой баржей. По тёмной палубе мимо пустых полотняных шезлонгов деловито ходили матросы, у борта баржи стояли несколько человек с шестами, готовые оттолкнуться от моста, если баржу начнёт наваливать на него. И дальше с обеих сторон, волжской и окской, сквозь пепельный туман просвечивало созвездие зелёных и красных огней пароходов, длинными чёрными китами проступали баржи с горами груза, закрытого брезентом; как призраки, скользили по реке остроносые косовые лодки с опущенными парусами, между судами бегал густо чадящий полицейский паровой катер. Разносясь мелким дрожащим эхом, до берега долетали обрывки ругани, переклички; пароходы гудели и пускали свистки, надрывался рупор. Не был пуст и берег: пара извозчиков дремала у въезда на мост (ожидая то ли сведения моста, а может, прибытия седока на лодке с той стороны), на пристани грузчики чалили к кнехтам незадачливый буксир-«горчицу», подвыпившая компания с хохотом грузилась по двум лодкам, чтобы переправляться. Третий лодочник, оставшийся не у дел, с надеждой взглянул на Анчара, как раз подошедшего к берегу. Эта небольшая лодочная стоянка размещалась со стороны моста, выходившей не на простор Оки, а в затон между берегом и Гребнёвскими песками (на этом соединённом дамбой с Ярмаркой острове были какие-то склады, груды железных чушек, штабеля рельсов). Лодки приставали к никак не оборудованному плёсу, — только узкая полоска песка, протоптанная пыльная дорожка вверх к асфальтированной улице, да дальше в тумане ряд зашвартованных барж. Здесь Анчар и заметил человека, раскинув руки, лежащего на траве на виду у лодочников. Те не обращали внимания, и не обратил бы внимания и Анчар: ну лежит пьяный и лежит — мало ли он сегодня видел пьяниц? — но одежда лежащего показалась ему знакомой. С нехорошим предчувствием Анчар подошёл к человеку и заглянул ему в лицо: это был Владимир Лёвин — живой, но, кажется, в совершенно невменяемом состоянии.
И ведь, казалось бы, ничего не предвещало — вечер Лёвина начался, в общем, культурно, в театре. До начала представления он ещё ждал Шаховского у входа, но тот так и не явился, и Лёвин, взяв билет в партер, пошёл смотреть пьесу Эжена Бриё «Красная мантия». Пьеса была с актуальным социальным подтекстом, этакой фигой в кармане: речь там шла о несправедливом суде, и обученная читать между строк публика воспринимала пьесу близко к сердцу — когда главная героиня разразилась речью о чёрствости и ханжестве властей, зрители повскакивали с мест, посыпали аплодисментами со всех сторон, так что актриса ещё некоторое время не могла продолжить. И уже к этому монологу, глядя на голые плечи актрисы, на то, как тонко изгибает она стан, заходясь в пароксизме гражданственного негодования, Лёвин чётко решил, куда отправится после спектакля. В антракте Лёвин в буфете поинтересовался у лакея, как тут насчёт борделей. «Извозчику полтинник суньте-с, — флегматично протирая бокалы, ответил лакей за стойкой, — куда надо привезёт».
Действительно, извозчик привёз куда надо: к какому-то трёхэтажному доходному дому в Кунавине рядом с вокзалом — не боись, барин, сказал извозчик, сюда все ездят. В доме была деревянная и тёмная скрипучая лестница, едва ли заслуживавшая называться парадной, пыльные половики, рассохшиеся двери, лакей с тусклой керосиновой лампой в руке — и была там, среди прочих, одна такая барышня, Зина, чем-то напоминавшая Дарью Михайловну Кантакузину: хотя, чем именно, сложно было понять. Явно не речью — говорила-то она по-деревенски, да и такое, что лучше бы помалкивала, но чем-то напоминала на вид, пускай и проявлялось это в какие-то отдельные мгновения — прелестным взглядом в три четверти оборота, лукаво-лисичкиным выражением, лёгким жестом, электрическим касанием рук о плечи. И бледность у неё была аристократическая, и волосы зачёсаны модно — на прямой пробор, по-декадентски, по-ведьмински. А, впрочем, как посмотреть: посмотришь так — напоминает Дарью Михайловну, а эдак — ничего похожего; а рассмотреть её во всех ракурсах Лёвин имел довольно возможностей.
На лестнице пахло кошачьими ссаками, а в комнате — сладкими восточными благовониями: дымилась коричневая палочка в курительнице с медным китайским старичком-рыбаком на краю. Вообще любили здесь Восток — и на стене висела какая-то каллиграфия с бамбуком, и японская лакированная ширма с цветами отгораживала половину комнаты. Шампанского тут не было: пили приторно-сладкий, чёрный как кровь портвейн, заедали шоколадными конфетами в шелестящих бумажках, запивали колющим язык «радиоактивным» боржомом. Зина особо напирала на пользу радиоактивности, несла чушь про чудо-лучи, что человечество, облучившись, научится не умирать. Ещё всё совала Лёвину коньяк, но тот не решался смешивать. А впрочем, её вовсе не Зиной, а Нелли звали, это только сначала представилась она Зиной, а настоящее, говорит — Нелли (ну-ну). Брала она за ночь три рубля плюс рубль за комнату, и Лёвин даже удивился этой нижегородской дешевизне. Она со смехом показывала на облупившуюся штукатурку на потолке — а это у нас сверху там так кровать трясли…
Тут Лёвин вспомнил, что у него в кармане три грамма кокаина. У вас есть марафет? — удивилась Нелли; у вас есть марафет, — уважительно заметила Нелли; у вас есть марафет! — радостно воскликнула она; у меня есть марафет! — довольно подтвердил Лёвин. Она показала ему, как правильно вдыхать порошок через свёрнутую трубочку. Задыхаясь от напряжённого счастья, Лёвин в странной окаменелости сидел за столом, прямой как швабра, забыв, что можно откинуться на спинку.
— А я, впрочем, не совсем это обожаю, — дико глядя перед собой, застревающим голосом говорила она, сидя нагая в кресле, деревянно гладя кошку с выпуклой белой грудкой, а Лёвину вдруг пришло в голову, что если все облучатся и перестанут умирать, то Николай II будет править вечно. Она потом ещё несколько раз вставала и, топая босыми ногами по крашеным доскам пола, ходила к столику заправляться порошком. Кошка, подняв хвост трубой, вертелась около её голых ног. Оказалось, что три грамма — это до чёрта сколько: нюхали, нюхали, а всё ещё оставалось.
Потом ещё пили. После кокаина пить было странно: не чувствовалось ни приторной сладости, ни мелких иголок боржома, только блаженный стеклянистый холодок по онемелому нёбу, — и примерно в ту же сторону изменялись и ощущения от иных действий.
— Наслаждец, — странно говорила Нелли, и это, кажется, было последнее, что Лёвин помнил, потому что после коньяка, который он всё-таки решился выпить, ему как-то резко стало плохо. Хотя нет: он ещё помнил эмалированный тазик, он в него блевал. Это уже совсем смутно было.
Проснулся он в странной гнетущей тоске на потных простынях, в глухой душной темноте. Его трясли за плечо. Он пытался понять, что от него хотят. От него хотели денег за еду с напитками: Лёвин и не знал, что за это надо отдельно платить, но был не против отдать причитающееся и полез в карман висящих на стуле штанов — а денег там не оказалось. Не было их и в пиджаке и вообще нигде не было, как не было в комнате Нелли, а на столе — остатков кокаина. Кошка куда-то тоже делась.
Потом его, голого, ничего не соображающего, вытолкали из комнаты, спустили с лестницы и пару раз больно ударили — по лицу и в живот. Он потом одевался в тёмном переулке у кирпичной стены, по одной собирая вещи, выкинутые из окна. Потом он пытался поймать извозчика — там ведь рядом был вокзал, и ночные извозчики были, — но смог найти только завалявшийся в кармане гривенник, а за такие деньги на пристани его везти отказались. Потом он долго, мучительно, шатаясь, брёл по ночной Ярмарке к мосту, забыв, что мост разведён. Потом, увидев, что мост разведён, он обессиленно рухнул на траву рядом с мостом. Это где-то полчаса назад было.
-
Мощь, дикая и бушующая. Особенно под спойлером. Особенно а Лёвину вдруг пришло в голову, что если все облучатся и перестанут умирать, то Николай II будет править вечно
|
Отошли вглубь пустого переулка, остановились у стены больницы. Заглянули в окно — может быть, зайти хотя бы в прихожую, погреться? Пустая тёмная процедурная, железные ванночки на подоконнике, белая ширма: никого нет. Остановились в безопасном удалении от Тверской, принялись ждать — и только сейчас, перестав шагать, по-настоящему начали чувствовать мороз. Гере в её каракулевой шубке было ещё ничего; Анчару было хуже: у него и пальто было европейское, не особо подходящее для русских морозов, и ледяно задувало в бок через длинную узкую прореху, как её ни запахивай, и, главное, шапки на нём не было — железным обручем стягивало лоб и виски, ломило затылок от порывов студёного ветра, трепавшего и путавшего мёрзлые, какие-то сразу не свои волосы. Анчар чувствовал, что против воли начинает мелко стучать зубами. Долго так топтаться на одном месте было нельзя. По небу торопливо ползли сплошные мышиные облака, через которые мутно просвечивало бледное солнце. Снег не усиливался, но и не переставал, редкой колючей крупой сыпля вместе с задувающим в переулок ветром. Переулок был пуст — никто не решался пересекать Тверскую, по которой раз за разом со свистом проносились шрапнельные снаряды, взрываясь то ниже переулка, то выше, у Триумфальной площади. Дружина с криками, матом и руганью отступила в промежутках между выстрелами, но артиллерия стрелять не переставала, раз за разом паля вдоль Тверской. Сначала шрапнельная начинка ещё со звоном била стёкла в домах, засыпая стеклом мостовую, потом целые окна, видно, кончились, и после взрывов был только пронзительный свист, глухая дробь по камню, замирающий перестук отскакивающих пулек. По кому лупили, зачем лупили — было неясно: дружина давно ушла, на улице никого не было, и это даже мистически-жутковато выглядело, будто артиллерийский командир воюет с каким-то призрачным врагом — ох, видел бы это зрелище модный писатель Леонид Андреев, каких бы символов сумел бы он в этом отыскать! Анчар и Гера насчитали восемь одиночных, с неравномерными промежутками, выстрелов, и девятого решили не дожидаться: Анчар повёл Геру по переулкам к Тверскому бульвару. Переулки здесь были так же пусты, как и ранее, но, уже проходя мимо запертой и безлюдной Богословской церкви, Анчар с Герой заметили какое-то серое движение по бульвару и жарко горящие, большие костры. Тверской бульвар был так же полон народом, как Кудринская площадь, — только не тем народом: под обындевелыми, будто сахарными деревьями и на аллеях раскинулся бивуак: зябко собравшись вокруг костров из сваленных в кучу досок, составив винтовки в пирамиды, на поленных чураках, придвинутых к кострам бульварных скамейках и просто на корточках сидели солдаты — несколько рот солдат в серых шинелях с башлыками на головах: кто-то, собравшись в кружок, черпал кашу из исходящего паром котелка (в стороне дымила полевая кухня), другие со стуком рубили топорами лежащие на мостовой ворота, а ещё один с шарканьем волок по снегу к костру длинную крашеную доску с ржавыми гвоздями. Гера и Анчар увидели, как в Сытинском переулке разбирают низенькую, не в пример виденным, и уже наполовину растасканную баррикаду. И тоже, не в пример виденному ранее, работали здесь спустя рукава: офицера рядом не было, и солдаты еле-еле, с расстановкой, отрывали поодиночке заледеневшие доски и уныло волокли их к костру. Публики здесь тоже было меньше, но всё-таки была, не одни солдаты были тут: не решаясь заходить на занятую солдатами центральную часть бульвара, публика опасливо жалась к зданиям, торопливо проходя мимо к Страстной площади и обратно. Не решились пересекать бульвар сквозь непонятно как настроенную солдатскую толпу и Гера с Анчаром, вместо этого решив двинуться к площади. У угла одного из домов стояли двое городовых, задерживавшие и обыскивавшие прохожих, но Анчар с Герой сумели пройти мимо них: те как раз охлопывали по бокам двух остановленных подростков, грозно требуя от них расстегнуть и распахнуть пальто, и не обратили внимания на буржуазно выглядящую пару, дав ей пройти дальше к Страстной площади. Хотя некоторые столбы здесь и были повалены, но баррикад тут не было (вероятно, их уже разобрали), и тёмный, со снежными эполетами Пушкин всё так же стоял на постаменте, и колокольня Страстного так же белела напротив, и всё было почти мирно — вот только посередине площади стояли две полевые пушки с окованными железом большими колёсами и направленными в сторону Тверской стволами. Вокруг пушек стояли какие-то тележки, были расставлены ящики, разложен брезент. Орудия не стреляли, и прислуга копошилась возле ящиков, выкладывая из них на брезент в рядок снаряды. В стороне стоял офицер с трубкой в зубах и биноклем в руке. Анчар с Герой уже думали, пересекать ли им странно пустую площадь или пойти, как планировал Анчар изначально, дальше переулками, пересекши бульвар, — но как раз в этот момент их окликнули сзади. — Милостивый государь! Да-да, вы, без шапки! — Анчар обернулся. Отделившись от группы офицеров, гревшихся у отдельного костра, к ним направлялся молодой подпоручик — одного возраста с Анчаром, с пышными аккуратно уложенными рыжими усами на румяном рябоватом лице. На носу у него были очки в тонкой стальной оправе, — такие же круглые, как у неистового студента-кокаиниста Евгения с этой безумной утренней лихаческой тройки. — Сударыня, — видимо, с первого взгляда признав в прохожих людей своего класса, офицер наклонил голову в адрес Гертруды, а потом обернулся к Анчару, указывая рукой в перчатке на прореху в пальто. — Это где… Прежде чем он успел спросить, совсем близко и резко, дробно разносясь по пустой площади, заколотил пулемёт, куда-то дав очередь, остановился на секунду, будто перевести дыхание, — и следом дал ещё одну. — А, не беспокойтесь, это вон оттуда наши лупят, — с покровительственным благодушием сказал офицер, указывая на колокольню монастыря. Анчар с Герой обернулись и заметили, что там сейчас под колоколом спиной к площади сидела пара человек в шинелях, — один на коленях, другой рядом с ним, высматривающий что-то в бинокль. — Они в другую сторону стреляют. Я хотел спросить: где это вас так? — ещё раз указал он на пальто Анчара.
-
тёмный, со снежными эполетами Пушкин
вот вроде так просто, а так круто)
|
14:30 11.12.1905
-15 °С, мелкий снег, ветерНа Кудринской площади, куда Гера и Анчар попали, отделившись от дружины Медведя (те у Зоосада свернули влево на Большую Грузинскую), было людно, и так же, как и у Пресненской заставы, шло строительство баррикад. Здесь, отметил Анчар, баррикады делали основательней, — выше человеческого роста громоздили по-ежиному торчащие в разные стороны серые заборные доски и кованые решётки, деловито облепляли снаружи снегом — и при всей нужности этой работы всё равно выглядело это по-детски, будто снежную крепость строят, — а потом обливали водой, передавая вёдра по цепочке. Площадь вообще была укреплена со всех сторон — баррикадами и натянутыми проводами перекрыты были выходы на Большую Никитскую, Поварскую, с обеих сторон Садового кольца, и лишь выходы на Пресню и Малую Никитскую были оставлены открытыми, вероятно нарочно. В стороне от строительства на площади стоял пожарный обоз — всё как полагается: встряхивающие обындевелыми гривами тяжеловесные кони под попонами, медные трубы, скатанные шланги, блестящие шлемы в руках мёрзнущих и растерянных пожарных. — Вы какой части? — спрашивали у них прохожие. — Пречистенской, — хмуро отвечали пожарные, покуривающие папироски, собравшись в кружок. — Чего ж вы тут встали? — Ничего вроде не горит… — отвечали пожарные, которые сами, похоже, не очень понимали, что они тут делают. — Братцы, братцы! — закричал кто-то из толпы. — А давайте что-нибудь подпалим, а то пожарным без работы скучно! Заодно и погреемся! — Я те подпалю, сукин сын! — усатый пожарный с козел показал шутнику кулак в варежке, и тот со смехом предпочёл скрыться в толпе. Здесь же Анчар с Герой заметили и военных — четверо безоружных солдат в серых шинелях грузили что-то в армейского вида одноосную тележку с ящиком в кузове. Вокруг них собралась небольшая толпа, и, подойдя ближе, Анчар с Герой увидели, что солдаты грузят в тележку труп в подбитых железом блестящих сапогах. «Офицера застрелили», — прокомментировал один из наблюдавших. Закончив погрузку, солдаты закрыли ящик и потащили тележку к заставленному баррикадой выходу на Поварскую. — Вы пройти нам дайте тут, — несмело обратился один из солдат к стоящим у баррикады, — разберите, чтоб мы могли пройти. — Разберём, конечно, — серьёзно соглашались люди, расступаясь перед труповозкой. — Братья солдаты! — принялся агитировать перед солдатами какой-то студент, потрясая кулаком, — переходите на сторону народа! Раздавайте своим товарищам листовки, — я вам их сейчас принесу, — уговаривайте товарищей повернуть оружие на начальство! Солдаты не отвечали, опасливо-настороженно глядя по сторонам из-под фуражек. По их виду было ясно, что листовок никаких брать они не хотят, а хотят лишь, чтобы поскорей открыли проход в баррикаде и пропустили их к своим. Однако, мрачны были только солдаты с трупом офицера и окружавшие их в почтительном молчании прохожие — в других же местах работа шла бойко и весело, и опять, как утром на Каретной площади, Гера видела в публике это лихорадочное нервное оживление, припадочный задор — и вызвано это, вероятно, было тем, что выстрелы, которые Гера с Анчаром слышали уже давно, теперь раздавались совсем близко, со стороны Поварской и Большой Никитской: грохал винтовочный залп, вслед за ним, перебивая друг друга, хлопали револьверы, а откуда-то ещё, как дальний гром, доносилось уханье пушек и беспрестанный, тревожный колокольный звон. Гера с Анчаром уже почти пересекли площадь, направляясь к выходу на Малую Никитскую, когда с соседней Большой Никитской, протискиваясь через проход у стены дома и карабкаясь по обледенелой стенке баррикады, один за другим полезли запыхавшиеся дружинники, удирающие от кого-то. — Шмитовцы, шмитовцы отступают! — разнеслось по публике. — Гражданские вон с баррикад! Зовите резерв из бани! — взмахнув браунингом, закричал шмитовец, и действительно, толпа, побросав работу, кучками потекла к выходам с площади, — но Анчар и Гера были уже в переулках за Садовым кольцом. После оживлённой как в базарный день Кудринской площади здесь было внезапно пусто — пусто, но всё-таки не мирно: в Гранатном переулке Анчар с Герой набрели на следы разобранной баррикады — вывороченную и поваленную афишную тумбу, прислонённую к стене решётку ворот, обломки досок, бочек и ящиков, в беспорядке лежащие на снегу. Некоторые стёкла в домах здесь были выбиты, а дверь парадного хода выломана. Здесь же им встретился одинокий пешеход — пожилой седобородый мужичок мещанского вида с котомкой в руках. — Милые, а там на Кудрине сейчас стреляют? — деловито поинтересовался он у Анчара с Герой. Анчар ответил, что да, стреляют, и мужичок, подумав немного, свернул в подворотню, видимо, решив поискать обход. Шли дальше. Вокруг всё так же стреляли, и теперь со всех сторон — сзади от Кудринской площади, откуда-то спереди, и всё так же издалека грохали пушки, и трезвонили колокола то ли из Кремля, то ли из Страстного монастыря. На Спиридоновке навстречу Анчару и Гере из-за угла вылетели ломовые извозчичьи сани с укреплённым сзади флагом — но не алым рабочим, а неожиданно — белым с красным крестом. Санями правил извозчик в тулупе, а рядом с ним, обхватив саквояж, сидел молодой безусый доктор в глубоко надвинутой барашковой шапке, остолбенело, перепугано озирающийся по сторонам. На рукаве у него тоже была повязка с красным крестом. В санях, кажется, кто-то лежал, укрытый шинелями. — Мы тут на Пресню проедем? — сходу хрипло обратился извозчик к Анчару, придерживая лошадь. Анчар ответил, что по Гранатному и Малой Никитской проехать можно, но на Кудринской площади стреляют. — Ну а что ж делать, Фёдор? — растерянно и как-то по-детски обернулся к извозчику доктор. — Чего делать? Авось проскочим! — не глядя на доктора, хмуро ответил извозчик, длинно сплюнул на снег и дёрнул поводья. Когда они уже удалялись, Анчар крикнул им вслед, спрашивая, откуда они сами едут. — С Тверской! — обернулся доктор. — Вы только туда не ходите, там бой идёт! Вышли на очередной перекрёсток и здесь сразу же наткнулись на баррикады, с обеих сторон перегораживающие Малую Бронную. Эта улица была узкая, а потому и баррикаду здесь было легко сделать крепкой, высокой, и перекрёсток будто оказался в ущелье, перегородившем два выхода из него. На обеих баррикадах волновались под ледяным жгучим ветром узкие красные флаги, но дружинников видно не было — только у зыбко трепещущего под ветром костра из досок на выломанной скамейке и венских стульях сидели в кружок несколько человек без оружия. — Куда идёте? — спросил один у Анчара с Герой. Те ответили, что на Самотёчную улицу. — Через Тверскую осторожней идите, там стрельба! — Вы санитарную карету видели, навстречу вам ехала? — спросил у них другой, которому, видимо, просто было скучно. — Всё в порядке с ними? Ну помогай Бог. 15:05
-16 °С, мелкий снег, ветерНаконец, двигаясь по полупустым переулкам мимо вымерших зданий, закрытых лавок, трактиров, запертых дверей домов, редко встречая прохожих и совсем не встречая ни дружинников, ни правительственных войск, добрались до выхода на Тверскую у глазной больницы. Здесь остановились у угла здания, не спеша выглядывать: на Тверской и правда стреляли, но Анчар и Гера не видели отсюда, кто, а лишь слышали, как от Триумфальной площади доносится сначала нестройный, редкий винтовочный залп, затем — бойкая револьверная пальба и какая-то первобытная, дикая железная колотьба, будто толпа с размаху вразнобой била по металлическим листам. «Отходим, отходим!» — послышалось оттуда, и Анчар с Герой увидели с десяток-другой солдат, отступающих мимо них по направлению к бульварам, — сначала пятясь, припадая на колено и выпуская одиночный выстрел из винтовки, затем всё больше поворачиваясь и пускаясь в бег. Один из солдат, пробегая мимо выхода в Мамоновский переулок, столкнувшись очумелым взглядом с Анчаром и Герой, вскинул было на них винтовку с примкнутым штыком, но тут же сообразил, что видит гражданских, и пробежал мимо. Солдаты, пригибаясь, удирали к бульварам, а вслед за ними с нестройным «ура!» уже неслись дружинники, и самым странным было то, что вела их за собой девушка в барашковом полушубке и длинной чёрной юбке, по виду — молодая учительница из черты оседлости. Это выглядело как какое-то русское переложение известной картины Делакруа, разве что с подобающей северному климату целомудренностью наряда: с носа у барышни слетело пенсне и болталось теперь на цепочке; высоко подняв особенно огромным кажущийся в маленькой женской руке маузер, она на ходу резким срывающимся голосом вопила «За мной!», и с десяток мужиков-рабочих и студентов бежали за ней, паля вслед отступающим солдатам. Ни в кого, впрочем, насмерть не попадали: обернувшись вслед отступавшим, Анчар и Гера не видели оставшихся на снегу тел — но кто-то был ранен и бросил винтовку, к которой, как к добыче, сразу же метнулись дружинники. Только лишь рабочие с криками пробежали мимо них, как со стороны бульваров ухнуло и с грохотом и белым облаком дыма взорвалось где-то дальше по улице и выше, на уровне третьего этажа: с хрустальным звоном посыпались стёкла, пронзительно засвистело вокруг, чиркая о стены, свинцовым градом вонзаясь в снег. Глухо стукнулся о стену и, оставив выбоину в штукатурке, упал в нескольких шагах от Анчара с Герой гнутый чёрный осколок, дымящийся в снегу. — Шрапнель! Шрапнель! — наперебой закричали дружинники, бросаясь наземь. — Винтовку поднимите! — истерично кричала их предводительница. — Отходим! — Сволочи!!! — с надрывом закричал в пространство кто-то из дружинников. — На японцев жалели, на нас не жалеете!
-
-
Очень сильный пост, очень динамичный и рисующий страшную картину бунта.
|
По мере того, как Гера говорила, лицо товарища Медведя становилось всё более удивлённым и озадаченным, особенно когда гостья с балтийских берегов перешла к рассказу о своей миссии. Было видно, что Медведь едва сдерживается, чтобы не выпалить: «Какая Эстляндия, какая Аула, вы что, не видите, что здесь творится, какое мне дело до товарища Теэманта?». Но Медведь всё-таки был профессиональным революционером и партийцем, поэтому, дождавшись окончания рапорта (по-другому и не назвать), ответил серьёзно, хоть и нетерпеливо:
— Ну что ж, товарищ Кассандра, позицию нашей партии по национальному вопросу вы знаете: Учредсобрание, самоопределение. Кооптировать вас в какой-то орган я пока не могу за фактическим отсутствием таковых. Впрочем, вечером мы будем собирать здесь совет, вы сможете выдвинуть свою кандидатуру на баллотировку, — непонятно, насколько серьёзным было это предложение. — Товарищу… — фамилию руководителя эстонских революционеров Медведь повторять не решился, — товарищам Эстляндии, в общем, привет! Если у вас там какая-то каша сейчас заварилась, можете выступить внизу перед рабочими, рассказать им. Только предупреждаю, — окинул он Геру внимательным взглядом, — у нас там ребята простые, от станка: не знаю, как они вас поймут. Смотрите сами, в общем. Так что вы там говорили? Каретный переулок?
Гера ответила, что не переулок, а площадь, и повторила донесение товарища Марсианина.
— Что-что? — переспросил Медведь. — Марсианин на Каретной площади? — видимо, в первый раз руководитель восстания пропустил мимо ушей эту кличку, а сейчас склонился над картой. Анчар знал, что Медведь родом не из Москвы, и потому в топографии города он ориентировался нечётко. — Какого чёрта он там делает?! — рявкнул Медведь, найдя отмеченное красным кружком нужное место. — Он же должен был быть на Николаевском вокзале!
Гера заметила, что на Николаевский она прибыла из Петербурга позавчера вечером, и тогда вокзал был полон жандармов и солдат. Более того, и сегодня утром на Каретной площади люди говорили, что Николаевский вокзал до сих пор восставшими не взят.
— Ясно, — тихо и мрачно сказал Медведь, не отрывая взгляда от карты, и ненадолго замолчал, что-то обдумывая. Анчар заметил, что все три расположенные рядом вокзала на карте были отмечены красными кружками. — Хорошо! — решительно сказал Медведь и рывком снял висевшее на спинке стула серое драповое пальто самого пролетарского вида. — Николаевский нужно брать, это нужно делать сейчас. Будем собирать дружину, значит. Ты со мной? — полуутвердительно обратился он к Анчару. — Товарищ Кассандра, пойдёмте тоже с нами: покажете, где по пути чьи силы стоят. А то от карты никакого толку, только бумагу марать!
Втроём они вышли в коридор. Конвоиры Анчара уже ушли, куда-то пропал и один из охранников, и дверь охранял только тот с кинжалом из рашпиля, который всё пытался завязать разговор с Герой.
— Яша, мы брать Николаевский вокзал идём. Ты с нами? — сходу обратился к нему Медведь.
— А то! — непонимающе, но воодушевлённо ответил Яша, бросив взгляд на Геру. Было видно, что, если бы Медведь предложил ему сейчас идти штурмовать Зимний дворец, Запретный город китайского богдыхана или Южный полюс, тот бы так же, не раздумывая, отправился бы за ним.
На полпути к лестнице на первый этаж они наткнулись на двух кухарок, одна из которых несла медный, блестящий, с сизоватой окалиной и сладко тянущий угаром самовар, а другая — блюдо с заварочным чайником, стаканами в железных подстаканниках, бутербродами с толстыми кружками бурой колбасы и закутанной полотенцем кастрюлькой, от которой горячо пахло масляной варёной картошкой.
— Назад неси, тётя Маруся! — весело, как ни в чём не бывало, на ходу обратился к одной из них Медведь. — Мы революцию делать идём!
— Да не сбежит от тебя твоя революция, Мишенька! — взмолилась пожилая полная кухарка, уверенно несшая самовар, перехватив ручки полотенцем. — Поешь хоть чего, а то ж в голодный обморок грохнешься!
— Сбежит-сбежит! — задорно возразил Медведь, не останавливаясь. Кухарки развернулись и пошли за ним. — Революция такая штука, тётя Маруся, её за хвост надо хватать, пока момент! Рабочим вон снеси, они спасибо скажут!
— Да они скажут! — язвительно фыркнула вторая кухарка, помоложе. — Они жрать-то за просто так горазды, да только вместо спасибо!…
Будто подтверждая слова кухарки, охранник Яша на ходу выхватил с блюда бутерброд.
— Спасибо, Лушенька! — с набитым ртом довольно сказал он кухарке с блюдом, которая скривилась и чуть не плюнула.
Спустившись в галдящий дымный зал столовой, Медведь сунул пальто в руки доедавшему бутерброд Яше и сходу легко взобрался на стол, встав между пустых мисок, стаканов и газет. Он залихвацки, заложив два пальца в рот, пронзительно засвистел, и Анчар вдруг вспомнил, откуда родом Медведь — из Саратова, с Волги: показалось вдруг, что Медведь должен, как Степан Разин какой-нибудь, сейчас по-разбойничьи закричать «Эй, братва! Сарынь на кичку!»
— Братья рабочие! — громогласно воскликнул Медведь, перекрикивая шум, привлекая общее внимание. Шедший в дальнем конце зала спор остановился, рабочие начали оборачиваться, стекаться к столу. — Братья рабочие! — повторил он уже примолкающей толпе. — Вы тут все нашей партии социалистов-революционеров, вы все меня знаете, я Медведь! — видимо, последнее было сказано для тех, кто в лицо Медведя всё-таки не знал. — Дело наше, братья, в опасности: Николаевский вокзал не взят!
— Взят же! — одиноко крикнули из толпы.
— Не взят! — отрезал Медведь, — фактически не взят! Но мы это дело собираемся поправить! Почему это важно, товарищи? Вот почему: через Николаевский вокзал из Питера генералы могут прислать подкрепление. Местные войска мы хорошо жмём, это вы знаете! А если свежих пришлют, всем нам туго может быть! Поэтому Николаевский вокзал нужно брать немедленно!
— А почему не Кремль? Может, на Кремль? — закричали из толпы.
— Чего ты в Кремле не видел? — тут же обернулся на крик Медведь. — Или цветы на памятник хочешь положить? — в толпе засмеялись. В Москве прекрасно помнили историю с возложением рабочими цветов на кремлёвский памятник.* Осадив возражавшего рабочего, Медведь продолжал:
— Кремль что? Чепуха! Медем с Дубасовым** сами себя в нём заперли, ну и пускай сидят там, дураки! Никуда они из Кремля не денутся, если мы плотно окраины обложим, чтобы ни одна мышь не проскочила! А пока обложили неплотно, раз не все вокзалы ещё взяты! Вот как возьмём, как линию остановим наглухо, так можно будет и о Кремле думать — тогда Медему точно капут, а Дубасову-адмиралу — настоящая Цусима! И, — в порыве вдохновения запальчиво продолжал он, энергично взмахнув рукой, — раз он адмирал, то мы его после победы пристроим по прямому назначению: командовать подводной флотилией жандармов в Москве-реке!
Толпа расхохоталась, взвилась, кто-то выстрелил в потолок, с которого посыпалась штукатурка. Рабочие, до того внимательно, жадно ловившие каждое слово Медведя, сейчас бушевали, кричали, заходились радостным воодушевлением. Было видно, что с толпой говорить он умел.
— Так ведь, братцы?! Так?! — подбадривал рабочих Медведь, оборачиваясь то в одну сторону, то в другую. — Покажем им?! Ну, кто с оружием, пять минут на сборы и давай за мной!
— А куда записываться? — подбежал к слезавшему со стола Медведю один рабочий.
— Никуда не записываться! Оружие есть? — рабочий энергично кивнул. — Ну всё, тогда за мной!
Уже окружаемый рабочими, Медведь оглянулся на Анчара и Геру и только тогда, видимо, вспомнил о них.
— А вот, братцы, товарищ Анчар, наш, партийный! — представил он Анчара, лихо хлопнув того по плечу. Судя по тому, что представлял его Медведь как «нашего», да и вообще словом не обмолвился о недавнем расколе в партии, о делении на максималистов и правоверных эсеров пока было решено не вспоминать: не до того сейчас. — Кто там говорил, что заграница о нас забыла, а? Не забыла! Вот, примчался товарищ из самой Женевы, как о нашем деле услышал! А это вот товарищ Кассандра, — Медведь бесцеременно и действительно как-то по-медвежьи схватил Геру, которая была головы на две ниже Медведя, сзади за плечи и легко встряхнул, — она аж из Эстляндии к нам приехала! Там тоже народ восстал, представляете?! По всей России восстание идёт!
-
Назад неси, тётя Маруся! — весело, как ни в чём не бывало, на ходу обратился к одной из них Медведь. — Мы революцию делать идём!
— Да не сбежит от тебя твоя революция, Мишенька! — взмолилась пожилая полная кухарка, уверенно несшая самовар, перехватив ручки полотенцем. — Поешь хоть чего, а то ж в голодный обморок грохнешься!
— Сбежит-сбежит! — задорно возразил Медведь, не останавливаясь. Кухарки развернулись и пошли за ним
-
Ой, чую что-то не то! А я-то, оказывается, сразу забыла отметить, какой интересный и как всегда красивый пост я прочитала! Шарманно, шарманно!
Все настолько живо, и настолько чудесно передан революционный бардак, что я положительно в восхищении!
|
 Столовая — двухэтажный дом у левого края снимка.
Москва, кухня-столовая Прохоровской мануфактуры
Пасмурно, -13 °ССтоловая сразу оглушила Геру гвалтом, беспорядочными криками, пробивающимся через них петушиным дискантом оратора, вещающего из-за спин собравшихся. Резкий запах висящего слоями сизого папиросного дыма смешивался с грубыми горячими запахами простой заводской еды. Одни ели суп, склонившись над железными мисками, другие жарко спорили о чём-то фракционном («Организационная идея у вас ни к чёрту!» — донеслось до Геры); в углу, собравшись в кружок, вдохновенно, хоть и вразнобой, выводили: «Сами набьём мы патроны, к ружьям прикрутим штыки» — и действительно, у одного из поющих за спиной висело охотничье ружьё «Пибоди» (без штыка, правда). Со стен свисали красные полотнища — не обычного прямоугольного формата, а узкие как вымпел: Гера уже знала, что такие красные флаги делают из государственных, отрывая белую и синюю полосы. На флагах белой краской было выведено «Жить въ свободѣ — умереть въ борьбѣ» и «Да здравствуетъ Учред. Собранiе». Ещё к одному столу, расположенному у входа, протянулась небольшая очередь. За столом сидели двое молодых, лет по двадцать-двадцать пять, парней, — один рабочего вида, другой интеллигентного, похожий на студента. Стоявшая первой в очереди полная бальзаковских лет женщина в котиковом пальто умоляющим голосом обращалась к ним: — На вас вся надежда! Я бедная вдова; провокаторы хотят сжечь мой дом, оттуда стреляли, говорят! — Что ж вы от меня-то хотите? — с усталым раздражением ответил ей тот, что интеллигентней. — А оттуда не стреляли! Кому стрелять-то, у нас и оружия ни у кого нет! Раз вы теперь власть, так распорядитесь поставить у дома дружину, чтоб его из пушек не разбили! — Где я тебе дружину-то найду, а, тётя? — вмешался второй, привстав из-за стола. — Так вон сколько людей у вас! — повела женщина рукой. — Ладно-ладно, — замахал рукой интеллигентный, видно, просто чтобы отделаться от просительницы. — Номер дома скажите, я запишу. Скрытый спинами оратор тем временем голосил: — Товарищи! По всей России подымается пролетарьят, чтобы присоединиться к нашей благородной и честной борьбе за свободу! Восстали пролетарии Красноярска, Нижнего, Ростова, Владивостока… — А Питера? — гаркнули из толпы. — В Питере-то что? — Про Петербург!… — силясь перекричать толпу, с надрывом воскликнул оратор, — про Петербург у меня, товарищи, новостей нет, врать вам не буду! Но я убеждён, — над спинами рабочих поднялась рука оратора, сжимающая картуз, — я убеждён, что и питерские пролетарии присоединятся к нашему почину, раз нам выпала высокая честь идти в авангарде… — А ещё столица, блядь, — мрачно буркнул под нос удаляющийся из круга слушателей рабочий, проходя мимо Геры. Где искать товарища Медведя в этом вокзальном хаосе, было совершенно неясно: этого товарища Медведя Гера и в лицо-то не знала, а знала лишь, что он руководит штабом восстания — по крайней мере, ей так сказали на баррикаде у Каретной площади, где она сегодня впервые встретила дружинников. Баррикады она видела и до этого, их начали возводить по всему городу ещё вчера, но на организованную дружину Кушнеровской типографии набрела только сегодня с утра. Указав, где находится штаб восстания и кто им руководит, дружинники попросили Геру, раз уж она направляется туда, передать товарищу Медведю, что им на Каретной площади, может быть, придётся туго — по донесениям лазутчиков, жандармы и гренадёры с пушками и пулемётами собираются у Страстного монастыря, очевидно, готовясь переходить в наступление. Дружинники просили прислать патронов, бомб и, если возможно, подкрепления. Чтобы Геру пропустили на занятую восставшими территорию Пресни, ей выписали мандат на осьмушке линованной тетрадной бумаги, размашисто подписанный красным карандашом «т. Марсиiaнин», без ера в конце. Кто из дружинников выбрал себе такой кучерявый революционный псевдоним, Гера так и не узнала, сразу же отправившись на Пресню. Идти пришлось пешком: трамваи не ходили (Гера слышала, что из вагонов тоже где-то рядом с депо делают баррикады), извозчиков не было — да даже если бы и были, проехать по заставленному рядом баррикад Садовому кольцу всё равно бы не вышло. Казалось, вся Москва веселилась в диком празднике непослушания, какой-то масленице под грохот пушек — не работали лавки, закрыты были рестораны и трактиры, но народа на улицах было даже больше обычного — жители собирались на тротуарах, особенно занятых дружинниками, оживлённо переговаривались с ними; кое-кто приносил и еду. Рассказывали друг другу о последних новостях: что войска стоят у Манежа и Большого театра, что пушки громят баррикады на Цветном бульваре, что на колокольне Страстного монастыря стоит пулемёт — и действительно, то и дело где-то ухала пушка, стрекотал пулемёт, вразнобой хлопали винтовочные и револьверные выстрелы, и вся эта дальняя стрельба, непосредственно не угрожающая зевакам, возбуждала всеобщий интерес и какое-то горячечное нервное веселье. Наверное, про это чувство писал Толстой — весело и страшно. Как будто уже построенных и никем не занятых баррикад не хватало, тут и там горожане возводили новые — снимали с петель двери, тащили скамейки, сбивали со стен вывески, переворачивали ломовые телеги, опрокидывали афишные тумбы. Гимназистки, держа вчетвером большую двуручную пилу, валили телеграфный столб, студенты натягивали поперёк улицы электрические провода, важно объясняя интересующимся, что это будет западня для кавалерии; ребятня радостно тащила из дворов разный хлам; интеллигентного вида граждане неуклюже несли коромысла с вёдрами, чтобы обливать постройку водой; деловитые мужики объясняли, что сбоку баррикады у стены следует оставлять узкий проход, причём в одной баррикаде с одной стороны улицы, а в другой — с противоположной; даже дворники, верные слуги режима, — и те присоединялись к строительству. Правительственные силы же Гера увидела лишь мельком: перед Триумфальной площадью её остановили и посоветовали идти в обход, так как дальше идёт бой — и правда, там дружинники, высовываясь из-за низкой, в половину человеческого роста баррикады, палили из револьверов по Тверской, а в них кто-то палил из винтовок в ответ. И у Малой Бронной, и у Кудринской площади видела она то же — но дальше было спокойнее. Наконец, на Горбатом мосту у фабрики Шмита, где уже никто не стрелял и власть, кажется, окончательно перешла в руки фабричных, рабочий патруль с маузерами проверил её мандат и пропустил на Пресню, сообщив пароль — почему-то бессмысленное слово «пам». И вот сейчас она стояла посреди галдящего, душного и накуренного, несмотря на открытые форточки, зала, понятия не имея, где искать этого местного революционного диктатора. — Медведя где искать? — переспросил дружинник, к которому обратилась Гера. — А бес его знает, где он! Либо в доме Прохорова, либо тут где-то. На втором этаже посмотри. На втором этаже, занятом канцелярскими помещениями, царил тот же хаос, что внизу: вдоль стен на стульях и на полу сидели рабочие, студенты, на двери под тёмной медной табличкой «Касса пенсiонныхъ накопленiй» был пришпилен тетрадный листок с жирной надписью «Продовольственное бюро», по коридору трое молодых рабочих с револьверами толкали беспомощно оглядывающегося по сторонам простоволосого городового без портупеи. Портупею с болтавшейся шашкой и пустой кобурой нёс через плечо один из конвоирующих. — Куда вы его привели?! — орали на них. — Зачем он тут нужен? В подвал его сводите, что, порядков не знаете? — Вы из рабочего Красного Креста? — бесцеремонно налетел на Геру растрёпанный толстячок в очках, в расстёгнутом пальто, с белым шарфом на шее. — Там на Поварской… Гера его перебила, сказав, что она не из Красного Креста. — А где тогда Красный Крест?! — почему-то возмущённым тоном продолжал допытываться толстячок, но, узнав, что Гера сама понятия не имеет, пошёл приставать к другим. — Медведь? — переспросила задержанная Герой девушка, курсистка по виду, с кипой газет и брошюр в охапку. — Вот там он, — мотнула она головой в конец коридора и, перехватив стопку удобнее, торопливо пошла дальше. У двери в конце коридора один рабочий хвастался перед другим длинным и узким кинжалом на простой деревянной рукояти. — Из рашпиля выковал, — с гордостью говорил он, демонстрируя товарищу оружие. — Пушки-то нет у меня, вот, пусть хоть ножик будет! — Важный ножик, — соглашался второй. — Вам чего, товарищ барышня? Гера ответила, что она с донесением с Каретной площади для товарища Медведя, и показала подписанный товарищем Марсианином мандат. — Придётся обождать, — ответил рабочий. — Там совещание сейчас. Эсдеки договариваться пришли. Понимаю, что срочно, но просили не впускать. Обождите тут пока, товарищ барышня. Ничего не поделаешь: Гера остановилась у двери, из-за которой слышался бойкий спор на повышенных тонах (по-другому здесь, кажется, не спорили): — Ну давайте тогда от каждой фабрики по делегату! — Не пойдёт! Соберём целый парламент, одно балабольство будет! Давайте так, товарищ Седой, — один от нашей партии, один от вашей, один от беспартийных рабочих. Будет триумвират! — Мы на это не согласны! От эс-де обязательно два представителя, один большевистский, один меньшевистский! — послышался третий голос. — Согласен! — подтвердил первый. — Тогда от эсеров тоже двое! — ответил второй и, судя по всему, ударил кулаком о стол. — С чего это такие привилегии вашей партии?! — Не я к вам пришёл, а вы ко мне! — Да, я пришёл! Я пришёл в вашу эсерскую цитадель, потому что мне сказали, что у вас тут сто человек с винчестерами! И где они, хотел бы я знать?! — Все винчестеры на улице! И вообще, вы хотите дело делать или ругаться, как базарные бабы? — А вы, товарищ барышня, у Каретной площади, стало быть, живёте? — с заискивающей улыбочкой обратился к Гере один из охранявших дверь рабочих — совсем молодой, белобрысый и безусый (людей старше тридцати лет Гера здесь вообще видела единицы). — Вас случайно ли не Полиной зовут? Гера ответила, что нет, не Полиной и живёт она не там. Рабочий неловко замолчал, видимо, соображая, как бы ещё завязать разговор. — Двое от нас, двое от вас, один от рабочих, так вас устроит? — тем временем продолжался спор за дверью. — Каких именно рабочих, товарищ Медведь? — Каких-каких? Каких выберут! Шлите делегатов с ваших фабрик, пускай собираются в столовой, устроим баллотировку! — То есть мы возвращаемся к тому, с чего начинали? — Да мне всё равно, к чему мы возвращаемся, товарищ Захар! Мне нужно, чтобы этот орган работал, а не был говорильней! Нужны в нём рабочие — пускай избирают представителя! Но не десять, не пятнадцать, а одного! — Миша! Я согласен, что так будет проще, но шмитовцы на общую баллотировку не пойдут! У них лучшая дружина, они захотят себе отдельного делегата! — Ну так идите к ним, уговаривайте, они же все вашей партии! А то шмитовцы захотят делегата, прохоровцы захотят делегата, мамонтовцы, Гужон, железнодорожники, печатники — и получим опять базар! — А вы к партии какой-то принадлежите? — наконец, придумал, что спросить у Геры, рабочий. — Я вот, — с гордостью сказал он, — к партии социальных революционеров, например! Даже если Гера и хотела ответить, она не успела — к двери в этот момент подошли ещё трое: двое рабочих (один с трёхлинейным карабином, другой с наганом) вели, судя по всему, ещё одного пленного — в разодранном на боку пальто заграничного пошива, в кашне, простоволосого. — Ещё один! — тут же вскинулся товарищ того, что пытался завязать с Герой разговор. — Сколько сказано было уже — шпиков сюда не водить! Что вы за бестолочи! В подвал его! — Да он говорит, что товарища Медведя лично знает! — сказал один из конвоиров. — Да? Ну ладно, ждите тут пока. Теперь принялись ожидать окончания совещания уже толпой, вшестером. Ждать пришлось недолго: уже через минуту дверь отворилась, и из неё вышли двое — один тощий как шпала, в косоворотке, с овичнным бекешем в руках, другой коренастый, в кожанке, молодой, как и все здесь, но с красиво тронутой сединой чёрной шевелюрой. Провожал их третий — высокий и крепкий, с правильными волевыми чертами лица, в простом ватном чёрном пиджаке и свитере с высоким горлом. Он задержал у двери седого: — Товарищ Седой, до четырёх успеете собрать делегатов? — Постараюсь, — пожал плечами тот, — но вы поняли… — Да-да, двое, я согласен, — нетерпеливо перебил высокий. — Но постарайтесь поскорее! Я хочу, чтобы к вечеру у нас уже был межпартийный орган, который мог бы цельно руководить всеми дружинами! Ну, удачи! — Анчар! — вдруг воскликнул он, обведя взглядом собравшихся у двери. — А ты тут какими судьбами?! Как Медведь сразу узнал Анчара, так и Анчар его — ещё по голосу из-за двери. С Михаилом Медведем Анчар был знаком хорошо — в прошлом году он неоднократно виделся с ним в Женеве и даже некоторое время жил с ним в одном пансионе, который партия снимала для приезжающих из России товарищей. В отличие от многих из эмигрантской революционной колонии, Медведь всегда был сторонником самого жёсткого террора и в конце концов уехал-таки его проводить. После этого Анчар уже его не видел, но слышал, что уже в этом году Медведь примкнул к группе максималистов* — поэтому-то он и не знал, что Анчар был направлен в Москву, и искренне удивился, увидев его. — Всё в порядке, — обратился он к конвоирам, хлопая Анчара по плечу и пропуская в кабинет, — это свой человек, партийный! — Извини, товарищ, — смущённо обратился к Анчару рабочий, протягивая ему наган. — Держи свой револьвер. Помещение, в которое зашли Медведь с Анчаром, было кабинетом какого-то местного не очень крупного начальника, с письменным столом, бюро со множеством выдвижных ящиков, заставленным папками шкафом. Сразу у входа стоял большой эмалированный таз, в котором вниз головой был поставлен изрезанный ножами портрет императора в рамке (на стене над столом остался светлый прямоугольник). Сверху на край рамки был помещён загнутый листок бумаги, на котором было крупно выведено карандашом: «Плюютъ сюда». На столе была разложена большая исчерканная красным и синим карандашами карта Москвы, стояли несколько стаканов с остатками чая и окурками, блюдо с горкой ломтей ситного хлеба, перевёрнутая фуражка с россыпью папирос, электрическая лампа под зелёным стеклянным колпаком и керосиновая рядом с ней. — Ну рассказывай, откуда ты, как сюда попал? Ты что, прямо из Женевы сюда махнул, как услышал, что у нас тут завязалось? Всё это Гера услышала уже из-за двери, захлопнувшейся перед её носом. Видимо, оставалось либо ждать, пока преснеский Дантон не наговорится со старым знакомым, либо… либо пробиваться силой!
-
Великолепный, образный и атмосферный пост, в один миг погружающий в бурлящее море смуты!
-
Сто человек с винчестерами безусловно заслуживают плюса.
Сорок стрелков - 1957.
Восемьсот пуль - 2002.
Шесть стволов - 2010.
Сто человек с винчестерами - 2019.
|
-
Ай, молодец! Лаовай ловкач!
Подумать только, когда мы в это играли, я не мог еще ставить плюсики. Почти десять лет прошло).
|
Пули глухо ухнули в толстые серые шинели городовых, оба кулями повалились наземь: скрючившись, рухнул на ребристый чугунный пол крылечка старший, так и не успевший выхватить оружие; младший метнулся было прочь, пригибаясь, но далеко не убежал — свалился, растянувшись, на обледенелый тротуар, подкошенный выстрелом то ли Анчара, то ли Никиты, а то ли сразу обоих — стреляли они одновременно. Возница снова прикрикнул на лошадей, и тройка, ускоряясь, понеслась дальше по переулку, прочь от широкой Дорогомиловской улицы.
— Оторвало? Посмотрите, у меня что, ухо оторвало?! — очумело голосил Евгений, зажимая ладонью левое ухо. Он повернулся щекой к сидящим напротив Никите и Анчару и отнял ладонь: ухо было разодрано пулей примерно напополам, и, полуоторванный, в спутанных тёмных волосах (студент носил причёску под Горького) на мясном лоскуте висел кровавый хрящ, часть ушной раковины.
— Ничего! Зашьют, зашьют! — заорал ему Никита.
— Не оторвало, не оторвало? — то ли не слыша, а то ли не понимая, что ему говорят, продолжал частить студент.
— Нет, нет, не оторвало, зашьют, всё зашьют! — крикнул Никита и, перегнувшись за борт санок, захватил рукой снега: — Вот, приложи к уху, приложи и держи! — и он показал на себе, как держать.
— Что, вот так держать? — тараторил студент, принимая снежок и прикладывая к уху. — А поможет?
— Не знаю! Хуже точно не будет!
— А между прочим, почему-то не очень больно, я думал, будет больнее! — голосил студент. Свободной рукой он стащил с носа очки и принялся их разглядывать. — Глядите, глядите! — сунул он очки товарищам под нос: — Даже дужку царапнуло! Дужку даже! Дюйм бы вправо, и всё, капут!
Краем глаза Анчар заметил какое-то движение на поперечной улице, перекрёсток с которой тройка сейчас проезжала, и в тот же момент дядя Игнат крикнул:
— Драгуны!
Все сразу обернулись: наперерез тройке, с Малой Дорогомиловской, шагом выезжали — не драгуны, как ошибочно крикнул возница, а казаки. В первый момент показалось, что казаков очень много, чуть не сотня, потому что ехали они, широко перекрыв строем улицу, но сразу стало очевидно, что едут они не более чем в две шеренги, и всего их, стало быть, десятка два. Появление тройки, похоже, тоже было для казаков сюрпризом — те сперва проводили её взглядом и лишь через мгновение, спохватившись, закричали: «Стой!», «Стой, стреляю!», и пришпорили коней, кинувшись за тройкой в погоню.
— Прыгайте, ну! — обернулся к пассажирам дядя Игнат. — Сейчас стрелять будут! Уходите дворами!
— Прыгаем, разбегаемся! — согласно закричал Никита и махнул рукой вперёд, где в отдалении низенькие двухэтажные домишки уже сменялись кирпичными заборами, жестяными складскими крышами, заводскими трубами. — Уходим к заводам, соберёмся, Бог даст, на Трёхгорной! Эй, студент! — затряс он Евгения за плечо. — Слышишь?
— Ага! — ошалело крикнул в ответ студент, всё ещё держащий очки в руке.
-
студент носил причёску под Горького
Обожаю вот такие штучки у тебя в постах!
|
22.07.1906 01:25
Нижний Новгород, Ярмарка,
«Артистический клуб»
+20 °С, ясно, тихо
— А вот мне рыбу лабардан-с! — не глядя на официанта, с удовольствием заявил Кулешов, бегая глазами по карточке меню. — Никогда не пробовал! Читал у Гоголя про эту рыбину, — помните, в «Ревизоре»? А никогда не пробовал, нет-с! Надо исправить пробел в образованьи!
— Блабарданс! — пьяно заплетаясь, фыркнул Заболоцкий, осоловело пялясь перед собой. — Что такое ваш блабарданс — я не знаю и знать не-же-ла-ю! Вот балычок астраханский, — широко повёл он рукой, — это я понимаю, вот стерляжечка, икорка паюсная — это я понимаю! А то напридумывали, ишь ты, балбар… балбарданс!
— Прикажете стерляди, балычка, икорки? — угодливо обернулся к Заболоцкому официант, одетый во всё белое, как в саван.
— Неси! — мотнул головой купец. — Фин-шампань неси ещё бутылку… лучшего! Желаю… употребить!
— Весьма достойное желание! — поддакнул Кулешов.
— И скажи ты, Бога ради, этим румынам, чтоб не ныли больше, мочи нет их нытьё слушать! Ч-что в них находят? Приеду в Питер, зайду к Палкину — там румыны, в Москве в «Праге» румыны, в Одессе румын вообще сейчас больше чем жидов! Там румыны, тут румыны, здесь румыны, везде румыны! — замахал Заболоцкий руками в разные стороны. — Обрыдли вот так! — рубанул он себя ладонью по рыжей бороде.
На сцене сейчас действительно выступал румынский оркестр — такие, Анчар знал, сейчас пользовались популярностью по всем крупным городам империи. Заунывно тянули скрипки, немолодая черноволосая певица в цветастом платье с бубном в руке, завывая, выводила какую-то цыганщину.
— Скажи, чтоб девок на сцену выводил вместо этой ведьмы, и чтоб весёлое плясали! Сто рублей даю! — Заболоцкий с пьяной решительностью полез в карман пиджака, вытащил мясистое портмоне и со стуком хлопнул по скатерти красной бумажкой.
— Сто рублей маловато-с, — почтительно склонился перед ним официант с набриолиненной шевелюрой.
— Мало тебе? — выпучил на него глаза Заболоцкий. — Мало тебе, сукин сын? Так на, триста даю! Триста рублей даю, но цыган чтоб убрал!!! — загремел он на весь ресторан.
— Кто там триста рублей даёт? — послышался голос с другой стороны зала. Анчар обернулся. Из-за стола в боковой нише поднялся импозантный бритый господин с щегольски подкрученными усами и моноклем в глазу. Пока он сидел, был незаметен, а теперь стал очевиден выдающийся горб на его спине, делающий всю фигуру кособокой, перекошенной. — Даю четыреста, но румыны остаются! — звонким фальцетом возвестил горбун.
— Четыреста??! — заорал Заболоцкий в ответ, брызгая слюной на официанта, бешено таращась. Тоже встав, купец упёрся широко расставленной пятернёй в скатерть, а другую руку с портмоне поднял высоко вверх. — Плачу пятьсот, но цыган не будет!
Перепалка обратила на себя внимание всего зала: остановились разговоры, обернулись все присутствующие к двум поднявшимся купцам, глядящим друг на друга как боевые петухи. Кулешов, с восхищением наблюдавший за разворачивающейся сценой, достал из кармана записную книжку с карандашом. Только румынская певица и оркестр, видимо, не понимавшие по-русски, продолжали свои завывания под скрипку. Захлопала дверь в комнату с рулеткой, посыпали оттуда люди понаблюдать за поединком купеческого тщеславия.
— Тысячу даю!!! — рявкнул соперник Заболоцкого.
— Тысячу?!! — крикнул Заболоцкий. — Что, Митрофан Михалыч, на цыганочек потянуло, а? Ох, высоко загнул! Куда уж нам против самого Рукавишникова стоять, не потяну, нет… — Заболоцкий с полупоклоном развёл руками, — так что вот и плати, дурак! — громогласно закончил он, безумно расхохотался и рухнул на стул.
— И заплачу! — не унимался Митрофан Михалыч. — Мне по карману! За Рукавишниковым не оскудеет! А ты, Пётр Парфёныч, — голос горбуна сделался глумливым, Митрофан Михалыч склонился в униженном поклоне, — сделай одолженьице, послушай мою цыганочку! — Рукавишникова уже тянули за рукав его спутники, умоляя сесть обратно.
— Ну и пусть платит, сукин сын! — оскорблённо фыркнул Заболоцкий, весь раскрасневшийся. — Конечно, куда нам с Рукавишниковыми тягаться! Миллионами ворочает, куда уж нам… Горбун чёртов! Пускай, пускай платит тысячу за песенку, долдон никонианский!
За столом установилось недолгое тягостное молчание, но вдруг Кулешов, как подпружиненный, вскочил из-за стола.
— Ларочка, дорогуша! — радостно воскликнул он и раскинул в приветственном жесте руки, заприметив миловидную, огненно-рыжеволосую и весьма высокую барышню в зелёном платье, которая проходила мимо, обмахиваясь китайским веером. — Сколько лет, Ларочка! Идите же к нам сюда, у нас весело! Зовите подруг! Сейчас принесут шампанское!
01:46
Уже скоро круглый стол, полупустой вначале, был уютно окружён народом — Кулешов, заглядывая снизу вверх, соловьём разливался перед Ларочкой, которая привела с собой ещё двух подруг. Рядом с Анчаром, представившись Соней, присела совсем юная барышня с завитыми шатеновыми волосами, с милым пересыпанным россыпью родинок простонародным лицом, судя по всему деревенская. В половине второго электрическое освещение в зале приглушили — на люстрах в углах украшенного лепниной потолка осталась гореть только четверть от всех лампочек. Зал тонул в шумном и дымном полумраке: потемнели бордовые портьеры, тускло в сумраке блестели бутылки и бокалы на соседних столах, ярким жёлтым пятном горела сцена, чёрная листва шумела за окном, выходящим в сад, а за листвой где-то протянулась гирлянда электрических лампочек.
— А Сербия — это далёко? — хлопая глазами и налегая на «о», приставала Соня к Анчару (его, разумеется, Кулешов представил «нашим дорогим гостем из Сербии»). — А какова там вера? А скажите что-нибудь по-сербски?
Официанты принесли закуски и шампанское в ведёрке. При виде напитка Заболоцкий оживился.
— Иллюминация! Сейчас иллюминация будет! — кричал он, держа за горло бутылку шампанского. Заболоцкий срезал перочинным ножом с горлышка бутылки проволоку и бечёвку, сунул бутылку обратно в ведёрко и спичкой подпалил смолу, которой было облито горлышко. Смола занялась, зашипела, забурлила, бурыми струями потекла по стеклу вниз, на лёд в ведёрке. В опасной близости от тяжёлых бордовых портьер взметнулся вверх тонкий факел, мистически, как первобытный костёр в пещере, озарив всех сидящих вокруг стола.
— Потушите! Ай! Потушите же, вы наделаете пожару! — визжала Мила, третья из арфисток, со священным ужасом наблюдающая, как пылает шампанское. Заболоцкий, трясясь всем телом от смеха и восхищённо глядя на огонь, хватал её за запястья, не давая выхватить бутылку из ведёрка.
Завидев огонь, к столу бросился было официант с полотенцем в руках, но, не успел он подскочить, бутылка задрожала, шурша льдом, гулко хлопнула пробкой, и сквозь пламя, гася его, заструился вверх фонтан белой пены. В воздухе остался резкий дымный запах. Отхохотавшись, Заболоцкий принялся разливать оставшееся шампанское по бокалам — себе, Миле, остальным желающим.
— Кулешов, у нас с вами сейчас будет серьёзный разговор, — не обращая внимания на эскападу Заболоцкого, тем временем говорила Ларочка, игриво насупившись и положив журналисту тонкую ладонь на грудь. Кулешов сделал испуганное лицо и накрыл своими ладонями руку Ларочки. — За то, что вы написали прошлый раз о Народном театре, вас нужно выпороть и отправить на ссыльное поселение! И, кстати, я не удивлюсь, если так и случится.
— Вы поедете со мной, как жена декабриста? — тут же спросил Кулешов, заглядывая Ларочке в глаза и поднося её руку к губам. Вместе смотрелись они комично — Ларочка чуть ли не на голову была выше тщедушного журналиста.
— Вы что же, готовы на мне жениться? — лукаво взглянула на него из-под ресниц Ларочка, жеманно высвобождая свою руку из ладоней Кулешова.
— Ни в коем случае-с! — пылко воскликнул Кулешов, всплеснув руками. — Я недостоин такого счастья, я буду обожать вас на расстоянии!
— Ах, так значит, на расстоянии? На каком же это?
— На предельно коротком, вот на таком-с, — Кулешов протянул руку за спину Ларочки, приобнимая её — и тут же получил сложенным веером по лицу.
— Уберите свои руки, мерзкий щелкопёр! — возмутилась Ларочка. — Про вашу предельную короткость известно всем!
— Это ни-изко, — укоризненно, но ничуть не смутившись, протянул Кулешов.
— А знаете, что ещё низко, Кулешов? — весело продолжила Ларочка. — Ваш рост!
— Зато чувства высоки!
По тому, как поглощены они были друг другом, с первого взгляда становилось ясно, что знакомы они уже давно, такой разговор ведут не в первый раз, и это упражнение в легкомысленном остроумии, пересыпанном фривольностями, доставляет им обоим огромное удовольствие и продолжаться может долго. Принесли горячее, официант начал расставлять по столу блюда.
— Что это у вас там в тарелке? — заинтересовалась Ларочка, близоруко щурясь.
— Это рыба лабардан! — многозначительно произнёс Кулешов. Рыба лабардан выглядела ни дать, ни взять запечённой треской.
— А что такое лабардан?
— Лабардан, дорогуша, это такое французское слово, но оно очень неприличное.
— Вы врёте, Кулешов, вы всегда врёте! Я знаю французский, там нет таких слов! Дайте же мне попробовать!
— О, Ларочка, вы просто по чистоте своей души не слышали такого слова, — воодушевлённо сказал он, поднося ко рту Ларочки вилку с куском рыбы.
Заболоцкий тем временем сидел, вальяжно откинувшись на спинку стула, с бокалом шампанского в руке. Первый бокал он выпил залпом, а ко второму почти не притрагивался — видно, сочетание шампанского с ранее выпитым коньяком не пошло купцу впрок. Не притрагивался он и к варёной на пару сурской стерляди, стоявшей перед ним.
— Тысячу рублей! — снова впав в меланхолию, бурчал Заболоцкий, упершись взглядом в скатерть. — Денег некуда девать, ирод! Картины модные скупает, тысячами по кабакам швыряется, фу-ты ну-ты. Табашная душа! Вот я посмотрю, как монпансье тебя обует тысяч на сто, как ты тогда запоёшь!
— Мумм эх-тра брут, — по слогам разбирала этикетку пустой уже бутылки Мила.
— Ещё одну неси! Человек! Ещё шампанского! — кричал Заболоцкий, крутя рукой над головой.
Румыны к этому времени уже закончили петь (Рукавишников тоже покинул зал), и на сцене появились те, кого Заболоцкий и желал увидеть, — на авансцене строй девушек, выбрасывая длинные ноги из-под сборчатых юбок, плясал канкан, а через зал неслось залихвацкое:
Бей, бей, бей посуду,
Лей, лей, лей повсюду!
Пусть гремит повсюду гром,
Пусть царит везде содом!
Бей, бей, бей посуду,
Лей, лей, лей повсюду!
Чтобы всё пошло кверх дном,
Чтоб царил везде содом!
— А я-то гадаю, кто это увёл у меня мою несравненную Ларочку! — раздался вдруг театральный бас совсем рядом. Из дымного сумрака появился крупный и рыхловатый господин лет пятидесяти, во фрачной паре, в сорочке с жёстким накрахмаленным стоячим воротничком, с жидкими русыми волосами до плеч, зачёсанными назад, и пошловатыми усиками на лошадином лице. — Ух, похититель сабинянок! — солидно погрозил он пальцем Кулешову. — На дуэль тебя, что ли, вызвать?
Говорил господин мало что густым басом, так ещё и нараспев, будто Бориса Годунова, что ли, играл на сцене, и руками поводил так же нарочито вдохновенно, как чтец-декламатор.
— Валентин Яковлевич, достопочтеннейший-с, — смиренно начал Кулешов, сложив руки у груди. — Не оспариваю ваше право на сатисфакцию, признаю, что причина для смертоубийства самая подходящая, но право, подумайте дважды — я учился стрелять на Корсике и Сицилии, я бью белку в глаз со ста шагов!
— А кто сказал, что мы будем стреляться? — грозно сверкая глазами, возгласил Валентин Яковлевич. — Может быть, я желаю искр-ромсать вас р-рапирой? Или просто — скрючив пальцы, простёр он мясистые руки к Кулешову, грозно нависнув над столом, — придушить?! О, — заметил он Заболоцкого, и обратился к нему уже без театральщины, — и ты здесь, Пётр Парфёнович!
— И я здесь, Валентин Якольч, — нетвёрдо ворочая языком, произнёс Заболоцкий. — Кажется, имею право взглянуть, каким спросом… пользуются мои товары!
— Ну-ну, не кипятись, — примирительно сказал Валентин Яковлевич. — Ты-то мне, по правде сказать, и нужен был в первую очередь, — кроме Ла-арочки, конечно, — на короткий момент оперный тон вернулся, вместе с картинно простёртой по направлению рыжеволосой барышни рукой, и снова пропал: — Ты, говорят, форсил тут, деньгами швырялся, чуть заведение не подпалил? Ну-ка отойдём в сад, поговорим немного…
— С превеликим, так сказать… — Заболоцкий нетвёрдо поднялся из-за стола, покачнулся, ухватился за плечо Милы, натыкаясь на стулья, вылез из-за стола и, пошатываясь, пошёл к выходу вместе с Валентином Яковлевичем. Уже удаляясь, последний обернулся и прежним тоном проголосил:
— Если вы сбежите в ночь с этим хлыщом, ветреница, я не пощажу вас! Месть моя будет страшна!
— Мон-пан-сье, — в спину ему негромко, но отчётливо сказал Кулешов. Валентин Яковлевич то ли не расслышал, то ли предпочёл не обратить внимания.
— Ты что, дурак? — тут же обернулась к нему Ларочка, до того весело махавшая на прощанье веером Валентину Яковлевичу. Теперь она говорила серьёзно и взволнованно, без следа прежнего игривого флирта. — Откуда ты вообще знаешь это его прозвище? Он его ненавидит!
— Я потому его и сказал, дорогуша! — беззаботно рассмеялся Кулешов, которого перемена Ларочкой тона не смутила. — А если он продолжит вести себя так, будто ты его собственность, завтра об этом прозвище будет знать вся губерния!
— Нет, Кулешов, ты всё-таки полный идиот, — вздохнула Ларочка. — Угрожать человеку, который… Я тебя прошу! Даже если он не слышал — тут везде филёры, половина наших девочек сама докладывает. Ты понимаешь, что с тобой может быть?
— Что? — беззаботно фыркнул Кулешов. — Искромсает рапирой на кусочки и скормит псам? Я не возражал бы, если бы вашей, Ларочка, собачке достался бы… — он наклонился было к уху барышни, но та, не желая слушать, резко оборвала его:
— Хватит паясничать! Они гнут под себя миллионщиков, думаешь, с тобой не справятся? Зачем ты лезешь на рожон, Поль?
-
Классный пост!
Очень, очень антуражно!
-
-
— Вы врёте, Кулешов, вы всегда врёте! Я знаю французский, там нет таких слов! Дайте же мне попробовать!
Замечательно))).
Ну и вообще, крутой пост). Особенно это показное мерянье мошной впечатляет).
-
Мощно на всю николаевскую!
|
Втроём прошли к прицепленной за тендером дрезине, Семён принялся выпрягать из саней лошадь, снимать хомут, Черехов с Кржижановским, взялись за лёгкие сани с боков, поднатужившись, подняли, пристроили поперёк дрезины, одним полозом на скамью, другим внизу, вдоль скамьи. Рядом с санями сложили оглобли.
— Перевернуть бы полозьями вверх, — показывая на сани, говорил запыхавшийся Кржижановский, — и вот эдак надеть их сверху на скамейку — крепче держались бы!
— Не надо переворачивать, — вдруг подал голос Семён с хомутом в руке и строже повторил. — Не надо переворачивать.
— Так свалятся ж! — недоуменно воскликнул машинист.
— Авось не свалятся… — хмуро буркнул Семён и, улучив момент, зыркнул на Алексея — не вздумай выдать меня, мол.
— Ну смотрите! — беззаботно воскликнул Кржижановский. — Выпадут, сами потом их ищите, я останавливаться не стану.
Привязали освобождённую из хомута лошадь. Машинист с обезьяньей ловкостью вскарабкался по рифлёным ступенькам в кабину, распахнул дверцу.
— Прошу! — крикнул он сверху. — Сейчас, пока стоим, я угля в лоток накидаю и поедем!
В скупо освещённой подвешенным с левого бока фонарём кабине паровоза было тепло и грязно: меж продолговатых окошек по краям выступала полусфера задней стенки котла; между замысловато сплетёнными вокруг неё трубами помещались красные маховики, разноцветные ручки клапанов, застекленные заляпанные пальцами циферблаты с дрожащими стрелками, тяжёлый замасленный гаечный ключ в петле. На тетрадном листочке под окном крупными буквами были выведены загадочные надписи «Залей буксы» и «Не сифонь до баланца!». Под котлом на слякотном полу в ряд были выстроены маслёнки в жирных потёках — от совсем маленьких до огромной, размером с полувёдерный самовар, а подле них — зелёный железный сундучок с ручкой. Сбоку, у продолговатого смотрящего вперёд окошка было покрытое кожей сиденье, на спинке которого висел полушубок с овечьим воротником. С потолка свисала бечёвка, вроде бандерольной, и Семён, забравшийся в кабину вслед за Алексеем и с удивлением рассматривавший устройство кабины, взялся и тихонько потянул. Сверху надрывно засвистело, и Семён тут же отпустил верёвочку.
— Не надо ничего трогать, пожалуйста! — раздался голос из тендера. Кржижановский, вылезши через заднюю дверь кабины, сейчас ломом колупал мёрзлую заснеженную гору угля. Закончив с этим, он косо вогнал лом в уголь, подобрал лопату и принялся быстро перекидывать чёрные камни в лоток у задней стенки кабины.
— Он меня за Сикорского принял, — тихо, сквозь зубы сказал Семён, скосившись в открытую заднюю дверь и запустив руку за пазуху. — У меня револьвер здесь. Пускай довезёт, там отпустим. А будешь с ним говорить, что я не услышу, — тебе первая пуля. Понял?
Заполнив лоток, машинист вернулся с лопатой в кабину, закрыл дверь и, прислонив лопату к стенке, нагнувшись, наклонился к одному из циферблатов, постукивая почерневшим ногтем по стеклу.
— Ай-я-яй, — покачал он головой. — Ну ничего, сейчас пошуруем да просифоним, всё как надо будет!
Машинист дёрнул за рычаг, с грохотом распахнув створки шуровки-зёва топки, в в оранжевом пламени которой перламутром мерцал догорающий уголь, и принялся ловко, точными движениями теннисного игрока, заносить лопату в открытый зёв и веером разбрасывать уголь по внутренности топки.
— Достаточно! — сказал он, отставил лопату в сторону, поднял рычаг, с лязгом закрыв створки шуровки, и до упора отвернул какой-то клапан. — А сейчас будет баланец! — торжественно сказал он и как фокусник поднял грязный палец. — Пять, шесть, семь… вот! Баланец! — лихо щёлкнул он пальцами… и ничего не случилось. — Ну, сейчас! — нетерпеливо повторил Кржижановский, — вот, вот, ну-у-у, сейчас… — и тут из-под пола раздался оглушительный, густой и низкий рёв. Кржижановский медленно прикрыл клапан — рёв, постепенно притихая, перешёл в свист и, наконец, умолк.
— Вот, это баланец. Сифонить до его открывания запрещено, — с удовольствием пояснил машинист, уселся на стул, вытер пальцы до черноты засаленной тряпкой и потянул ещё какую-то ручку. С шипением повалили клубы пара из-под брюха машины, паровоз дёрнулся и покатил вперёд, застукали колёса. Выглянув в залепленное снегом окно, Алексей видел, как чёрная туша медленно движется по снежному валу насыпи, как в конусе мощного лобового фонаря, ясными линиями выделяясь, навстречу несётся бесконечный рой снежинок, как бросает искры труба с нелепым широким раструбом.
— А вы, между прочим, избушку-то Шинкевича проехали, — пояснил Кржижановский, откинувшись на спинку своего сиденья и небрежно положив руку на подлокотник. — Крепко проехали причём, версты на три. Мда-с. А вы, Павел Алексеевич, тоже социал-демократ?
— Нет, я народник, — неожиданно гладко ответил Семён.
— А-а-а, — заулыбался Кржижановский, — общинный социализм, товарищеское производство… Знаем, знаем, проходили.
— А чего ж в общине плохого? — настороженно спросил Семён.
— Да много чего, — легко сказал машинист. — Вы в тутошней глуши, небось, и Маркса позабыли, если и читали?
— Как-то не до него, — хмуро ответил Семён.
— Вот-вот! А надо бы, надо бы освежить в памяти, чтоб вы поняли, какая сила — марксизм! Наших марксистов возьмите, Плеханова того же. На Герцене-то с Чернышевским вы в двадцатый век не въедете! И вообще, народничество ваше, революционный этот социализм, — это что? Это вон, — ткнул он пальцем себе за спину, — крестьянские санки да кобылка, которая еле везёт. И везёт к тому же не туда! А марксизм, марксизм — это вот! — хлопнул он по горячей железной стенке котла. — Но вы извините меня, Павел Алексеевич, я просто люблю поговорить, а тут, в этом Нижнеудинске, поговорить совершенно не с кем. Вот в Минусинске, вот там, я вам скажу, был кружок так кружок! А тут я с ума схожу просто. Всё есть, работа хорошая, живу как сыр в масле — а поговорить не с кем! Да, а вы, Алексей Николаевич, каких взглядов придерживаетесь? Тоже народник?
-
В этом посте было много всего замечательного, но больше всего меня порадовало это:
С потолка свисала бечёвка, вроде бандерольной, и Семён, забравшийся в кабину вслед за Алексеем и с удивлением рассматривавший устройство кабины, взялся и тихонько потянул. Сверху надрывно засвистело, и Семён тут же отпустил верёвочку.
— Не надо ничего трогать, пожалуйста! — раздался голос из тендера.
|
21.07.1906 23:30
Нижний Новгород, Ярмарка,
«Артистический клуб»
+21 °С, ясно, тихо
— Там фильма идёт, — открывая перед Анчаром дверь, сказал бородатый швейцар в ливрее.
Анчар зашёл в тёмный зал. На стене напротив над смутно проглядывающейся в сумраке сценой свинцовой окалиной сиял экран, на котором немо перемещались мерцающие тени — потусторонне выглядящие мужчины в чёрных шляпах эпилептически плясали в нелепом хороводе. В сторону экрана откуда-то сверху от дверей был направлен широкий конус слюдяного света, и за краями этого бледного электрического снопа виднелись ряды столиков, тени за ними, белые пятна скатертей, бокалы. В жизнерадостной истерике фальшиво надрывалось пианино, доносился смех, обрывки разговоров, кашель, звон бокалов, и фоном всему этому со стороны перемигивающего над головой серебряного глаза прожектора мерно стрекотала плёнка.
Свободных столиков, кажется, не было, и Анчар отошёл от дверей к тяжёлой бархатной портьере, где уже стояли какие-то люди. Рядом шумно вспыхнул язычок пламени, на мгновение осветив усатое лицо, и погас, оставив резкий запах серы и оранжевую точку папиросы в густой тени.
— Нда-с, — то ли в адрес Анчара, то ли в пространство пьяно произнёс закуривший, распространяя запах табака и перегара. — Фифа! — нечётко показал он рукой с папиросой куда-то в сумрак, где, кажется, проходила какая-то женщина. — Фифа! Цаца! Однако ж, бутербродная компания… — и, покачнувшись, незнакомец пошёл прочь, опасливо придерживаясь за портьеру.
Картина на экране тем временем сменилась — теперь показывали дорогу через лес, по которой из-за края экрана как-то дёргано выскочила вереница всадников на чёрных и белых лошадях, в широкополых шляпах, с ружьями и револьверами. Одни, оглядываясь, палили назад, бесшумно пуская из стволов облака белого дыма, их преследователи палили вслед, сшибли одного с лошади… Глаза потихоньку привыкали к полумраку, и Анчар различал фигуры за столиками на диванах вдоль стен — бороды, пиджаки, голые женские плечи. Кто-то, привстав из-за стола, держал за горло бутылку шампанского, стараясь хлопнуть пробкой так, чтобы подгадать к очередному выстрелу на экране: не подгадал, но его спутники всё равно рассмеялись.
— Утёк! — воскликнул кто-то, — а вот мы в железную дорогу! Идёмте, идёмте! — несколько человек поднялись с мест и двинулись к двери в заднем конце зала, промелькнув по экрану чёрными тенями. На экране тем временем люди в шляпах, уже пешие, перестреливались друг с другом в лесу, лихо валясь наземь. Когда упал последний, кадр неожиданно сменился, и во весь экран на чёрном фоне показалось усатое немолодое лицо в американской широкополой шляпе и шейном платке. Человек поднял револьвер, наставил его прямо в камеру и беззвучно выстрелил — раз, другой, третий. По залу прокатился удивлённый возглас, и тут лицо с экрана пропало, прожектор погас, и до боли в глазах ярко вспыхнуло электрическое освещение. Теперь Анчар мог ясно разглядеть обстановку в зале — тяжёлые красные портьеры вдоль стен, деревянные панели, полуотгораживающие закутки с бархатными диванами и столами, сцену, на которой уже появились двое рабочих, убирающих натянутый экран. Бородатые купчины во фраках, подрядчики, пьяно весёлые господа мотовской наружности, гимназического вида юноши с набриолиненными волосами и нечистой кожей (вот ведь, кто Маркса читает, а кто по кабакам), тут и там сидели нарумяненные, порочного вида девицы в платьях с рюшечками и страусовыми веерами в руках. Мимо прошёл потный половой с подносом, заставленным посудой.
— А через минуту, господа, на сцене появится знаменитая Серафима Тугаева, — не дожидаясь, пока экран будет снят, объявил со сцены конферансье. Знаменитая Серафима Тугаева ажиотажа в публике не вызвала — то и дело кто-то вставал из-за столиков и проходил в дверь в дальнем конце. Прошёл туда и Анчар.
За дверью оказалось помещение с зеркальными стенами, отчего казалось ещё ярче освещённым, со столами зелёного ломберного сукна с картами и рулеткой. Играли в шмен-де-фер, понял Анчар, подойдя к одному столу, вокруг которого уже столпилась кучка народа. За столом сидели несколько человек, и игра здесь шла по-крупному — потный щекастый толстячок в ослабленном галстуке как раз одышливой присвистывающей фистулой заявил «Банко», достал из кармана кошелёк и принялся отсчитывать сотенные кредитные билеты.
Не став дожидаться конца розыгрыша, Анчар отошёл к открытому окну, в котором за свеже шелестевшей густой чёрной листвой сада виднелись электрические гирлянды и доносился шум с ещё гремевшей, не собирающейся засыпать улицы.
— Так ведь урожай ожидается плохой по всей Волге, — услышал он разговор стоящих у соседнего окна курильщиков. — Мало, что лето жаркое, дождей нет, так ещё и поджоги эти… Ну вот Лидваль и получил подряд на поставку хлеба в голодающие губернии, — увлечённо рассказывал благообразного вида господин в чеховском пенсне, — то ли юрист, то ли доктор.
— Постойте, да ведь он не хлебопромышленник! — вставил его собеседник, франтовато одетый молодой человек с напомаженной фиксатуаром до эбонитового блеска шевелюрой. —
— В том и дело, голубчик! — увлечённо продолжал первый. — Он не то что не хлебопромышленник, вы не поверите, чем занимался этот Лидваль до сего года: продавал американские ватерклозеты в Питере!
— И ему вот так вот просто выдали подряд на восемьсот тысяч?
— Ну уж конечно, не просто, дорогой мой, — снисходительно усмехнулся рассказчик. — Вы думаете, откуда это всё, — повёл он рукой вокруг, — откуда взялась вся пресловутая бутербродная компания? Яковлев-дурачок откуда взялся? То-то, голубчик…
-
Ахаха! Я тебя люблю!
Это ж, мать его, великое ограбление поезда! Подколол, стервец!
|
Нашли, что делать и с санями, и с лошадью — посовещавшись, решили оставить их на полпути к Алзамаю, чтобы сбить со следа тех, кто, возможно, пойдёт на поиск пропавшего урядника. Труп Семёна Анчар предложил спалить в паровозной топке, но Кржижановский о таком и слушать не пожелал, решительно замотав головой:
— А пряжки, пуговицы всякие?! — воскликнул он. — Не расплавятся, да пусть и расплавятся, но не исчезнут же! А начнут в депо колосник чистить, найдут, как мне оправдываться прикажете?
На предложение срезать все пуговицы и снять все пряжки машинист даже возмутился:
— Ну уж нет, увольте, увольте, — нервно пристукивая зубами, заявил он, переступая с ноги на ногу в снежной каше. — Мой револьвер, теперь ещё и мой паровоз… нет, я никого сжигать в топке не дам. Вы попросили моей помощи, я вам помог, чего ж ещё… Урядник, господи ты боже мой, урядник… Неужели и правда урядник?
Сумбурно всё получалось, бестолково, — ничего лучше не придумали, как вдвоём подхватить Семёна под мышки и оттащить прочь в тайгу, чтобы оставить там, надеясь, что до весны не найдут. Бестолково взялись, наметили чёрный ельник за избушкой, потащили. Пыхтели, потели, лезли через снег, волокли обмякшую, тяжеленную тушу, с которой падали шапка, рукавицы — возвращались, подбирали. Доволокли до густого ельника, затащили в мрачную чащу. Густо валились с ветвей от любого движения шапки нападавшего снега, колкие иглы лезли в лицо, подвёртывались ноги на невидимых под снегом корягах. Наконец, оглянулись: не было уже видно отсюда ни избушки, ни насыпи. Остановились, тяжело дыша, в снежной мгле, жуткой, как только может быть жутким густой лес зимней ночью. Хотели уже оставить, но Кржижановский вдруг тронул Черехова за рукав и, не говоря ни слова, показал на открывшееся за ельником белое круглое озерцо — маленькое, не более двадцати шагов в поперечнике. Озерцо было уже затянуто льдом и покрыто снегом, но лёд был непрочный ещё, как поняли, попробовав ногой захрустевшую поверхность. Сразу стало ясно — проще будет притопить и оставить подо льдом.
— Камни… — вдруг сказал Кржижановский, присев на корточки, запустив ладони в снег, шаря там. — Камни, камни подвязать, — с дрожью повторил он, подняв взгляд на Черехова. — Как, помните, у Достоевского? А чем подвязывать? — тут же возразил он себе. — Нечем! Кажется, я несу чушь.
Кржижановский оглянулся на труп, лежавший у края ельника, в конце широкой примятой борозды, оставленной при волочении. Семён лежал, раскинув руки и полы тулупа, с безмятежной тупостью уставившись вверх, с бугристым лбом, носом картошкой, сизыми бритыми щеками. Глаза у него были закрыты — видимо, урядник в последний момент зажмурился.
— На середину бы вытащить лучше всего… — с нездоровым оживлением продолжал машинист и попробовал взойти на лёд — тот опасно захрустел. — Нет, не выйдет. Давайте, что ли, с берега катнём вот так, авось…
Катнули. Затащили тело на невысокий, в пару аршин, мёрзлый глинистый обрывчик, повернули на бок, толкнули — и Семён, перекатившись пару раз боком, упал на лёд. Лёд затрещал, пошёл разломами, провалился — но неглубоко было там, под обрывчиком, тело ушло наполовину: широкая спина, вихрастый затылок, полы тулупа, валенки — всё бесстыдно торчало из воды.
— А вот палкой, палкой его! — горячечно воскликнул Кржижановский, походил вокруг, нашёл под снегом сначала один, потом другой корявый сухой дрын, вручил один Черехову и принялся орудовать своим: стоя на обрывчике, он жестом паромщика упирал ветку как шест в бок трупа и пытался сдвинуть на глубину, под лёд. Получалось плохо, получалась какая-то нелепая возня, невероятно глупо это должно было выглядеть со стороны: Кржижановский и Черехов, налегая, толкали корявыми сухими дрынами убитого урядника то в бок, то в бедро, то в шею, то в зад — но тяжело было сдвинуть обвешанную намокшими одеждами, лежащую на неглубоком дне тяжёлую семёнову тушу: плескалась чёрная вода под ветками, крошился слюдянистый ледок, соскальзывали дрыны, плохо поддавалась тяжёлая, не отзывающаяся туша.
Всё-таки кое-как сдвинули Семёна ещё на аршин на глубину — теперь над чугунного цвета водой виднелся только потемневший от воды край овчинного воротника.
— Сойдёт… — сказал Кржижановский, утирая пот со лба. — Сойдёт, а? — обернулся он к Черехову. — Сойдёт! — повторил он сам себе.
Остановились в молчании, глядя на широкую полынью у берега, к краям которой медленно приставали, кружась, мелкие льдинки. Валил густой снег, мучно белела гладь озера, уходила в снежную хмарь кромка берега, торчали чёрные голые прутья подлеска. У ног Кржижановского лежала лохматая шапка Семёна — тот с шуршаньем откинул её ногой прочь, а потом подцепил дрыном, поднял и с бульканьем сунул в полынью под лёд вслед за телом. Молчали, каждый не зная, что сказать.
— Сойдёт, — первым нарушил молчанье Кржижановский. — Сойдёт, сойдёт… — повторил он.
—
Остальное было уже проще. Как условились, на полпути до станции Новый Алзамай выгрузили с дрезины сани, отвязали прозябшую, жалобно ржущую, уже, наверное, обречённую на гибель лошадь, спустили с насыпи, впрягли в сани, оставили — авось кто найдёт, а то и сама по памяти выйдет к станции. В санях Кржижановский обнаружил саблю урядника и только тогда, кажется, окончательно поверил в рассказ Черехова; саблю оставили в санях — пускай лежит где лежит: и так ясно, чья лошадь, чьи сани.
Без гудка, как призрак, как ночной вор, мерно стуча колёсами и сонно ухая поршнями, проехали замершую в обычной зимней спячке, неживую под белой карбидной лампой станцию, заснежённый деревянный перрончик, тёмную кирпичную водокачку с исполинским водопроводным краном, а за ней — глухую серую стенку домика с косо выведенными извёсткой буквами «А.С.А.В.». И только когда миновали последние косые заборы и серые сараи Алзамая, только когда выехали из лесного туннеля на прорезанное насыпью поле, в первый момент показавшееся невообразимо широким и будто залитым слепящим ярким светом, Черехов понял — с Алзамаем кончено, сюда он больше не вернётся.
Кржижановский ещё говорил, — торопливо и подробно объяснял, что Черехову нужно будет делать в Канске, где он его оставит, где у знакомых железнодорожников дождаться пуска линии, как найти на сортировочной товарный состав, идущий на запад, как прятаться от железнодорожных жандармов, что говорить, если поймают, — и Черехов понимал, что всё только начинается, и после года мёртвого алзамайского отшельничества только сейчас-то всё у него и начинается по-настоящему, и всё у него впереди.
И действительно: всё у него было ещё впереди: и беспокойные ночи в мёрзлом товарном вагоне под стук колёс; и тонущая в вечерней синеве Москва в сизых заводских дымках Пресни; и переход границы непроглядной, душной, стрекочущей и полынной галицийской ночью; и эмалированные кувшины и штопаные крахмальные простыни в дешёвых европейских номерах; и каменный умирающий лев, вырубленный в скале под Люцерном; и рекомендательные письма; и знакомства с Виктором Михайловичем, Михаилом Рафаиловичем, библиотечные залы, баллотировки, резолюции; и чтение тонких, скверно отпечатанных брошюр на папиросной бумаге, споры об аграрном вопросе в немецкой пивнушке и хмурый кельнер, показывающий на часы; и тяжёлый нагруженный литературой чемодан; и чухонцы-контрабандисты в балтийских шхерах, спор за деньги, щелчок финского ножа; и хмурые рабочие Балтийского завода, подпольные комитеты в подчердачных квартирах на Выборгской стороне, шифровки для заграницы, визг шрапнели над декабрьской Тверской и снова граница, и снова Швейцария, и опять назад, опять граница, — и много чего ещё было впереди у Черехова, — и было огненным колесом катящееся по России лето 1906 года.
-
Класс! Хорошая ветка.
и переход границы непроглядной, душной, стрекочущей и полынной галицийской ночью
вот это особенное у-ня-ня)
-
классная ветка, звонкая, на одном дыхании прочла!
|
20:18 14.07.1906
Нижний Новгород,
Семинарская площадь
+23 °С, ясно
К ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Принимая во внимание неизбежное всенародное возбуждение, связанное с роспуском Государственной Думы, учитывая то впечатление на народные массы, которые должны произвести обращения к народу Государственной Думы, Трудовой Группы Центральный Комитет П. С.-Р. считает неизбежным немедленно объявить и начать открытую войну с правительством.
ссылка
Глянцевито-серая, отсвечивающая закатным солнцем Волга, шершавая от волн, пересечённая змейками ветра и стрелками, расходящимися от почти недвижных издали, с высокого волжского бугра пароходов. Чёрные пятна островов, а за рекой — тёмная бесконечность лесов, с редкими огоньками (вон Бор, вон Телятино), — но сколь ничтожны эти одинокие огоньки среди нескончаемой бездны лесов, которые, знаешь, тянутся за пологим горизонтом до Печоры, до Архангельска, и легко поверить, что где-то там в тёмной костромской чащобе ещё бродят призрачные, заведённые в непролазные дебри Сусаниным польские полки, и не выбраться им отсюда никогда. Не выбраться никогда и нам. Надёжно храним мы молчаньем сии священные дебри. Это Россия, это наше отечество. Смерть неизбежна, как неизбежен мягко багровеющий над Ярмаркой закат. Смерть сладка, как тёплый мягкий ветер, пахнущий речной водой и дымом. И так в оцепенении стоим мы над рекой, а вокруг огненным колесом катится пылающее лето 1906 года. Ошалелому лету предшествовала не менее безумная весна. Этой весной съезжались в Таврический дворец выборные первого в истории русского парламента. Под аплодисменты восторженно встречавшей толпы шли в зал заседаний франтоватые кадеты в золотых пенсне, хмурые бородатые социалисты, настороженно разглядывающие галереи выборные от крестьян в смазных сапогах, особнячком держащиеся поляки. Эти люди шли в парламент не как на службу, а как на баррикады, и не сотрудничать собирались с правительством, а гнуть и ломать его под себя. Семьдесят два дня под оглушительное шуршание стенографических карандашей с галёрки яростно громили думцы правительство, будто уж и не с ним, а друг с другом состязаясь, кто смелей предложит закон, кто язвительней ругнёт власть. С трибуны говорили о сотнях убитых в беспорядках городовых — с мест кричали «мало!» В частных разговорах думцы уже сравнивали свой парламент с Генеральными Штатами и говорили, что недалёк уже тот день, когда и они соберутся в зале для игры в мяч. Презираемый всеми первый министр Горемыкин, с говорящей фамилией как из Грибоедова и нелепейшими бакенбардами, орденоносный идиот, в смятении отмалчивался и, за неумением придумать ничего лучше, притворялся, что Думы не существует. Над ним злобно и брезгливо хохотали. Вылезшие как грибы после дождя сатирические издания наперебой глумились над премьером и растительностью на его лице. И не могло это искрящее напряжение, эта нарастающая ненависть парламента к правительству, а правительства к парламенту ни во что не вылиться, должно было в конце концов хлопнуть, как хлопает надуваемый воздушный шарик. И вот — хлопнуло неделю назад, ко всеобщему ошеломлению: царь одним махом разогнал Думу и отправил в отставку первого министра. Демократически настроенные горожане вырывали газеты с аршинными заголовками из рук мальчишек-разносчиков, вглядывались в пляшущие буквы передовиц, хватались за головы. Это был октябрь 1905 года наоборот — как ошеломительны были все те свободы, свалившиеся на голову прошлой осенью, так же ошеломительна была и эта неожиданная пощёчина самой идее народного представительства, и рассматривали демократически настроенные горожане фотографию нового первого министра в газетах, и поговаривали, что это он, Столыпин, грозный и решительный министр внутренних дел, а теперь ещё и первый министр, и надоумил царя так поступить. Ещё не до конца понявшие, что произошло, члены Думы съехались в финляндский Выборг и там составили воззвание к народу, призывающее отказаться от уплаты налогов и военной службы на правительство. И все ждали, что сейчас-то рванёт, не может не рвануть, что поднимутся новые восстания в городах, вырастут новые баррикады в Москве, а то и в Петербурге, пойдут по улицам тысячные демонстрации с красными знамёнами и в этот раз не как в январе прошлого года, с иконами, а с винтовками и револьверами… …и не рвануло отчего-то. Не собрались демонстрации, не поднялись рабочие, не встали фабрики. Непонятно почему, но не рвануло — ещё не рвануло. Но рванёт, рванёт же, не может не рвануть: просто мало времени ещё прошло, не осознали ещё люди важности этого события, не осмыслили. Нужен ещё один толчок, ещё одно событие, ещё одна бомба — а бомбы теперь снова полетят, так решил Центральный комитет. Полгода не летали бомбы, полгода мы воздерживались от террора, пытались действовать мирно. Не получилось: что ж, будем воевать. Не мы начали эту войну, но мы к ней готовы. Мы умеем собирать бомбы, мы умеем их метать. И ради этого мы и объединились в летучий отряд. Он пока небольшой вообще-то, больше название одно: два человека — Елизавета Панафигина да Георгий Шаховской, и даже динамита у нас пока нет. Но будет, будет: будут и ещё бойцы, будет и динамит — нам его уже везут. Просто отряд-то организован вот только что, неделю назад, сразу после воззвания. Родился отряд так: к члену Областного Комитета Поволжской области Николаю Васильевичу Набрекову, который в ажитации и крайнем смятении от всех недавних событий как обезумевший коммивояжер разъезжал по губерниям, возя новые листовки, собирая и с истерическим воодушевлением инструктируя местные комитеты, и вот оказался проездом в Нижнем, обратилась молодая эсерка Панафигина с предложением, раз уж решено восстанавливать террор, организовать летучий отряд. Набреков предложение горячо поддержал. — Надо, Елизавета Михайловна, конечно, надо организовывать! — согласно тряс Набреков кудлатой головой с интеллигентской козлиной бородкой, нервно теребя золотую цепочку часов на выдающемся животе. — Мирная работа — это славно, это нужно, но сами видите, какие дела творятся. Теперь только бомба, только бомба! Взорвать городового — уже славно; взорвать пристава — ещё лучше, губернатора — совсем замечательно! Бомбой, бомбой их всех, подлецов, пока они не поймут, какая сила за нами стоит, что мы так просто наши свободы им назад не отдадим! Но есть ли у вас кто-то, с кем вы собираетесь работать? Елизавета Михайловна ответила, что человек, который может собрать бомбу, у неё на примете есть (это был Георгий Шаховской, который с Набрековым знаком не был), а вот динамита нет, и как достать, она не знает. — С динамитом разберёмся… — пожевал губами Набреков. — Сейчас я как раз еду в Казань, там пороховой завод, а среди рабочих есть наши люди. Как найду кого, я сразу к вам его направлю. Пошлю телеграмму на почтамт, на ваше имя, до востребования. Шифра особого не требуется, просто напишу, что для участия в вашем деле едет такой-то человек, если с динамитом — напишу «везёт подарок». А с нижегородским комитетом вы в дела пока не вступайте и уж тем более о вашей затее не рассказывайте. Я-то человек надёжный, а вот там типчики сидят разные… не долог час и на провокатора нарваться. Вообще ни с кем о вашем отряде не говорите, все сношения поддерживайте со мной одним, — и выписал адрес в Саратове, куда следовало посылать телеграммы по любым вопросам. — А если потребуется что-то передать или рассказать что-то, что не для телеграфа, я пошлю к вам надёжного человека, который вас знает в лицо, или приеду сам. Несколько дней после этого Елизавета Михайловна и Шаховской решали, кого ещё можно позвать в отряд и как всё-таки быть с динамитом, если Набреков не сдержит обещания, а три дня назад, зайдя на почтамт и не особенно-то ещё рассчитывая на вести от Набрекова, Елизавета Михайловна получила сразу две телеграммы: первую, датированную позавчерашним днём — из Симбирска, вторую, сегодняшнюю — из Самары. Первая телеграмма гласила: встречайте человека участия вашем деле тчк пароход царь 14 июля макар насыров тчк подарка нет тчк Вторая же была такова: подарки будут зпт обязательно будут зпт пренепременно будут вскл вскл вскл вскл встречайте поездом москвы александр анчаров* тчк дату сообщу отдельно тчк И вот, этим тихим летним вечером, когда разомлевший под дневным зноем город замер в ожидании завтрашнего открытия Ярмарки, когда закончили уже стучать с другого берега Оки молотки плотников, приготовивших украшенный триколорами помост для торжественной церемонии перед Главным Домом, когда закончили уже начищать самовары половые в бесчисленных ярмарочных трактирах, когда разложили уже по полкам свои товары приказчики лавок в ожидании первых покупателей, когда длинные подводы со скарбом временно переезжающего в Главный дом Ярмарки губернатора Фредерикса пересекли мост через Оку, а музыканты оркестра Убежища бедных детей отыграли последнюю перед завтрашним выступлением репетицию, вот тогда-то, в этот тихий летний вечер, Панафигина и Шаховской стояли у Кремля на высоком волжском склоне, высматривая идущий против течения пароход. Пароходов в этот вечер было много, народ, несмотря на все революционные события, съезжался на Ярмарку как и в прошлые годы, — вот прошёл против течения к Петербургской пристани выкрашенный в красный с белым самолётовский «Иван Крылов», вот вниз по Волге, обгоняя тяжело гружёную баржу, резво пробежал, дымя чёрной трубой, маленький белый пароходик «Самара», принадлежащий обществу «Кавказ и Меркурий»… Шаховской первый заметил старый, пузатый, тяжело оседающий в воде и натужно пыхтящий против течения пароход с чёрным бортом и чёрной трубой — такая раскраска означала принадлежность пароходному обществу «По Волге», целая серия одинаковых судов которого назывались верноподданически единообразно — «Царь», «Царица», «Царевна», «Царевич» и прочее. Это действительно был пароход «Царь», и, пока Шаховской и Панафигина спускались по деревянной лестнице, наискось проложенной по склону холма к пристаням на набережной, в четвёртом классе парохода, переполненном спешащим на Ярмарку артельным людом, на приятно отдающей дневной жар металлической палубе, прислонившись к облупленной стенке и наблюдая за пузырящейся бутылочного цвета водой за низким бортом, плыл из Симбирска бывший артиллерист, ветеран японской войны, участник владивостокского бунта, а вот уже полгода — скрывающийся от властей революционер-подпольщик Макар Ильич Насыров.
-
Тоже очень крутой пост).
Почему? Работу думы можно было освятить для нас по-разному.
Но очень круто, что написано не просто, а с таким оттенком, с каким на все это могли бы смотреть именно эсэры. Например:
Презираемый всеми первый министр Горемыкин, с говорящей фамилией как из Грибоедова и нелепейшими бакенбардами, орденоносный идиот, в смятении отмалчивался и, за неумением придумать ничего лучше, притворялся, что Думы не существует. Над ним злобно и брезгливо хохотали. Вылезшие как грибы после дождя сатирические издания наперебой глумились над премьером и растительностью на его лице.
Очень здорово написано! С акцентами).
Но это просто пример!
Тут все прекрасно. Набреков, телеграммы, пароход царь. Замечательная вводная, и видно, что много материала и тема прет))).
|
Елизавета Михайловна говорила, а со стороны Главного дома тем временем донёсся нестройный шум, оживление толпы. Отсюда не было видно, но надо думать, именно сейчас на деревянный украшенный трёхцветными полотнищами и гирляндами цветов помост входили, блестя погонами, орденами, яркими лентами и галунами на мундирах, важные и надутые, те, которые, Елизавета Михайловна знала, прошлой зимой, охваченные ужасом, слали в Петербург одну за другой панические телеграммы и гнали, гнали городовых и казаков на рабочие кварталы Сормова. Сормово было рабочим посёлком в десяти вёрстах от города, на волжском берегу за Ярмаркой. Здесь находились сразу несколько заводов — механический, чугуно- и сталелитейные, судо- и паровозостроительные: всего до десяти тысяч рабочих там жили и трудились за 10—40 рублей в месяц. Сормово начало бурлить с самого начала 1905 года, и чем дальше, тем больше бурлило: местные комитеты — преимущественно большевистские, но и эсеровские тоже — расклеивали по кирпичным стенам листовки, вывешивали красные флаги в цехах. Осенью на заводах организовали совет рабочих депутатов, милицию, рабочий суд. В суд сразу потянулись с жалобами цеховые, служащие железной дороги, крестьяне окрестных деревень: тут можно было найти справедливость. В ноябре рабочие судили начальника сормовской железнодорожной станции за жестокость и мздоимство и приговорили его к следующему наказанию: надеть на голову мешок с графитной пылью, посадить в тачку, вывезти на свалку и там оставить, более на службу не пускать. Приговор был приведён в исполнение под хохот и улюлюканье толпы. Чем дальше, тем более было понятно, что дело идёт к восстанию. В листовках открыто призывали готовиться к вооружённой борьбе, рабочие занимали горна и точила, ковали ножи и кинжалы; другие собирали зажигательные фугасы и ударные бомбы-македонки; какие-то умельцы изготовили даже настоящую лёгкую пушку. В цехах мутные типчики из города, не таясь, приторговывали оружием: рабочие отдавали месячное жалованье за смит-вессон или браунинг. Ежедневно в заводской столовой-читальне проходили митинги, ставились спектакли на революционные темы, распевались песни. Вооружённая заводская милиция стреляла в городовых, пристав прятался в части, начальство заперлось по канцеляриям, губернатор и жандармы боялись появиться в Сормове. И заводские, и власти понимали, что столкновения не избежать, и готовились к нему. И вот, двенадцатого декабря, когда в Москве уже полыхала обросшая баррикадами Пресня, по заводскому гудку рабочие собрались на общую стачку. Остановились заводы, фабрики, типографии, мастерские, телефон, телеграф, в городе встали трамваи, закрылись банки, аптеки, управы. Сормовцы захватили поселковую электростанцию, обесточили все предприятия. По центральной улице посёлка по направлению в город пошла, распевая «Марсельезу», многотысячная демонстрация под красными флагами. На окраинах посёлка им выдвинулись исправник с казаками. Власти, ещё не до конца поняв, что произошло, попытались рассеять толпу, но не учли, что у каждого второго рабочего был или револьвер в кармане, или бомба за пазухой. Завязалась перестрелка — рабочим не удалось пробиться из Сормова в город, полиции — рассеять рабочих. В нескольких верстах от Сормова, в нижегородском пригороде Кунавино, боевая дружина большевиков-железнодорожников захватила Московский вокзал, парализовав пассажирское сообщение. На сормовских улицах начали расти баррикады, столовая превратилась в штаб восстания. Власти нагнали в Сормово всех, кого сумели собрать, — городовых, жандармов, казаков, пожарных с топорами. Эта разношёрстая команда пошла было на штурм главной баррикады — с неё полетели бомбы, раздались выстрелы, а с второго этажа школы-столовой неожиданно начала палить самодельная пушка. Не ждавшие такого отпора власти отступили, потеряв несколько человек убитыми, и стали ждать подкреплений. Обе стороны провели холодную декабрьскую ночь, готовясь к новому бою: большевики спешно организовали единый штаб восстания, лазарет, строили новые баррикады, вынося из зданий мебель, накидывая кучами дрова и обливая всё это водой, минировали самодельными фугасами обочины. Мёрзшие на окраинах посёлка пожарные, полицейские и казаки ждали прибытия артиллерии. Морозным утром следующего дня штаб восстания приказал всем, не имеющим огнестрельного оружия, покинуть Сормово. Артиллерийский обстрел ожидаемо начался на рассвете: власти били сначала навесом по окружающим баррикады зданиям, затем, подавив самодельную пушку повстанцев, придвинулись и стали расстреливать главную баррикаду прямой наводкой. Несколько раз полиция с казаками ходили в наступление на соседние с баррикадой здания, несколько раз брали штаб восстания — народную столовую — и каждый раз были выбиты оттуда контратакой рабочих с бомбами и револьверами. Сормовцы продолжали биться до вечера — только тогда, когда главная баррикада уже зияла дырами, а окрестные здания были разбиты, штаб, наконец, принял решение прятать арсенал и разбегаться по окрестным лесам. И тут, когда повстанцы уже отхлынули с главной баррикады, и власти осторожно двинулись на приступ — впереди пожарные с топорами, расчищающие заграждения, за ними вооружённые городовые с казаками, — сормовцы преподнесли последний сюрприз: под ногами у наступавших взорвались заложенные накануне фугасы. Ничего не понявшие полицейские в беспорядке откатились назад, от страха принялись заново обстреливать пустую баррикаду, полуразрушенную школу — и это дало время большинству рабочих скрыться. Наконец, городовые с казачьём, набравшись смелости, всё же одолели покинутую баррикаду, заняли пустой штаб восстания, пустой лазарет. Закоченевшие на второй день на трескучем декабрьском морозе, они тут же накинулись на спирт, которого в избытке там было, и пьяные уже принялись обливать баррикады найденным там же керосином, поджигать их — это было легче, чем разбирать. Кого ловили — стреляли на месте, не выясняя, кто, зачем. Чудовищными кострами запылало разбитое артиллерией Сормово, в котором среди остовов печей и раскиданных по снегу кусков кровельного железа пировали пьяные победители; прятались по окрестным лесам рабочие, укрывали по квартирам раненых. На следующий день было покончено и с большевистским отрядом, засевшим на вокзале: его также долго, с похмельным упорством расстреливали из артиллерии, не щадя здания, не щадя и окрестных кварталов, куда попадали перелёты. После нескольких часов обстрела большевики сложили оружие. Сразу же вслед за тем в губернии было объявлено положение чрезвычайной охраны — был введён комендантский час, начались повальные обыски и аресты. Некоторых задержанных городовые убивали на месте, не доводя до части. Заводы объявили локаут: все рабочие были разом уволены, а заново начали принимать лишь не замеченных в беспорядках. На этом положении притихшее, прибитое Сормово продолжало жить полгода, до нынешнего июня. Кого же было винить в расправе над сормовцами, кто более всех заслуживал бомбы? Было несколько кандидатур. Во-первых, конечно, это был действительный статский советник барон Константин Платонович Фредерикс, нижегородский губернатор, двоюродный брат министра императорского двора.  До того, как стать нижегородским губернатором, он был вице-губернатором при Унтербергере, его предшественнике. Унтербергер был тупой и жестокий вояка, признававший средством разговора с народом лишь нагайку, и никто, как он, не заслуживал бомбы, — но Унтербергера сместили и отправили губернатором на Дальний Восток совсем незадолго до сормовского восстания, так что руководил его подавлением его заместитель — тогда ещё официально без губернаторского чина, в статусе исполняющего дела. После подавления выступления и последовавших за ним полицейских репрессий многие посчитали, что Фредерикс ничем не отличается от Унтербергера; но нет — новый губернатор понимал, с какой силой в лице революции имеет дело, и внезапно для многих начал заискивать перед революционерами: ассигновал казённые деньги на содержание нижегородского Народного дома — благотворительно-просветительского центра, сейчас почти официально ставшего гнездом разного рода местных эсеров и эсдеков, и сквозь пальцы смотрел на разные комитеты и союзы, действовавшие в городе. Более же прочего прославился новый губернатор разрешением появления на Ярмарке «арфисток» и «этуалей» (более десяти лет им был заказан вход на неё) и ожидавшимся открытием ярмарочного «Артистического клуба». Видимо, поддержкой дешёвых и пошлых увеселений губернатор полагал отвлечь народ от революционных настроений — и не сказать, чтобы это не работало: Елизавета Михайловна могла сравнить нынешнее открытие Ярмарки с прошлогодним: тогда купцы боялись везти в Нижний товар, приказчики боялись ехать сюда работать, нищие и те предпочитали выезжать на лето в какой-нибудь иной, более спокойный город. Половина окон тогда, прошлым летом, остались заколочены, половина номеров пустовало весь сезон, и кутили рыбинские и московские купцы в трактирах как-то невесело, и всех разговоров было — о революции да о японской войне. Не то сейчас — в этом году, кажется, народ готовился к Ярмарке даже с излишним, горячечным оживлением. Кроме «этуалей», Фредерикс поддерживает и черносотенцев — первые черносотенные организации появились в городе ещё прошлой осенью, как и везде в России, но в декабре, сразу после восстания, Фредерикс распорядился выдать местной черносотенной дружине оружие — на случай нового восстания. Вот и поди пойми такого человека. Кто он: слабак, трепещущий от раскатов революционной грозы, отчаянно пытающийся задобрить бурлящее подполье? Хитрец, выгадывающий время, чтобы нарастить силы, привлечь на свою сторону народные массы и потом решительно раздавить бунтарей? Или дурак, который своими замысловатыми построениями перехитрит самого себя? Только время покажет. Вторым в списке — но скорее по формальной должности, а не по действительной важности был вице-губернатор, штабс-капитан Сергей Иванович Бирюков:  Костромской дворянин, ветеран турецкой войны, брат известного толстовца и биографа великого писателя, Бирюков — неамбициозный человек скорей помещичьего, чем чиновничьего склада. Пятнадцать лет уж как вышел он в отставку с военной службы, всё потихоньку занимался земскими делами у себя в Костромской губернии, а вот пару лет назад, чёрт уж знает зачем, вернулся на службу — сначала на должность вице-губернатора в Тобольске, затем, уже в этом году, перешёл в Нижний. Это в январе было, уже после сормовского восстания, да и в последовавших за ним событиях участия не отметился чем-то громким. Вообще тихо он сидит на своём месте, этот Бирюков, мало о нём слышно: выслужиться не пытается, не фрондирует. Вроде бы, по слухам, умеренный либерал октябристского толка, которых много сейчас среди таких вот добродушных помещиков-земцев. Такого если и взрывать, то разве в указание остальным — будь вы хоть десять, хоть сто раз добренькие либералы, если вы с властью — вы нам враги и точка. А вот кто действительно, не по должности, а по делам заслуживал бомбу — так это ротмистр Николай Викторович Трещенков, начальник нижегородского охранного отделения, руководитель многочисленного штата нижегородских филёров, провокаторов и перлюстраторов переписки.  Молодой и энергичный тридцатилетний служака, бывший жандарм, теперь перешедший в новосозданное охранное отделение, всего лишь ротмистр, но при этом полновластный хозяин обширной области политического розыска — это он в декабре, когда Фредерикс трусливо отсиживался в Кремле, отсылая телеграмму за телеграммой в Питер, лично метался между кунавинским вокзалом и Сормово, сам приказывал артиллерии расстреливать восставших, сам же после подавления восстания много раз тёмными ночами выезжал на тройке в Сормово, чтобы неожиданно нагрянуть ещё на одну рабочую квартиру, ещё в одно общежитие, чтобы найти и арестовать, а то и дострелить на месте укрываемых повстанцев. Трещенков не только жесток, но и смел, в этом ему отказать нельзя: он прекрасно понимает, что в его положении заигрывать с революцией бессмысленно — таких, как он, не щадят: в прошлом году эсер застрелил его предшественника, ротмистра Грешнера; возможно, доберутся и до него. Он не собирается идти с революционерами на компромиссы, не собирается их задабривать. Надо думать, он ненавидит революцию и презирает тех, кто в ней участвует. Поговаривают, что Трещенков садист, что он наслаждается своим делом, любит мучить, любит убивать. Дьявол его знает, так ли это — в революционной среде тоже любят наговоры; но даже если это и ложь — сам факт того, что такие слухи распускают именно о Трещенкове, говорит о многом. Кажется, больше прочих Трещенков ненавидит и презирает именно большевиков — тех, с кем больше всего имел дела. Трещенков смел, но осторожен: Елизавета Михайловна, хоть и не знала наверняка, но слышала, что начальник охранки установил круглосуточное наблюдение за своим домом, редко носит свою приметную униформу и ездит на службу, часто меняя маршруты. Ну и, наконец, четвёртым был бывший коллега, а теперь конкурент Трещенкова — начальник губернского жандармского отделения генерал-майор Антон Иванович Левицкий.  Конкурент — потому что сферы деятельности охранного отделения и жандармского управления плохо разграничены, часто пересекаются. Оговорено, что охранка работает в городе и Сормове, жандармы — в уездах (в том числе на Ярмарке): но что делать, если у подпольщиков одна явка в городе, а другая — за ним? А как делить агентов, желающих или вынужденных сотрудничать с властями? Левицкий с Трещенковым были на ножах, знала Елизавета Михайловна, и генерал-майор, пусть и намного превосходил своего визави в чине, не мог ничего поделать с молодым и наглым начальником охранки, находившемся на особом положении и подотчётным лишь губернатору. Так или иначе, зимой соперникам пришлось на время помириться, и Левицкий в декабрьские дни, так же, как и Трещенков, был на передовой, командуя жандармами и казаками, а потом наблюдал, не препятствуя, за расправами над заводским людом. Он тоже принимал участие в последовавших за разгромом восстания репрессиях, тоже выслеживал повстанцев по окрестным с Сормовым сёлам, арестовывал и допрашивал их. Левицкий руководит нижегородским жандармским управлением тоже недолго — чуть больше года, а до того служил на аналогичной должности в Иркутской губернии, откуда был переведён с повышением в чине. Про Левицкого было известно, что по убеждениям он закоренелый черносотенец и что сам он принимал самое деятельное участие в формировании черносотенной «Патриотической дружины» — между прочим, вооружённой винтовками и револьверами. Ходят слухи, что Левицкий много пьёт; а то, что он к тому же и отчаянный мздоимец, — это даже не слухи, это общеизвестная всей губернии истина. Как любовь к самодержавию, вину и деньгам укладываются вместе в голове генерал-майора — бог его весть: вероятно, нужно быть российским чиновником, чтобы это до конца понимать.
-
Как любовь к самодержавию, вину и деньгам укладываются вместе в голове генерал-майора — бог его весть: вероятно, нужно быть российским чиновником, чтобы это до конца понимать.
-
Не плюсанул тогда этот пост, потому что плюсомет не перезарядился. А пост отличный! Детальное описание целей. Да и описание восстания сделало бы честь историческому роману, говорю без шуток.
|
19.07.1906 20:05
Нижний Новгрод, Ярмарка,
Угол Самокатной площади и Оренбургской улицы,
Десять метров над уровнем проезжей части
— Вы со мной, Макарушка, очень осторожненькие будьте! —задыхаясь, жарко и пьяно лепетала Манька, горячо прижимаясь к Макару Ильичу, — я ж не простая, я из лесов, из староверов… Мы дьяволу молимся, мы молитвы навыворот читаем, мы кровь пьём!
— Пошла молоть, дура! — лениво потянувшись волосатой лапой, потянул её от Макара лежащий за Манькой грузчик Терёшка. — Что мелешь? Чепуху!
— Да я… хочешь, акафист нечистому… — продолжала горячо шептать Манька теперь уже Терёшке, навалившись на него полным, округлым боком, крупными грудями. Повисла на плече, уткнулась в загорелую красную шею, что-то забормотала.
Они втроём, голые до пояса, лежали на раскалённой рыжей жести крыши и после окончания трудного и долгого рабочего дня, уже плотно пообедав, лениво передавали друг другу бурую бутылку чёрной как кровь ярославской мадеры. А внизу в угаре шумела и галдела Самокатная площадь — надрывно звенела цветастая карусель, шумно блямкал силомер, нестройно гудели голоса, издали фальшиво надрывались оркестры, зазывала петушино скликал зрителей на представление цирка уродов, — а тут, на крыше, на высоте двух этажей и чердака, было покойно: печным жаром отдавали ржавые жестяные листы, глубоко синело высокое небо в розовых пёрышках закатных облаков, иконным золотом сверкала за линией домов Волга. Приятно гудели натруженные после дня работы мышцы, ласковой травяной волной наплывал тёплый ветерок, тихонько звенела в голове крепкая, сивухой, сладкой патокой и дёгтем отдающая мадера. Вероятно, из самогона, патоки и дёгтя её в Ярославле и делали.
Здесь, на Самокатах, Макар Ильич жил четвёртый день: первую ночь в Нижнем он провёл в гостинице, куда его определил Шаховской, но оставаться в «Волжско-камском подворье» надолго не было денег — своих у Макара Ильича не осталось вовсе, а пяти рублей, одолженных Шаховским, хватило бы на день-два. Поэтому уже в день открытия, расставшись с Панафигиной и Шаховским, Макар Ильич пошёл искать себе новое место жилья, а заодно и подённую работу. Найти и то, и другое оказалось делом плёвым.
На Оренбургской улице Макар Ильич быстро приметил окно с четвертинкой стекла, закрытой красным листом, — это означало, что здесь сдают места в углах, — и за полтину в сутки взял себе неплохой, у окна, угол с устланной лоскутным одеялом лежанкой, отгороженный с одной стороны грязной японской ширмой с цаплями, с другой — стиранной простынёй. Тут же он нашёл и работу — постояльцем на соседней койке оказался молодой грузчик Терёшка, который и посоветовал Макару Ильичу место работы, где паспорта не спрашивают.
Низенький и коренастый, чёрный от загара курчавый астраханский парень лет двадцати пяти из уральской казачьей бедноты, Терёшка, как и Макар, был беспаспортным — он работал матросом на пароходе, но где-то в пути потерял документы, не был взят на обратный рейс и, не имея средств на возвращение в Астрахань, месяц как торчал в Нижнем. Терёшка работал на складе общества братьев Каменских на Сибирской пристани, весь день таская с прибывающих пароходов тюки, ящики, баулы. Он был вынослив как бык, не считал денег, умел ругаться по-персидски и совершенно не беспокоился о будущем.
Не заботилась о будущем и Манька — она постоянно была слишком пьяна и весела, чтобы о чём-то переживать. Она была любовницей Терёшки и, кажется, ещё половины ярмарки (худшей половины). Она тоже жила на Самокатах, в соседнем доме, и чёрт его знает, чем занималась — впрочем, понятно чем. Черноволосая, круглолицая, крупастая Манька была молода — не было ей ещё и двадцати. Глядя сейчас на то, с каким бесстыдством она, по пояс нагая, длинно растягивается белым телом по рыжей крыше, как горячо льнёт то к Терёшке, то к Макару (Терёшка не возражал), как, запрокинув голову, глотает из горла мадеру, пока не заходится кашлем, — глядя на всё это, сложно было поверить, что ещё пару лет назад она была послушницей-белицей, сироткой, живущей на попеченье богомольных староверок в женском скиту, надёжно укрытом непролазными керженскими лесами от властей и соблазнов мира. Что с ней будет ещё через пару лет, Маньке было наплевать. Наплевать на это было и Терёшке. Всем здесь, на заходящихся в пьяной карусели Самокатах, на всё было наплевать. На Ярмарку опускался сизый вечер. Потускнело и укатилось за чёрную гребёнку крыш солнце. Моргнув, загорелись цепочки электрических огней, как язва, раскрылась рама внизу под скосом крыши, донеслось надрывное механическое треньканье оркестриона, пение, шум гулянки.
— А большаки-то, большаки ведь вашу пристань громить станут, мальчики, — раскинувшись на спине, изгибаясь и щекой прижимаясь к горячему металлу, невнятно пробормотала Манька. Не глядя, она манерно вытянула руку к Терёшке, державшему бутылку, и требовательно задвигала пальцами — дай, мол.
— Чего мелешь, дура, — лениво протянул Терёшка.
— Знаю, знаю, — с пьяной настойчивостью сказала Манька. — Знаю, будут, будут. Дай! — потянулась она за бутылкой, но Терёшка сам в пару глотков прикончил остатки и, не глядя, бросил бутылку себе за спину. Бутылка перелетела через конёк крыши, стукнулась о другой скат, гулко покатилась и улетела в неизвестность.
— Чего ты знаешь, чего ты можешь знать-то… — отмахнулся Терёшка и полез в карман за папиросами.
— А вот знаю! — неожиданно зло вскинулась Манька, бешено уставившись на Терёшку. — Верно знаю, тебе говорю! Ты, дурак, не знаешь, а я очень фактически знаю! Листовку-то ты читал, а? А, да ты ж и читать-то не горазд!
— Мне читали … — хмуро сказал Терёшка. — Не было там ни про какой погром в листовке…
Говорили они о большевистской листовке* «К рабочим», разошедшейся сегодня по пристаням. Сегодня вообще был дикий день — сначала пронёсся слух, что кто-то застрелил губернатора, прямо в Главном доме Ярмарки. Туда начал стекаться народ; пошёл поглазеть на случившееся кое-кто из грузчиков. Вернувшиеся, однако, сообщили, что губернатор, собака, жив и здоров — но и стрелявшего студента (все почему-то были уверены, что это был студент) поймать не удалось. А потом по рукам во время перекуров пошла листовка «К рабочим», непонятно откуда появившаяся. Кто умел читать — читал сам, кто не умел — тому читали.
В листовке говорилось о понижении расценок на подённую работу грузчиков — понижение действительно планировалось в ближайшие дни, и, конечно, доволен этим никто не был; но был ли кто готов идти защищать свои трудовые копейки под казачьи нагайки — пока было неясно. Листовка действительно не призывала громить начальство, а лишь предписывала собираться и обсуждать предстоящее. Но Терёшка своим заработком был, кажется, доволен и обсуждать ничего не хотел. Ему вообще не нравился разговор на эту тему, но Манька, как-то вдруг взвившаяся, продолжала гнуть своё.
— Не было, а я знаю, что про вас речь! — горячечно возразила Манька. — Знаю, знаю! — ударила она кулачком в волосатую грудь Терёшки.
— Откуда тебе знать-то?… — досадливо протянул Терёшка.
— Не скажу! — обидчиво выпалила Манька. — Теперь вовек не скажу, хоть режь! Раз я дура такая, так и не скажу! Знаю, не скажу.
— Ну и не говори… — держа в зубах папиросу, безразлично сказал Терёшка, ложась обратно на крышу.
— И не скажу! Вообще, очень уж скучно мне тут с вами стало. Пойду я вниз, — Манька, пьяно пошатываясь, встала и нетвёрдо побрела вверх по скату крыши к люку на чердак.
— Так пойдёшь? — Терёшка с интересом повернул голову, провожая Маньку взглядом. — А то давай…
Только сейчас Манька, кажется, осознала, что из одежды на ней — лишь длинная цветастая юбка.
— Ах ты подлец! — воскликнула она, подскочила к лежащему Терёшке, занесла ногу, чтобы пнуть его… но Терёшка ловко протянул руку и широкой ладонью схватил Маньку за щиколотку: та не удержалась на ногах, повалилась на него, закричала, завизжала, замолотила ногами.
— Сейчас с крыши спущу! — рычал Терёшка, переворачиваясь и наваливаясь на Маньку. Та визжала, хохотала и отбивалась. Макар Ильич поднялся, подобрал одежду и пошёл к выходу. Ему ещё нужно было зайти в гостиницу к Шаховскому, узнать, не поступило ли от начальницы отряда указаний. А здесь ему уже делать было нечего.
---
20.07.1906 12:00
Урочище Великий Враг, Балаховские дачи
+29 °С, ясно
Снятый вчера Лёвиным в «Царских номерах» номер не пригодился — встретившись в полдень, подпольщики сразу поехали на выданную Панафигиной конспиративную квартиру. Она оказалась в двадцати верстах от города, за большим селом Кстовым, в одной из трёх новеньких дач, в рядок выстроенных вдоль песчаной просёлочной дороги через лес. Их дача была крайней, двумя боками выходившей в густой и тёмный, заросший лопухами, крапивой и папоротником, обмётанный паутиной лес. Тут было малолюдно — две другие дачи пустовали, жилья рядом не было, ближайшие сельские дома были за лесом в полуверсте отсюда, и вряд ли можно было полагать, что сельские часто ходят напрямик через лес. Правда, заметили Анчар с Левиным, многие ходят мимо дач по дороге — дорога вела вниз к пристани, от которой пять раз в день в город ходил дачный пароходик.
Анчар с Лёвиным устроились на ночь, благо места хватило сполна — одному на мягкой пуховой кровати в спальне, второму в большой комнате на диване. А с утра начали по одному прибывать и другие созванные Елизаветой Михайловной подпольщики.
Сперва прибыла сама Панафигина, привезшая с собой продукты к завтраку. Поставили самовар, приготовили завтрак, и только уселись — прибыл Шаховской, с порога сообщивший Елизавете Михайловне, что Насыров о собрании оповещён и обещал быть.
— Георгий Евстигнеевич или просто Шимоза, — с рукопожатием представился он завтракавшим на веранде Анчару и Лёвину, — я по бомбовой части. Постойте, — вдруг обернулся он к Лёвину, — но ведь мы, кажется, встречались? Это не вы изволили обратиться вчера ко мне, когда на ярмарке произошло это непонятное покушение? «Царские номера», ресторан?
Лёвин вспомнил — ну да, действительно, он вчера определённо видел этого бритого бородатого молодого человека, так же, как и он, завтракавшего в одиночестве.
— Вот я надеялся всех удивить эсдековской листовкой, — продолжил Шимоза, доставая из кармана пиджака сложенную бумагу, — а все уже её, подозреваю, прочитали. Вы ведь, кажется, тоже себе одну прихватили?
Тем временем с улицы тонко звякнул колокольчик на калитке. Это прибыл Макар Ильич.
-
Какой Макар, такие и арфистки.
|
За чаем в светлой и полупустой по утреннему времени, сдобно пахнущей кондитерской напротив вокзала Елизавета Михайловна объяснила Анчару, как добраться до снятой накануне дачи (и то, было бы что объяснять, — извозчику сказать «Башкировские дачи, что у Великого Врага» и готово), как найти нужную (это было путанней) и что сказать, если заявится хозяин (ему было сообщено, что из Москвы на лето приезжает родственник). Передала ключи, и с тем оставила Анчара допивать чай, а сама удалилась. Анчар не спеша позавтракал и в ожидании назначенного времени встречи с Лёвиным спросил у мальчишки-разносчика свежую газету — «Нижегородский листок». За чаем просмотрел свежеотпечатанный номер с первой страницей, почти полностью занятой рекламами пароходных обществ, номеров и ресторанов. Раздел «Из столиц сообщают»: в Финляндии неизвестные застрелили члена Государственной Думы кадета Герценштейна — разумеется, чёрная сотня, кто ещё. Там же, в Гельсингфорсе, начались волнения в минных и артиллерийских частях — есть убитые и раненые. «Местные новости»: Ярмарочный комитет намерен установить равную оплату труда пристанных и судовых рабочих. В Сормове группа вооруженных явилась в лавку и потребовала 5000 руб. Такой суммы не оказалось. Были произведены выстрелы, которыми ранен городовой. Грабители скрылись. Боятся слова «экспроприация» газетчики, не пишут. А всё же замалчивай-не замалчивай, а и тут всё крутится, славно и жарко горит. «Внешние новости»: два итальянских корабля подвергли бомбардировке турецкий лагерь и окопы. Юаньшикай телеграфировал хуттуте о верблюдах, подаренных богдыхану халхаскими хошунами… что? К чёрту эту тарабарщину. «Смесь»: Шаляпин судится с бывшим редактором «Вечерней Москвы» Шебуевым. В центре Рыбинска революционер экспроприировал у слепого нищего 10 ½ копеек (а вот здесь не испугались слова). В Феодосии мчащийся на бешеной скорости автомобилист сбил студента-велосипедиста, к счастью, без жертв. Автомобили — чума нового века. Близ Кирсанова живёт старик-свидетель войны 1812 года. Анчар закрыл газету, расплатился за завтрак и, звякнув тусклым дверным колокольчиком, вышел на пыльную привокзальную площадь. Только сейчас, присмотревшись, заметил он свеже заштукатуренные следы на кремовом фасаде вокзала, как припудренные оспины тут и там. Здесь в декабре оборонялись большевики, — вспомнил Анчар, — как они на Пресне, так и эти здесь. Остановил извозчика, забрался на рассохшийся дерматин сиденья, сказал ехать в город. Было ещё рано, но не торчать же на вокзале до полудня. Извозчик как-то очень по-летнему лениво повёз Анчара по незнакомому просыпающемуся городу. Проехали под нелепо китчевой триумфальной аркой с царскими инициалами, по завешанными рекламой и вывеской улицам с бесконечными сонными лавками под жестяными навесами и цветастыми маркизами, мимо часовни с флагами и вывернули на как-то разом широко распахнувшийся сверкающий водный простор, за которым в сизой солнечной мгле вставали крутые зелёные холмы, меловые сползающие вниз с холмов кремлёвские стены, хаос рыжих крыш, красных стен, щетина мачт на зеркально сверкающей воде, чёрные султаны ползущих по реке пароходов и катеров. Через мост проехали в город, гремя и трясясь на булыжной мостовой, поднялись по крутому спуску под Кремлём и остановились на широкой благообразной площади — как раз под тем самым памятником Александру II, где Анчар уговорился встретиться с Лёвиным. Но уговорились на двенадцать, а теперь ещё и десяти не было. Нужно было как-то убить два часа, и Анчар пошёл смотреть Кремль. Долго бродил мимо каких-то безликих присутственных мест, из-за решётки посмотрел, как под отрывистые офицерские крики по-детски торопливо строятся стриженные, глупо одинаковые кадетики на беспощадно солнечном плацу местного кадетского корпуса. Долго глядел на раскинувшийся с высоты холма широченный вид на Волгу, бесконечные леса за ней. Спустился по круто уходящей вниз аллее ухоженного парка к крепостным стенам, от нечего делать рассматривал ряды глухих арок, щербатые, видимо, очень старые кирпичи стен, чугунную оковку закрытых ворот. Поднялся к станции элеватора, купил в дощатом павильончике у скучающего старичка стакан сельтерской воды, с удовольствием выпил. Сильней и сильней припекало. Совсем уж невесть зачем заглянул в попавшийся по пути собор. Застойная сумрачная тишина, тонкие снопы янтарного света из узких решётчатых окон, гулко отдающиеся шаги, призрачное как галлюцинация тихое покашливание богомольной старушки под иконой, сладкий запах ладана, череда чёрных ликов в густом тёмном золоте иконостаса, красные огоньки лампад, пара косых свечек в кандиле… Всё, как везде. А из необычного — вот стоит изукрашенная затейливыми узорами в псевдорусском стиле часовенка. Подошёл. Под сводом — мраморная доска со старой надписью. Занятно было по слогам разбирать полустёршиеся завитушки позапрошлого века: «Избавитель Москвы, Отечества любитель и издыхающей России оживитель, Отчизны красота, поляков страх и месть, России похвала и вечна слава, честь: Се Минин Козма здесь телом почивает. Всяк, истинный кто росс, да прах его лобзает». Всё ясно. Мимо Анчара мелкими шаркающими шажками прошёл дьячок в чёрном, тихо хлопнул какой-то дверцей. Анчар вышел из собора. Ждать уже оставалось недолго. --- А Владимир Осипович тем временем уже вышел из ресторана «Царских номеров». Ещё пару раз завтракавшие слышали выстрелы, совсем уж глухо, потом ещё пару раз мимо окон ресторана проехали казаки — в одну сторону, обратно, — и на этом всё и кончилось. Оставшиеся в ресторане оживлённо обсуждали случившееся, но, так как знали все не больше Лёвина, то и сказать ничего нового не могли, а лишь переливали из пустого в порожнее. Наконец, под окнами ресторана появился городовой, кликнувший дворника и принявшийся вместе с ним собирать раскиданные юношей листовки. К окну подошёл один из купцов, тянувший уже четвёртый стакан чаю, и, отворив раму, подозвал городового: — Милейший, а подойди-ка сюда, будь добр, расскажи нам всё по порядку. А то мы тут чаи гоняем, а жив губернатор или нет, сами не знаем, — и достал из кармана целковый. — Его превосходительство, слава Богу, живы, — городовой важно перекрестился и лёгким, будто завершающим знаменье движением принял монету, — стреляли, как оказалось, вовсе не в него, а так, для испугу. — А кто ж стрелял, какая партия? — продолжал расспрашивать купец. — Да кто ж, твоё степенство, их разберёт, какая там у них партия, — развёл руками городовой, оглянулся на дворника и крикнул, чтобы тот продолжал собирать листовки. — Социалисты, вестимо… — Да уж надо думать, что не чёрная сотня, — с сарказмом ответил купец. — Да все они голозадая партия, как по мне! Студенты да босяки какие-то! Это ж они, сучьи дети, и заорали первые, что губернатора-от убили! А как народ-от от пристаней к Главному дому потянулся, так они начали листы свои раскидывать — кто с крыши, кто с окна. Мы за ними — они по крышам, по дворам наутёк, чисто зайцы! Я вот гнался за одним патлатым, да вы и сами видели, — а не поймал. Может, другого кого поймали, это я пока не знаю… А губернатор, губернатор, слава Богу, жив-здоров — лично народу изволил из окошка показаться, чтобы толков не было, я сам видел. — Ну спасибо, утешил, братец, — добродушно сказал купец. — А листовочку-то вон дай ознакомиться: любопытно! — Не положено, — с укоризной ответил городовой. — Нам их собрать поручено. — Да ты дай, дай, — купец достал из жилетного кармашка ещё монетку и покровительственно протянул её городовому. — Или ты что, боишься, что я начитаюсь и на баррикады пойду? — со смешком добавил он. — Эх, и хочется же вам эту дрянь читать… — вздохнул городовой, принимая монету, и передал купцу мятый жёлтый листок — такой же, что прихватил с мостовой себе и Лёвин. Р.С.Д.Р.П.
К РАБОЧИМ
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи! Не успела открыться ярмарка, а администрация уже идет в поход против нас. Приказом председателя ярмарочного комитета Калашникова объявлено понижение расценок для пристанных и складских грузчиков. Это понижение неравномерно по различным пристаням, но всюду оно значительно: в общем, товарищи, грузчики теряют от шестой части до четверти своего заработка. Но мало, что наше начальство покушается на наш и без того скудный заработок, оно еще нагло издевается над нами: Калашников объявляет в своем приказе, что понижение расценок вызвано желанием уравнять пристанных грузчиков с судорабочими на подённой ставке. Это введёт справедливость, говорят они! Хороша, нечего сказать, «справедливость», тепло же от нее рабочим! Что матрос-судорабочий получает по ставке меньше, это они вспомнили, а что живёт он зато на казённом коште, и ни на койку, ни на харчи заработанных денег не тратит, про то «забыли»! С хорошего конца догадался наш «уравнитель» действовать!
Товарищи! Почему же именно теперь выступило наше начальство со своей «справедливостью», почему именно теперь появилось у ярмарочных тузов стремление «уравнять» рабочих? Вспомните, товарищи, прошлый год, вспомните то могучее рабочее движение, прокатившееся по России. Тогда всякого рода начальство и между прочим и наше ходило перед рабочими на задних лапках, они не смели ограничивать наши права, потому что в каждый момент мы могли ответить дружным протестом. Но усилилась реакция, рабочее движение несколько утихло, и начальство снова подняло голову. Всем известно, чем закончилось декабрьское восстание в Сормове: началась «чистка» рабочих, нужно было сначала выбросить «беспокойные» элементы: вот и посыпались расчёты, аресты и высылки, а подчас и беззаконные подлые казни на голову наших сознательных товарищей. Десятки наших братьев сормовских рабочих были безжалостно замучены царскими палачами; сотни — арестованы; тысячи вместе с семьями обречены на голод и холод. И вот теперь, «очистив» Сормово и приютив под своим крылом черносотенцев, губернатор и его прихвостни-толстосумы в полной уверенности в своей силе накидываются теперь и на нас: теперь они не стесняются ухудшить завоеванные в борьбе условия труда — протестовать, дескать, уж не посмеют. И не только наше начальство поступает так. Фабриканты и заводчики по всей России воспользовались удобным моментом, чтобы постепенно отнять все наши прежние завоевания. Забудь о правах, говорят они, гни спину с утра до ночи, работай до смерти!
Но народ не раздавлен, революция не умерла, это не сон, товарищи, это затишье пред бурей. Снова подымается могучий пролетариат, на этот раз в союзе со всем обездоленным народом, рвущимся к свету. Чиновники, помещики, фабриканты решили не допускать до этого: высосем, дескать, из народа всю кровь, лишим его силы. Задавим его под непосильным гнётом: пусть мучается, страдает, пусть надорвётся, пусть изголодает — уж не посмеет тогда восстать, не поднимет ослабшая рука красного знамени! А если и поднимет, власти двинут против народа армию, свору опричников — полицию, жандармов, охранку. Власти скажут им: народ хочет земли и воли, дайте ему… свинец!
Товарищи! Если уступим сейчас, покорно ляжем под барскую плётку, не ответим шайке народных палачей свинцом на свинец, кровью на кровь — так и будем томиться в рабстве, так нами и будут помыкать, как скотиной! Будем же готовы к борьбе, станем же вместе под знамя той партии, которая во всех странах, во всем мире смело и последовательно до конца стоит за интересы всего рабочего класса. Собирайте собрания, устраивайте митинги, обсуждайте события, происходящие перед нами. Втягивайте, привлекайте отсталых товарищей, тех малосознательных, кто по темноте и незнанию сторонится от общего дела, боится принять в нем участие. А тех, кто сознательно мешает ему, кто входит в сношение с палачами, кто предаёт товарищей и служит проклятой народом власти, удаляйте из своей среды, чтобы в момент борьбы провокаторы и изменники не вносили смятение в ряды борцов, не вредили нашей работе.
Готовьтесь же, товарищи.
Да здравствует организация пролетариата.
Да здравствует Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия.
Ярмарочный Подрайон
|
Ленни, завёрнутый в белый пушистый халат на голое тело, лежал в своей комнате, в которой жил с детства, на мягком пуфе перед стеклянной стеной, выходящей на море, — а вокруг по полу, стенам и потолку прыгали мишки Гамми, смеялись и пели тонкими голосами Микки и Минни Маусы, водили хороводы Билли, Вилли и Дилли, смешно крякал Дональд Дак и переваливался с бока на бок Винни-Пух с горшочком с мёдом. Ленни лежал в пуфе, затягивался время от времени гашишом из бонга зелёного стекла, а потом откладывал бонг в сторону, поднимал с пола картонную коробку с лапшой, жевал лапшу, потом откладывал коробку в сторону, поднимал бутылку уже порядком степлившегося пива, делал несколько глотков, отставлял бутылку и снова глядел на писклявое, беспечное, имбецильное, страшное в своей монотонности весёлое цветное мельтешение мультяшек. Как и обычно под гашишом, на Ленни накатывала жуткая слабость и апатия и даже поднимать коробку с лапшой и бутылку с пивом казалось чем-то утомительным. А диснеевские мультяшки всё хохотали и припевали, прыгали и летали разноцветной чередой перед глазами, скакали по полу, норовя ухватить Ленни за нос. Ленни глядел на мультяшек пустым взглядом, пережёвывая лапшу. Позвонил 1488. Ленни осоловело таращился на цифры в углу поля зрения и слышал, что сетевик ему что-то говорит, но не мог сообразить, чего: несмотря на то, что по отдельности каждое слово было понятно, больше трёх-четырёх слов вместе сложить не получалось, и к концу фразы её начало уплывало куда-то вдаль и растворялось там, среди кряканья Дональда Дака и щебетания диснеевских птичек, летающих кругами под потолком гостиной. Сетевик предположил, что Ленни обдолбался. Ленни ответил на предположение бессмысленным смехом и рыгнул. 1488 сказал «окей-ла» — Ленни машинально ответил «окей-ле». 1488 отключился. Ленни подумал — наконец-то. Микки и Минни с весёлым криком отпрыгнули в разные стороны, потянув за собой бархатный занавес на стене, за которым открылось бесконечное зелёное поле. По полю шли одинаково белозубые китайские парень и девушка, и, осеняя путь молодых людей, над их головами парил тюбик зубной пасты "Darlie". Парень с девушкой, улыбаясь и держась за руки, сошли с поля в гостиную и начали рассказывать Ленни про улучшенную защиту дёсен (вокруг девушки летали иероглифы «Здоровые дёсны», «Свежее дыхание», «Вкус зелёного чая») . Девушку можно оставить, а парень, извини, чувак, ты тут не нужен, — подумал Ленни. Был бы здесь Кей-Эф, ты бы подошёл ему, а мне нравишься ты, белозубая крошка. Ты, наверное, так не бухаешь как Сюй Юань, циньайдэ*, мысленно спросил Ленни девушку, которая сейчас, улыбаясь и добрым взглядом глядя на Ленни, выдавливала пасту на щётку. Конечно, у вас там вообще никто не бухает, у вас же есть зубная паста. Ленни нехотя протянул руку, нащупал на полу бонг и зажигалку, поднёс к губам, глубоко затянулся и закашлялся. Микки Маус человек, думал Ленни, Микки Маус человек, зубная паста человек, девушка человек, утята люди, а я утёнок. Я не чувствую лапок, думал Ленни, я не чувствую лапок, потому что мои лапки продаются на рынке по весу, они жареные, их можно класть в суп. Я зубная паста, меня выдавливают на щётку, чтобы защитить зубы и дёсны. Ленни попробовал пошевелить пальцами ног. Это получилось, но Ленни не был уверен, что это получится ещё раз. Хорошо быть придуманным, думал Ленни, здорово быть ненастоящим, как мультяшка. В Микки Мауса ещё хоть кто-то верит, а в него? Разве что он сам, но может ли субъект веры быть её же объектом? А если не может, то значит, что и бога нет. Кажется, после этой мысли были ещё какие-то, но они скрылись в поглотившем Ленни вязком тумане глубокого и тяжёлого сна. ... Первым удивлением Ленни при пробуждении был даже не вид незваных гостей, а неприятное ощущение чего-то холодного и мокрого под собой. Ленни, морщась от гудящего в глазу сигнала видеофона, разлепил глаза и откинул полу халата. — Цао, всё-таки обоссался… — простонал Ленни, разглядывая мокрый халат. Ленни подключился к системе видеонаблюдения и некоторое время, пытаясь сообразить, что к чему, озадаченно наблюдал, как через его дом, минуя все защитные ограничения, проходят незнакомые люди. А потом со стоном вывалился боком с пуфа и упал на пол, придавив собой робота-уборщика, терпеливо ожидающего, пока хозяин ещё где-нибудь намусорит. — Щас!!! — поднимаясь на четвереньки, во всё горло крикнул Ленни, рассчитывая, что гости, расположившиеся в гостиной этажом ниже, его услышат. Ленни оглянулся по сторонам и увидел стоящий на тумбочке рядом с кроватью бокал для шампанского, который, видимо, оставил здесь Кей-Эф. Если уж начал день с уринотерапии, ей и продолжим, подумал Ленни, кое-как поднялся на ноги, сбросил халат и, оставшись в чём мать родила, на негнущихся ногах прошёл к кровати, снова запнувшись о робота-уборщика. Ленни взял бокал в одну руку, пенис в другую и принялся ссать в бокал. Мочи было больше, чем требовалось, и остаток Ленни нассал прямо на пол, куда отлил и избыток из переполненного стакана. Робот приберёт. — Иду!!! — крикнул Ленни ещё раз, подобрал с пола у пуфа тёмные очки и водрузил их себе на нос. Ну вот, кажется, готов, — сказал себе Ленни, пригладил пятернёй волосы и пошёл к лестнице встречать гостей. Да-да, именно в таком виде — голый как греческая статуя, в тёмных очках и с бокалом мочи в руке.
-
Ленни попробовал пошевелить пальцами ног. Это получилось, но Ленни не был уверен, что это получится ещё раз.
Когда мне бывает грустно, я перечитываю эту ветку)))).
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Действительно очень неожиданный поворот!
|
19.07.1906 8:96
Нижний Новгород, Кунавино,
Московский вокзал
+24 °С, безоблачно, лёгкий ветерВсю ночь чугунно гремело и в беспокойной дорожной полудрёме мотало в храпящей, сквозящей ночным ветром из приоткрытых окон тьме, пробегали в окне тёмные космы деревьев, в молочном тумане слепяще возникали и пропадали яркие огни, быстро скользнув тенями по внутренности вагона, на неживым светом залитых станциях сквозь мутно подкатывающий сон скребли голоса, кого-то спрашивавшие, торопившие, с грохотом тащили нагруженные тюками тележки, хлопали двери, трещали звонки; потом вагон снова конвульсивно дёргался, паровоз взвывал, набирал ход, бросая вдоль окон искры, поезд раскачивался и нарастающе гремел… а потом, когда Анчар наконец проснулся, было уже яркое солнечное утро — холодный и свеже отдающий гарью ветер бил в опущенное до упора окно, слепило солнце, отчаянно болела затёкшая на валике шея, а поезд уже мерно чухал мимо каких-то длинных краснокирпичных корпусов, товарных складов. Видимо, это уже был Нижний. — Генау, генау, точно так, — в ответ на вопрос согласно закивал попутчик Анчара, жовиальный господин с подкрученными усиками, уже нетерпеливо вертевший в руках квитанцию из багажного вагона. Во избежание излишних разговоров Анчар общался с ним на немецком, который господинчик знал паршиво, — это, впрочем, не помешало ему прошлым вечером, ещё Подмосковье не проехавши, обстоятельно изложить сербскому гостю свои взгляды на международную политику, Боснию, Австрию и отважных черногорцев. — Ну, ауфвидерзейн, не знаю, как у вас по-сербски сказать, — попрощался попутчик, поднимаясь с кресла и учтиво поднимая шляпу. — Эс лебе, как говорится, ди руссише-зербише брюдершафт! Дождавшись, пока господин, а вслед за ним и другие пассажиры вагона первого класса пройдут, поднялся с места и Анчар. Он сразу заметил Лёвина, сойдя с приступки вагона, — они ехали одним поездом, но в разных классах: Лёвин во втором, а Анчар — в первом, в канареечного цвета вагоне, в бархатном полураскладном кресле с большим мягким валиком под шею. Сомнительным удовольствием было отдать семь с полтиной рублей за четыреста вёрст в компании патриотически настроенного господина с подсвистывающим храпом, но делать было нечего — с иностранным паспортом и полным динамита чемоданом в багажной сетке над головой безопаснее всего было ехать первым классом. Сейчас, на виду у железнодорожных жандармов и носильщиков, они договорились не сходиться, направиться каждый своей дорогой, а встретиться позже, в 12 часов, у памятника Александру II — его, Лёвин помнил из газет, как раз недавно установили на центральной площади Нижнего. Лёвин, свободный в своих действиях до полудня, не оборачиваясь, направился к выходу из вокзала, а Анчар с чемоданом в одной руке и газетой «Московские ведомости» в другой остановился на перроне, выискивая в гомонящей толпе вываливших из поезда пассажиров, встречающих, носильщиков, кондукторов, человека, с которым ему было указано встретиться. Всю прошедшую от разговора в трактире на Сухаревке до сего дня неделю Анчар ждал ответа от Керенского, который должен был связаться со своими людьми в Поволжье, а те, в свою очередь, с местным боевым отрядом. Система связи была мудрёная, медленная, и вот лишь позавчера Керенский передал Анчару сообщение: Выезжайте нижний почтовым 18 июля зпт приезде держите руках московские ведомости А Елизавета Михайловна получила телеграмму от Набрекова и вовсе вчера, и если, уставшая после вчерашней поездки, не зашла бы на почтамт, так и приехал бы из Москвы незнакомец с динамитом, никого на вокзале не встретив. Но вообще три дня с открытия Ярмарки Елизавета Михайловна провела с пользой. Съездила в Круглово посмотреть дачу — и уже по пути, ожидая дачный пароходик в Бор, поняла, что Круглово будет плохим выбором: вообще любые дачи на левом берегу Волги плохи тем, что в город от них можно добраться только пароходом: в любом случае придётся торчать на пристанях, на виду у матросов, служащих, городовых, дачников, местных шпиков, если и тут такие шныряют. Приметно, плохо. А если на Волге поднимется буря, и низкобортные дачные пароходики не пойдут в рейсы, и придётся пропустить нужный момент? Да, впрочем, и дача в Круглове оказалась уже сдана. Зато неожиданно нашлась другая возможность — вниз по Волге, около большого села Кстово, располагалось замечательное по красоте пейзажа и двусмысленности названия урочище Великий Враг — широкая, покатым косогором спускающаяся к Волге котловина, действительно разросшийся вширь овраг, со склонами, пересечёнными пыльными дорогами, с бурыми известняковыми обрывами, шапками березовых рощ, борами и широченным, на бесконечные просторы вокруг раскинувшимся видом. Неудивительно, что такое живописное место было издавна обжито: здесь была старая дворянская усадьба, ранее тонувшая в небрежении, с запущенным садом, ушлым управляющим и пьянчугами-сторожами, ожидавшими своего редко появлявшегося, не любившего это имение хозяина. Но лет пятнадцать назад усадьбу купил нижегородский хлебопромышленник-миллионщик Матвей Башкиров, владелец пристаней и пароходов. Земли у реки он рационально поделил на участки и возвёл на них несколько роскошных дач, а в перестроенной и подновлённой усадьбе устроился сам, фраппируя окружающих обыкновением иногда зачем-то поднимать над усадьбой американский флаг. Башкировские двухэтажные модерновые дачи на каменном фундаменте, конечно, Елизавете Михайловне не годились, да и не было денег их нанимать; но место стало популярно, и уже без участия Башкирова рядом появились другие, выстроенные местными дачи. Одну такую она и присмотрела — свежерубленый, ещё не почерневший, остро пахнущий горячим жёлтым деревом дом, — ещё не «господская дача», как у Башкировых, уже не крестьянская изба: сруб, с незастекленной верандой с венскими стульями, столом и самоваром, с гостиной с ткаными половицами, плюшевым диваном, барометром в тяжёлой тусклой медной оправе на стене, кубоватым чёрно-лаковым трюмо со старым, тёмным как омут зеркалом и широкими окнами в заросший лопухами сад. Тесноватая, прохладная и тёмная спальня с иконами в красном углу, панцирной кроватью с мягкими пуховыми перинами, ученическим столом и венским стулом. По крутой лесенке из гостиной — совсем пустое чердачное помещение с одним маленьким врезанным в крышу слуховым окном-кукушкой и паутиной по углам. Вместо русской печи в разделяющую зал от спальни стену врезана покрытая кафелем печка с железной плитой сверху. Сдаёт хозяин кстовской потребиловки — ему принадлежат три одинаковые в рядок стоящие дачи, выстроенные вот только в прошлом году: но что в прошлом, что в этом, говорит Прокофий Савельич, всё плохо нанимают: это леворуция, чтоб этим студентам пусто было, виновата. Он уж, Прокофий Савельич, и цену сбил до невозможности — ну пятнадцать рублёв в месяц, ведь это ж божеская цена. А за шесть гривен в неделю доплаты приказчик из лавки будет каждое утро молоко приносить, а также, по прейскуранту, чего изволите из лавочного товара. Прейскурант — вот он, на стене в рамочке. Видите, тут и табак, и чай, и сахар и керосин: любой каприз, и самим за покупками ходить не надо. А ежели в город соберётесь, то вот, отсюда по дорожке мимо дач и вниз к Волге, там пристань, пароход пять раз в день туда-обратно ходит. Или можно по другой дороге через лесок до Кстова, там на площади весь день извозчики стоят. Так что, рядимся? И вот, пробегав два дня по дачным окрестностям, Елизавета Михайловна чуть не забыла заходить на почтамт, проверять телеграммы до востребования. Вчера, разморенная от июльской жары, в пыли тридцативёрстной дороги от Кстова до Нижнего, вернулась она в город, чуть не забыв, зашла на почтамт — и получила телеграмму: 19 июля почтовым москвы везут подарок руках московские ведомости И вот сейчас она стоит на перроне, высматривает нужного человека.
|
18:50 12.07.1906
Москва, Сухаревская площадь— Что значит, «а ты зачем с этим связался»? Ты просто представить не можешь, что творилось у нас в Питере в ноябре, — распалившийся и покрасневший от пива и духоты, говорил, наклонившись через стол, собеседник Черехова — франтовато одетый гладко выбритый молодой человек с жёстким коротким бобриком на голове. — Город бурлит, на каждом заводе боевые дружины, стачка за стачкой, войска ненадёжные, типографии работают на полную катушку, круглыми сутками, листовки расклеивать не успеваем, складывать некуда! Был у нас Совет рабочих депутатов, верховодил там такой Троцкий, — собеседник сделал быстрый вопросительный жест: слышал, мол, о таком? Черехов отрицательно покачал головой, — это псевдоним, конечно, как настоящая фамилия, не знаю. Эсдек, но парень толковый, энергичный. Настоящий якобинец, вот с ним кашу заварить можно! Идея была — поднять всеобщую вооружённую стачку разом с москвичами. Уж на что я не военный человек — и то раздобыл револьвер, собрал группу ребят из фабричных. Думал, сейчас заводы остановим, пойдём Васильевский остров поднимать: мосты захватим, караулы выставим, казаков разоружим, — и на Зимний приступом! Хорош бы я был, вообрази — на штурм с револьвером бегом через Дворцовую! Собеседник Черехова звонко расхохотался, громко хлопая ладонью по скатерти. Кажется, вся история сорванного петербургского восстания его изрядно веселила — рассказывал он, жадно захлёбываясь, упиваясь собственной лихостью, рисуясь. Александр Фёдорович Керенсккий вообще был такой — какая-то цирковая порывистость была в каждом его движении, бурлеск какой-то был в том, с каким легкомыслием он говорил о драматических вещах. Черехов познакомился с Керенским в прошлом году — тем летом он несколько раз переходил финскую границу: нелегально, с контрабандистами, светлой балтийской ночью с динамитом, потом несколько раз открыто, дачным поездом с чемоданом, набитым литературой. На российской стороне Черехов останавливался на даче в сосновом бору, которую снимал выпускник университета, молодой помощник присяжного поверенного Керенский. Последний раз виделись они в сентябре — Черехов уехал обратно в Швейцарию, чтобы к зиме вернуться в Москву, Керенский остался делать революцию в Питере. Сейчас же встретились они случайно: Черехов, только недавно вернувшийся в Москву, ранним туманным утром шёл по улице, и вдруг его звонко окликнули. — Ну, охранка сработала лихо, надо им отдать должное, — увлечённо продолжал свой рассказ Керенский, — за несколько дней до даты стачки, в конце ноября, пошла волна арестов. Испил и я чашу сию. Я конечно, на квартире хранил и револьвер, и листовки — это я только потом понял, как это глупо было! Хорошо ещё, хватило ума списки дружины не делать. Я, разумеется, никого не сдал, — как что-то само собой разумеющееся, вскользь заметил Керенский. — Зиму просидел в Крестах — весело было сидеть, чёрт возьми! В камерах один сплошной митинг, надзиратели не знают, что делать, как со всей нашей оравой после Манифеста поступать. Кто хотел — бежал, это элементарно было; но большинство даже бежать никуда не хотели — а зачем, собственно? Еду из ресторанов привозят, газеты, табак, что угодно. Общество — лучше не придумаешь, весь спектр мысли: от анархистов до сионистов. Тесновато, правда, но ничего, притерпелись — всё равно все камеры настежь открыты, к кому хочешь, к тому в гости и идёшь. Ну, после нового года уже построже стало, конечно… но тут-то меня и выпустили, выслали к семье в Ташкент. Я там несколько месяцев под саксаулами отдохнул — и вот, теперь еду назад в Питер. Остановился здесь пока недели на две… — Керенский глубоко вздохнул и артистичным жестом, откинувшись на спинку стула и далеко простерев руку, эффектно щёлкнул пальцами, подзывая полового. Они сидели в извозчичьем трактире у Сухаревой башни, где уговорились увидеться во время утренней встречи, — тогда поговорить не успели: Керенский куда-то очень спешил (он вообще всегда куда-то очень спешил). В полутёмной зале с низкими сводчатыми потолками пластами висел сизый дым, тускло бронзовела бахрома на бордовых портьерах, с непосредственной безыскусностью намалёваны были по стенам жирные цветочные узоры, пухлые лозы. Из соседнего зала надрывно дребезжала механическая оркестрина. За полукруглым окошком под потолком то и дело проходили сапоги, штиблеты, края юбок. Бойко гомонила, взрывалась хохотом зала: не одни лишь бородатые извозчики в лоснящихся кафтанах были тут, но и шумные студенты в толстовках и фуражках набекрень, прилично одетые горожане, а из одной стенной ниши сквозь русское многоголосье пробивалась и оживлённая английская речь каких-то клетчатых путешественников, решивших вкусить русской экзотики. Половой в замызганном фартуке ловко лавировал между выставленных в проход ног в блестящих сапогах, держа в руке поднос с чайником и жиром истекающими пирожками; за ним стремглав пробегали туда-сюда оборванные мальчишки на побегушках, отправляемые на улицу за папиросами или грушевым квасом. Было шумно, пахуче душно и очень уютно. Заняв столик в отдельной нише, говорить тут можно было громко, не боясь, — уже в паре шагов любые слова тонули в гомоне. Потонули в нём и отчаянные щелчки Керенского — половой пронёсся мимо выставленной в проход руки, безучастно скользнув взглядом по посетителю, и направился к громко подзывающим его извозчикам, красным от духоты и выпивки. — Вот и вся история, собственно, — продолжил Керенский, с удовольствием ослабляя галстук на белоснежном стоячем воротничке с франтовски загнутыми уголками. — Ну, лично у меня теперь со всем этим бомбизмом кончено. Не для меня это, вот что я понял… Другим теперь займусь чем-нибудь. Но есть у меня ещё хвосты в этом деле, есть… послушай, Анчар? — Керенский наклонился через стол, понизил голос, — я помню, ты в прошлом году динамит из Финляндии таскал? А сейчас… что? можешь достать? Вот что-что, а достать динамит Черехов мог с лёгкостью — достаточно было лишь отдать номерок в комнату хранения багажа на Николаевском вокзале, куда он несколько дней назад поместил чемодан с полпудом американского динамита в шашках. Этот динамит он привёз из Кракова для одной подмосковной бомбовой мастерской, куда и был по собственной просьбе направлен проводить террор, — но мастерскую накрыли, и сейчас Анчар сидел в Москве с бесполезным без взрывателей динамитом, без приказов и без представления, что делать дальше. Ни о чём этом Керенский, конечно, не знал. — Дело так обстоит, — не дождавшись ответа, продолжал Керенский тем же заговорщицки-деловым тоном, — пару дней назад мне телеграфировали с Волги, что там сейчас организуют новый боевой отряд. Они вроде как готовы метать бомбы, но динамита у них нет. Людей этих я не знаю, но знаю того, кто мне, собственно, телеграфировал, — в этом человеке я уверен, как в себе. И вот он меня сейчас очень просит как-то найти динамит, вот хоть сколько. А ещё вот что: у меня тут на примете есть ещё один человек, который ищет себе применение в терроре, — но у него нет ни динамита, ни нужных связей. Так что я его сегодня тоже сюда позвал, вот, — Керенский вытащил из жилетного кармашка часы на серебряной цепочке, с щелчком откинул крышку, взглянул, — ну да, к семи часам должен подойти, если не опоздает. За него я тоже ручаюсь, это мой старый знакомый.
-
Душевный получился Керенский, душевный)
|
— А? Что? — крикнул Кржижановский, оглушённый, кажется, звуком выстрелов, но быстро сообразил, что от него требуется, и кинул револьвер Анчару. Что стрелял, что кидал эсдек неточно — револьвер, кувыркаясь, пролетел мимо Черехова, так высоко, что поймать нельзя было, и по касательной упал на скос насыпи, оставив в снегу длинную полосу. Анчар кинулся в сугроб, разрыв руками, достал облепленный снегом наган, вскинулся — Семён грузно шёл к домику: скрючившись, зажимая лапой шею, разваливая снег перед собой, припадая на колено. Зачем шёл, куда хотел сбежать — не понимал, видимо, а просто обезумев от страха рвался прочь от убийц.
— Он же провокатор? Провокатор?! — кричал Кржижановский из-за спины, пока Черехов, обтирая оружие от снега, второй раз спускался, меся снег, с насыпи. Всё отчётливей проступала за метелью широкая спина, лохматая шапка, широкий бараний воротник. Когда Черехов был уже шагах в пятнадцати, Семён вдруг оглянулся, неестественно скосив и выгнув голову, и припустил было быстрее — но сил уже не хватило, ноги подкосились, что ли, и боком урядник рухнул в снег шагах в двадцати от крыльца.
Черехов уже поднимал револьвер, приближаясь, когда Семён с неясным глухим воплем перевернулся на спину, задом в глубокий сугроб и, наконец отняв руку от окровавленной шеи, судорожно полез за пазуху, распахнутыми чёрными глазами таращась на Черехова.
— Стой! Стой! — взвыл он, роясь за пазухой, но тут Черехов разрядил ему в грудь револьвер — сначала один раз, потом другой. Семён рухнул в снег.
Сзади хрустели торопливые шаги — Кржижановский бежал следом.
-
-
- I counted six shots, nigga.
- I counted two comrads, uryadnik.
|
11:03 15.07.1906
Ярмарка,
Набережная Бетанкуровского канала, номера «Волжско-камское подворье»,
+25 °С, ясноЭтот день начался для Шаховского рано. Вчера вечером он проехал с новоприбывшим подпольщиком на трамвае на Ярмарку, выделил новому знакомому пять рублей денег и подсказал гостиницу «Волжско-Камское подворье», где можно было снять номер за рубль с полтиной за ночь — для ярмарочной гостиницы в сезон цены ниже сложно было найти. Затем Георгий Евстигнеевич вернулся в свои «Московские номера» на Царской улице, поужинал и лёг спать, чтобы сегодня встать в восемь — нужно было, наконец, собрать вместе малочисленный отряд. Наскоро перекусив заказанными в номер пирожками и чаем из самовара, Шаховской вышел на светлую и широкую, ярко сверкающую солнечными бликами в окнах улицу. Утренняя прохлада ещё ощущалась в воздухе, ещё тянуло с Волги свежим холодком, но солнце уже жарко грело, поднимаясь из-за гор и рафинадных колоколен церквей на другой стороне Оки. Барометр стоял высоко, и чувствовалось, что день открытия Ярмарки будет по-июльски жарким. Несмотря на раннее утро, на Ярмарку уже стекался люд — шёл к Главному дому и часовне, близ которой стояли два флагштока, на которых в полдень должны были подняться государственный и ярмарочный флаги, отмечая открытие Ярмарки. В тени Главного дома нестройной беломундирной кучкой стояли музыканты военного оркестра с тускло блестящими медью трубами, в стороне, составив винтовки в пирамиды, кучковались солдаты сводного батальона, командированные для охраны Ярмарки. Душным ладаном несло из открытых дверей часовни, где перед иконой святого Макария толпился, истекая потом, народ со свечками. В настежь распахнутых окнах верхнего этажа Главного дома то и дело появлялись какие-то люди в мундирах, поглядывающие на происходящее снизу. Мимо направляющегося к трамвайной остановке Шаховского торопливо прошли два монаха в чёрных подрясниках, каждый из которых держал в охапке несколько смотанных вокруг древка вышитых золотом хоругвей — уже скоро от Староярмарочного собора должен был начаться крестный ход к Главному дому. Важно прохаживался по чисто выметенному асфальтовому тротуару толстый усатый городовой в блестящей скрипящей портупее, стоял, сверкая начищенной каской, пожарный на посту у гидранта, звонко и весело гремели по булыжной мостовой пока немногочисленные экипажи. Шаховской сел на пустой трамвай, пересёк по мосту загромождённую расшивами и баржами Оку, затем поднялся на элеваторе в Кремль и по пустой и пыльной, будто вымершей в этот праздничный день Варварской улице дошёл до тонущего в пёстрой шелестящей листве двухэтажного дома, где снимала квартиру Панафигина. Оттуда подпольщики уже вдвоём направились тем же маршрутом обратно на Ярмарку. На остановке трамвая на Софроновской площади собралась уже небольшая толпа, люди редким потоком уже и пешком шли к мосту, и было решено взять извозчика. Только тронулись — и тут же с ярмарочной стороны гулко, протяжно загудел колокол, ему ответил другой, звонкий и частый, к ним присоединился третий, четвёртый, и скоро жаркий воздух уже весь гремел и лился перезвоном с обоих берегов Оки. Это означало, что крестный ход тронулся. На площади перед Главным домом уже собралась толпа встречающих крестный ход — пока редкая, но всё прибывающая. Солдаты уже выстроились шпалерой к дверям часовни, военный оркестр занимал места на украшенном триколорами помосте, но центральное место для губернатора, председателя ярмарочного комитета и прочих чинов ещё пустовало. А ведь они тут все сегодня соберутся, — отметила для себя Елизавета Михайловна, — будет не только губернатор, но и вице-губернатор, и полицмейстер, и начальники сыскного и охранного отделений, и тюремных замков. И всех их можно будет рассмотреть в лицо и дать товарищам по отряду их запомнить. Но это будет ещё только через час, а пока ещё долго и медленно длинной толпой будет ходить по ярмарочным улицам крестный ход с тяжело висящими хоругвями, тёмными иконами в массивных окладах, с пузатыми попами, истекающими потом под тесными мундирами военными и простым людом, комкающим в руках картузы.  Фото сделано весной, в половодье. Другого не нашёл :( «Волжско-камское подворье» было не самой презентабельной гостиницей — старой, грязноватой, со скрипящими половицами и хамоватыми половыми, с рассохшимися косяками и замызганными обоями. Кроме того, и номер Макар Ильич выбрал себе что подешевле — и был поселен на верхний, четвёртый этаж, в маленькую, пеналом вытянутую комнатку с пружинной кроватью с тремя латунными шариками на спинках (четвёртого не было), письменным столом со стопкой дешёвой жёлтой бумаги и гранёным графином с отдающей ржавчиной водой, венским стулом и умывальником в углу. Впрочем, по сравнению с пропахшим мылом, дёгтем и прочей дрянью, шумным и грязным общежитием завода Крестовниковых и это был Версаль. Кроме того, и постояльцев пока было немного — на всём этаже он жил один, а вообще в сравнительно большой гостинице было занято не более десяти номеров. — Да пока нет никого, ярмарка только завтра открывается, — снисходительно ответил половой на вопрос Макара, почему так пусто, и насмешливо добавил, окинув Макара оценивающим взглядом, распространённым у проституток и лакеев, — а ресторан-с мы только завтра вечером открываем. Заходите, стерлядочки сурской отведайте-с… — отработанным жестом закинул себе на плечо полотенце и, оставив Макара у дверей номера, удалился. В общем, пришлось Макару ложиться спать голодным. Впрочем, бывшему солдату это было не впервой, и после недели, проведённых на железных палубах пароходов, Макар с удовольствием растянулся на застонавшей пружинами кровати и уснул крепким сном. Проснулся он уже поздно утром, и спал бы ещё и ещё — но сквозь сон просочились далёкие сначала, непонятно откуда взявшиеся колокольные удары и гремели, звенели, мелодично раскатывались, и первое время, разлепив глаза и глядя в потолок, Макар Ильич не мог ещё уяснить, где он и почему потолок так высоко, и какой это церковный праздник нынче. Наконец, встал, оглядел своё новое пристанище, сложенную на стуле одежду, сумку на полу. Ни в номере, ни у самого Макара Ильича не было часов, но судя по тому, что солнце стояло уже высоко, протянув по полу длинную трапецию растопленного света и до духоты нагрев пахнущий старым деревом и пылью воздух, уже близилось к полудню. Макар Ильич только успел одеться и умыться, как в дверь постучали.
-
-
Традиционно высокая детализация духа времени.
-
ОДин из нескольких обзорных постов, которые все можно плюсовать за красоту и живописность.
Меня лично порадовали вот эти два играющих друг с другом слова: "со скрипящими половицами и хамоватыми половыми". Ты как бы чувствуешь, как поскрипывают половые, неохотно разнося чай, а половицы издают звуки по-хамски бесцеремонно).
|
Подпольщики подоспели к Макарьевской часовне как раз к поднятию флагов — протодьякон Александро-Невского собора в тяжёлой тускло блестевшей золотом рясе уже заканчивал молебен, глубоким басом разнося многие лета царствующему дому, торжественно и важно махнул кропилом на спущенный ярмарочный флаг у основания полосатого флагштока. Затем протодьякон вместе с помощником, несшим за ним чашу со святой водой, пыхтя перешёл к другому флагштоку, где стоявший навытяжку солдат держал государственный флаг. Из распахнутых как зёв топки дверей часовни протяжно гудел хор, оркестр же пока молчал. Ласковый ветерок, задувавший с волжского простора на палубу «Пушкина», досюда, кажется, то ли не долетал, а то ли перестал. Волнами плыл жаркий воздух над полной народом площадью, мелко трепетали веера, поднимались над головами дам белые бахромистые зонтики, пот тёк по шеям под жёсткие, режущие крахмальные воротники горожан, раскрасневшиеся, с выражением тупого страдания стояли шпалерой по обе стороны часовни солдаты сводного батальона. Губернатор, вице, градоначальник, члены ярмарочного комитета, архиереи толпились сверкающей золотом и серебром кучкой на устланном красным сукном подмосте, и во взгляде Фредерикса чувствовалось то же сдерживаемое нетерпение окончания долгого, монотонного, скучнейшего молебна, этой непонятной большинству и неприятной всем церемонии. От жары страдали все: и стоически изнемогающий Фредерикс, и промакивающий платочком красную шею Бирюков, и Левицкий, щурившийся от попадающего в глаза со лба пота, и протодьякон в своей тяжелой и душной как пуховое одеяло ризе, который и рад был бы быстрей покончить со всем этим и вместе с остальными отправиться на торжественный завтрак в Гербовый зал Главного дома, где ждут уже всех на белых скатертях и запотевшее шампанское в ведёрках, и освежающий лафит из погреба, и замороженные фрукты, и паюсная икра на колотом льду, и все те прочие вещи, о которых невозможно прекратить думать, тягостно ожидая поднятия флагов: и никто не мог поторопить протодьякона, и сам протодьякон не мог быстрее делать положенные вещи, и продолжал он медленно, распевно, невыразительно произносить полупонятные слова, опускать кропило в чашу с водой, выученным плавным движением веером разбрызгивать сверкающие капли. Наконец, окроплён был и государственный флаг; протодьякон с помощником отошли к паперти часовни, Фредерикс облегчённо поднял руку в лайковой перчатке, и флаги с обеих сторон часовни поползли вверх по увенчанным двухглавыми орлами полосатым флагштокам. Бирюков и Левицкий прекратили перешёптываться; все, кажется, и о жаре позабыв на мгновение, обернулись на флаги, все смотрели, как медленно ползут они вверх. Смотрели с мачт стоявших на Оке судов, смотрели из окон Главного дома, глядели, прикладывая ладонь козырьком, облепившие деревья мальчишки, во весь рост поднявшись на передках своих колясок, наблюдали за поднятием флагов стоявшие за толпой извозчики. Подъём флагов был не только важной ярмарочной церемонией, но и стародавней приметой, по которой торговый люд, а вместе с ним и остальные, определяли, какова ярмарка будет в этом году: если оба флага, поднявшись, свиснут без движения — ярмарке быть плохой, небойкой, невыгодной для всех; но если в короткое время после подъёма налетит-таки ветер и взметнёт флаги, значение имело, в какую сторону их потянет: если к Оке, в сторону города — прибыли ждать в первую очередь нижегородским купцам, а значит, и ярмарка будет прибыльной, но деловой, спокойной, а если к Главному дому, барыши получат московские и рыбинские купцы — а это означает, быть ярмарке разгульной, пьяной. Оба флага, безвольно вися в недвижном горячем воздухе, медленно ползли вверх, медленно вслед за ними поднимались взгляды собравшихся, приставили музыканты оркестра губы к мундштукам, готовясь уже грянуть, — и тут произошло странное: левый, ярмарочный флаг всё полз и полз вверх, а правый, государственный, вдруг остановился на полпути. Солдат у флагштока пробовал крутить ручку, но что-то не поддавалось, заело что-то в механизме; солдат взялся за тросик, потянул его, подёргал, сильней подёргал — но триколор вверх не шёл. Ярмарочный флаг уже поднялся до полной высоты, слабо трепетнув, развернулся, но никто и не заметил, в какую сторону, — все смотрели на замерший на полпути триколор. По толпе разнёсся глухой шёпот. Музыканты оркестра с мундштуками у губ по-бараньи глядели на капельмейстера; капельмейстер, уже готовый взмахнуть руками, вопросительно обернулся к начальству; Бирюков наклонился к Левицкому, тот оглянулся на Фредерикса. Фредерикс, не меняя выражения, глядел на флаг застывшим взглядом, будто пытаясь сдвинуть его усилием мысли. Солдат у флагштока, не зная, что делать, беспомощно дёргал за тросик. Долгие, бесконечно долгие секунды это продолжалось, пока наконец, губернатор медленно не обернулся к застывшему в священном ужасе капельмейстеру и не кивнул нервно. Капельмейстер тут же пришёл в движение как пружинный болванчик: энергично взмахнул руками, оркестр с готовностью заунывно грянул «Коль славен», и в один момент всё будто разрядилось, будто снова пошло замершее было на минуту время, — толпа нестройно, но бойко, с облегчением трижды разразилась «Ура!», вслед за ярмарочным поползли вверг флаги на мачтах окских судов, в пустое пространство внутри шпалеры солдат шумно потекли со всех сторон собирающиеся участвовать в продолжении крестного хода обратно к Староярмарочному собору люди, поднялись над толпой золотые хоругви. Потянулись вниз с помоста, друг друга пропуская, и высокие чины: спустился по лестнице Фредерикс вместе с председателем ярмарочного комитета Калашниковым, за ним хмурый Бирюков. Чуть задержался на помосте Левицкий, важно оглядывая толпу: задержал за рукав какого-то штатского чиновника, по виду — особых поручений, показал на злосчастный флагшток. А у флагштока тем временем уж собралась небольшая кучка — офицеры в белых мундирах, городовой, какой-то по виду купец, видимо из ярмарочного комитета — и только сейчас в группке собравшихся под флагштоком вновь показался растворившийся было в толпе ротмистр Трещенков. Какой-то незнакомый пехотный офицер дёргал заклинившую ручку механизма, другой расспрашивал побелевшего от ужаса поднимавшего флаг солдата: Трещенков обратился к этому офицеру, деликатно остранил его и сам начал расспрашивать о чём-то несчастного солдата, по рыбьи пучившего глаза.
-
-
чувствовалось то же сдерживаемое нетерпение окончания долгого, монотонного, скучнейшего молебна, этой непонятной большинству и неприятной всем церемонии
и
протодьякон в своей тяжелой и душной как пуховое одеяло ризе, который и рад был бы быстрей покончить со всем этим и вместе с остальными отправиться на торжественный завтрак в Гербовый зал Главного дома, где ждут уже всех на белых скатертях и запотевшее шампанское в ведёрках, и освежающий лафит из погреба, и замороженные фрукты, и паюсная икра на колотом льду, и все те прочие вещи, о которых невозможно прекратить думать, тягостно ожидая поднятия флагов: и никто не мог поторопить протодьякона, и сам протодьякон не мог быстрее делать положенные вещи, и продолжал он медленно, распевно, невыразительно произносить полупонятные слова, опускать кропило в чашу с водой, выученным плавным движением веером разбрызгивать сверкающие капли.
я прям это увидел, прям прочувствовал.
прям эх
|
Черехов отвечал, а Семён медленно обернулся в полоборота к пыльной деревянной полке с тёмной каплей видневшейся в полумраке керосиновой лампой, медленно провёл пальцем по стеклу, собирая пыль, и обернулся.
Что-то дикое, совсем не полицейское, а наоборот, разбойничье показалось сейчас в лице Семёна, в глазах его под кустистыми бровями и мохнатой шапкой, в напряжённом полуобороте медвежьей фигуры в тяжёлом, грязной овчиной воротника белеющем тулупе. Насмешливая улыбка спала с лица: упорная работа мысли показалась во взгляде урядника, пока Черехов говорил: Семён отчаянно пытался разобраться в перекрёстной паутине лжи, которой свой затерянный в лесах алзамайский микрокосм оплели он и Шинкевич — два никчёмных, трусливых, злых и лживых человека, отчаянно ненавидящие, презирающие и боящиеся друг друга. Да, именно страх сейчас проскользнул во взгляде Семёна, страх непонятной, не описанной в уставах и уложениях, преступной власти, которой обладал Шинкевич, странной силы жалкого человечка, вряд ли умеющего с размаху дать по зубам, но способного уговорить других — Черехова, Сикорского, писаря Меркула, десятских — пойти на преступление: обмануть Семёна, наврать ему, а то и завести, скажем, ненавистного, пьяного, нелюбимого всеми в Алзамае урядника в тайгу, чтобы там окружить и прикончить.
— О как оно! — вдруг прежним, с глуминкой, тоном воскликнул Семён, косо ощерившись. — Да тебе, я чай, медаль выдать надобно! Ишь как помог! Это славно ты мне помог: мне помощники нужны! Что теперь, спрашиваешь? А теперь, Лёшка, будешь ты мне помощник! Так-то!
Жутковато выл ветер за бревенчатой стеной, мелко постукивали ставни о раму, ледяной порыв занёс в сенцы пригорошню снега через распахнутую входную дверь. Вдруг однообразный свист ветра гулко прорезал паровозный гудок.
— Слышь, — поднял руку в рукавице Семён. — Зовёт. Пошли, пошли. Здесь чего делать? Вот до станции доедем, отпустим говоруна этого, а там решим, как с Лёвкой поступать. Никуда он всё одно не делся. Да и не денется…
Семён повернулся и грузно вышел наружу.
-
По-таежному зловеще).
Угрюм река во все поля))).
|
-
Первые три строчки — пост БигБосса с армянского ДМ 3 звёздочки.
Поржал)))
|
— Да какой же вы социал-демократ? — рассмеялся Кржижановский. — Вы народник и есть, как по статьям Михайловского*, не к ночи будь помянут, шпарите! Герой с бомбой, толпа, идол, идеал! Метафизика и астрология это всё! Вот вы рассуждаете о массах, о роли личности, об обществе — а есть у вас научная теория общества? Современной общественной формации, политических, экономических внутри неё отношений? Нет, конечно! Вот вы говорите, личность, личность, — ведь вы априорно придаёте личности с бомбой в руке такую ценность, какую хотите, чтоб она имела! Так сказать, принимаете её как догму и строите на этом свою теорию. Но это ведь антинаучный, религиозный подход! А мы, марксисты, — материалисты, и в сказки, сколь угодно прекрасные, верить не привыкли. Но я, впрочем, не возражаю — и бомба, и пуля, если они в кого надо летят, — это славно. Но без поддержки масс, если массы не готовы воспринять ваш призыв на борьбу, ваш пример, — что это? А вот что, — и Кржижановский дёрнул за свисающую с потолка бечёвку, пустил короткий вопль свистка.
— Пар в свисток! Знаете, есть один человек такой, Николай Ленин, вот у него дельная брошюра была на эту тему. Русский «Анти-Дюринг», студенты до дыр зачитывают. Вам бы ознакомиться, вот там всё по полочкам… Да только тут её разве достанешь, мда-с…
Семён в продолжение диалога стоял столбом у окна, положив руки в карманы и настороженно, непонимающе переводя взгляд с Алексея на машиниста и обратно. Кажется, он за потоком умных слов совсем потерял нить разговора.
-
За Николая Ленина, "Анти-Дюринга" и ехидный марксизм.
-
— Да какой же вы социал-демократ? — рассмеялся Кржижановский. — Вы народник и есть, как по статьям Михайловского*, не к ночи будь помянут, шпарите!
Срезал!)
|
- Кто? - спрашивает будничным тоном. Играют желваки.— Свои, — глухо донеслось из-за двери. Макар Ильич осторожно отворил. За дверью стоял вчерашний проводивший его до гостиницы знакомый. Поздоровались. Шаховской сообщил, что организатор группы ждёт на пароходе и предложил, не мешкая, туда и отправиться. Так и поступили. Спустившись в вестибюль «Волжско-камского подворья», Макар Ильич отметил, что на большой доске рядом со стойкой портье напротив номера его комнаты уже выведено мелом — «Макаръ Ильинъ Насыровъ»: имя пришлось сообщить вчера вечером при заселении. На вопрос, зачем это нужно, портье тогда скучающе ответил: «Правила в этом году такие… Все имена должны быть записаны» — и кивнул на доску, почти ещё пустую. На вопрос Макара Ильича, так ли это во всех гостиницах, Шаховской подтвердил, что да, и у него в номерах так же — только вместо общей доски на дверях каждого номера висят отдельные. Вестибюль тем временем был пылен и пуст — настежь были распахнуты входные двери, через которые задувал тёплый пыльный ветерок, солнце ярко и косо сквозило через высокие вымытые окна, пустовали продавленные кожаные диваны вдоль стен. Казалось, вся гостиница вымерла — заперты были двери в подсобные помещения, широкие двустворчатые двери ресторана, гулко отдавались шаги по паркету. Видно, все пошли на открытие Ярмарки. Пусто было и на широкой улице, куда подпольщики вышли — закрыты ещё ставнями были лавки, не было ни газетчиков на углах, ни разносчиков папирос и галантерейной мелочёвки, ни мороженщиков с бадьями на телегах, ни праздношатающегося люда — только в одну лавку, где, видимо, не успели вовремя разобрать товар, работники под присмотром приказчика в жилетке заносили тюки из сваленной на тротуаре кучи. А вокруг в воздухе гремело и звенело — колокола всё били, колотили, надрывались, будто отчаянно пытаясь заставить людей радоваться, веселиться, поверить, что всё по-старому, что всё как десять, двадцать, сто лет назад. Шаховской и Насыров по пустым улицам обошли столпотворение у Главного дома и часовни и вышли на пристань, где сейчас стояли два парохода — здоровенная, в половину пристани вытянувшаяся «Марианна» пермского общества братьев Каменских и лилипутом казавшийся на её фоне краснобортый самолётовский «Пушкин». Как и другие пароходы общества «Самолёт», «Пушкин» не отличался ни размерами, ни роскошью, — «Самолёты» знамениты были в первую очередь своей скоростью. Пароходы у них были все такие — заграничной постройки, небольшие, шустрые, управляемые по-разински отчаянными капитанами, которых собирали по всей Волге — с Керженца, с казанского Услона, с самарской Луки, а то переманивали и из военного флота. Эти могли пароход и посадить на мель, обходя конкурента на самом полном, и столкнуть в тумане с нагруженной лесом беляной, а лет двадцать назад даже умудрились спалить один вместе с пассажирами на борту, — но уж если привозили без происшествий, то на час-другой раньше, чем конкурирующие общества. Неудивительно поэтому, что респектабельные путешественники «Самолётов» сторонились, зато вечно спешащие коммивояжёры, всякий торговый люд предпочитали именно их. И рестораны на «Самолётах» поэтому были соответствующие: недорогие, без изысков вроде телятины маренго или котлет марешаль из дичи, по рублю с лишним за порцию, — но сытный бифштекс, стерляжью уху, ботвинью или баранье рагу здесь всегда можно было найти, и за умеренную цену. Елизавета Михайловна поднялась по сходням на борт, прошла в ресторан на верхней палубе. В тёмном пустом салоне её встретил лакей-татарин, щекастый и бритый, и сообщил, что тут столики пока не накрыты, и предложил пройти на палубу. Елизавета Михайловна вышла на белую, блестящую начищенной медью и латунью площадку под навесом на носу судна, уселась за покрытый белоснежной скатертью столик. Оказалось, она была не одна — через пару пустых столиков от неё сидела пара человек, по виду купцов не самых строгих православных нравов, — несмотря на ранний час, перед ними в окружении тарелок и блюдец уже стоял полупустой посверкивающий на солнце графинчик. Заказав и вскоре получив порцию кофе с белыми сухарями*, Елизавета Михайловна прислушалась к громкому разговору купцов, не обративших на новую посетительницу внимания. — Он мне, стало быть, деньги-то выдаёт, — захлёбываясь восторгом, жестикулируя, рассказывал один — равного с Панафигиной возраста, одетый дорого, по-новому, как сейчас полюбили купцы: в кремовом костюме с отложным воротничком, соломенной шляпой-канотье на коленке, — начал, стало быть, вексель оформлять. Так я гляжу, у меня аж глаза повылазили! Я стою и аж вот весь потом изошёл, лишь бы виду не показать, лишь бы тот не заметил! — Что, сумму не ту вписал? — хмуро поинтерсовался второй, лет сорока, с выдающимся брюшком с золотой цепочкой, в сапогах. — Да нет, Бог с тобой, — счастливо откинулся на стуле первый, — чтоб наш-то Фёдор Игнатьич неправильно сумму вписал? Он из ума-то ещё не выжил, у него ум поострей нашего с тобой, брат Фома. Ум-то острый, а вот глазенапы, — хитро прищурился он, — не те уже, ой не те! У него там в бюро, — наклонился он к собеседнику, — стопка вексельных бланков разного достоинства. Ну знаешь, на пятьдесят рублей герб, на сто рублей герб, на тысячу, на пять тысяч. И вот он берёт — и пишет мне вексель на три тысячи на тысячном бланке! А такой вексель, брат Фома, ни один банк не перекупит и ни один нотариус его не протестует! Погорел наш Фёдор Игнатьич, погорел на три тысячи только что! — говоривший захохотал, хлопнул ладонью по скатерти — шляпа слетела с колена, но тут же была проворно подхвачена. Брат Фома, однако, радости по поводу неверно оформленного векселя не разделял. — Фёдор Игнатьич староват стал, — степенно сказал он, цепляя вилкой прозрачный розовый кусок балыка, — это так. А ты по векселю всё ж уплати, как срок придёт. — Что это я буду платить? — возмутился векселедатель. — Не я ошибся, он ошибся! — Он у тебя вексель без поручительства взял? — подозрительно спросил брат Фома. — Ну… — непонимающе ответил его собеседник. — Так ему что эти три тысячи-то? Он и не подумал поручителей требовать! — То-то и ну… — нравоучительно протянул брат Фома, положил толстую руку приятелю на плечо и, оглянувшись на Елизавету Михайловну, понизил голос и с видом познавшего жизнь мудреца принялся что-то объяснять. Елизавета Михайловна перевела взгляд с купцов на открывающуюся с высоты второй палубы панораму Ярмарки — белёные с широкими зелёными воротами пакгаузы у пристани, на выглядывающий из-за них яичного цвета шатёр собора, на разномастное скопление домов ещё дальше — двух-, трёхэтажных, красных, белых, завешанных кричащей рекламой, крытых белой или уже рыжей жестью, и две встающие над крышами тростинки — пустые пока флагштоки перед Главным домом. Колокола всё звенели, уже размеренней, монотонней, будто уставая. Пуста была пристань, задувал ветерок, трепля края скатерти. Через опущенные окна можно было видеть, как внутри ходит по пустому, очень тёмному в ярком полуденном свете салону лакей-татарин, с хлопком расправляя и ловко накрывая столы свежими скатертями, со стуком расставляя стулья. Вдруг дверь салона отворилась, и внутри появились двое — Шаховской и вчерашний солдат с пристани. Татарин остановился, отложил скатерть и направился к посетителям. — Чем могу служить-с? — обратился он к вошедшим, медленно и демонстративно окинув взглядом Макара Ильича — картуз, расстёгнутую тужурку, подпоясанную белую рубаху.
-
Про самолеты очень интересно было. И разговор купцов просто суперский))). Атмосферно).
|
Услышав имя Сикорского, Семён оживился, блеснул глазами. Похоже было, что Черехов поднял давно волновавшую Семёна тему.
— Пал Алексеич правильно живёт, это точно, — согласно подтвердил Семён. — И вот тоже сказать — вот может человек, коль захочет, жизнь-то переменить. Был — кто? Вор, смутьян! А стал справный мужик, хозяин на своей земле. И что, плохо живёт? У него уж в Крестьянском банке тысяч десять капиталу! Дом новый, молотилка американская стоит! Всё руками, руками и головой заработано! Неужто хуже, чем в Питере по чердакам мыкаться? Да был бы каждый в нашем Алзамае такой, как Сикорский, меня отсюда надо было бы вшивыми тряпками гнать: всё честно, чисто, по совести было бы без всякого урядника. Я Сикорскому жалованье вот отдал… — неожиданно глухо сказал Семён. — Чтоб не пропить. А как из запоя выйду, сказал, зайду и заберу, но чтоб впредь не отдавал! А то я уж тут стащил рублей с десять — сам не помню как, а в кассе нет: я, значит, стащил, кому ещё. Ну так вот, что ты думаешь? — вскинулся урядник. — Пришёл я давеча к нему на двор, пьяный вдрабадан, весь расхристанный, ноги заплетаются, тьфу, стыдно вспомнить! Отдавай мои деньги, говорю, саблей грожу. А он взял ружьё, не отдаёт! Запалю двор с четырёх концов, говорю! Не отдаёт. Я через забор лезу — он собак спустил. Вот какой человек… — Семён уважительно цокнул языком, взял бутыль и налил себе в стакан. Покрутил стакан в пальцах, но отставил и, облокотившись на стол, снова поднял взгляд на Черехова.
— А вот Лёвку взять. Это не человек, Лёша, это гнида, урод! Он же гнилой весь изнутри, трухлявый. Боится меня как огня, ненавидит, а в лицо сказать не может, лебезит всё. Дрожит как лист осиновый, а всё угодить пытается. А себя при этом лучше всех нас считает! Что вы, дескать, пни сибирские, живёте тут в лесу, мхом заросли! А а я вот за границей жил, по-немецки умею, вам не чета. И слова-то какие умные у него всё! Всех нас ненавидит, всю нашу жизнь презирает, а на словах — ах, гусский нагод, ах, гусское кгестьянство… — Семён издевательски изобразил картавый выговор Шинкевича и с отвращением скривился. — А дай ему власть, так он бы кровью землю залил, всё бы пожёг из мести одной, из ненависти, а сам бы на пепелище плясал. Он в уши сладко поёт, а только поверь такому — обманет, что меняла на базаре. И что ты думаешь, я его гноблю, что он жид? Да что ж я, дубина какая, чтоб не понимать, что и жиды разные бывают? Что ж он, виноват, что жидом родился? И я бы мог, и ты бы. Да был бы Сикорский жидом, а Лёвка русским-перерусским, так я бы всё одно деньги Сикорскому отдавал, а Лёвку бы гнобил. Потому что таких — надо гнобить! — рявкнул Семён. — Чтоб он осознал, какая он есть мразь, и либо всю гниль из себя вытравил и заново бы жизнь начал, как Сикорский, либо уж повод мне дал бы, чтоб его прикончить. Ох и дал же он мне сейчас повод! — злобно рыкнул Семён, взял стакан и одним махом опрокинул его. — Пойдём! — резко встав из-за стола, обратился он к Черехову. — Наливай себе на посошок, допивай и поедем Лёвку арестовывать! Я сани закладывать пошёл!
-
Офигенно!
Я прямо задумался о том, чтобы сейчас сдать Шинкевича и начать новую жизнь))).
-
|
 Завод на заднем плане Хреново работать на заводе братьев Крестовниковых. Едкий пар из котлов, вонь, брызги серной кислоты: выхаркиваешь лёгкие наружу за сорок копеек в день. Десять лет в мыловаренном цеху — считай, покойник. Руки в волдырях, глаза слезятся. И ничего ещё работать в цеху хозяйственного мыла, где наотмашь тесаком нарубают бурую мыльную глыбу на корявые бруски, честно вонючие; хуже в косметическом, от которого за версту тошнотворно несёт ландышем, лавандой, лабудой всякой, а мыло выходит из формочек кругленькое, чистенькое, красивенькое как блядский леденец. На казанский завод братьев Крестовниковых Макара Ильича занесло прошлой зимой, когда он при всеобщем попустительстве и бардаке бежал с красноярской гауптвахты, где содержался после владивостокского мятежа. Без копейки, в старой шинели, в разваливающихся сапогах он добрался на перекладных поездах до грязной, шумной, многоязыкой Казани. Надо было где-то работать, чтобы не сдохнуть от голоду, и вот Макар Ильич устроился к Крестовниковым. Там, на заводе, Макар Ильич и познакомился со студентом Зефировым. Двадцатидвухлетний студент, протоиерейский сын Михаил Зефиров снимал чердачную комнату в Суконной слободе — грязном рабочем районе близ мыловаренного завода. С него он выносил серную кислоту, на казённом пороховом заводе для него доставали динамит. На своей квартире Зефиров одну за другой мастерил бомбы, которые затем кому-то отдавал. Он пил много пива, безостановочно курил, не посещал занятий в университете и выглядел запущенно и жутко, бледный как мертвец. Макару Ильичу и ещё нескольким собиравшимся у него рабочим он рассказывал, что такое анархия. — Власти, — дико блеща глазами, откидывая длинные сальные волосы со лба, хрипло говорил Зефиров, — быть не должно вообще никакой! Потому что любая власть есть угнетение, любая собственность есть воровство. Вот земля — чьей ей быть? Помещичьей — понятно, нет. Крестьянам по наделу раздать? Кто посильней, закабалит тех, кто слабей: будут вместо помещиков кулаки. Государственной оставить? Так тебе, — обращался он к одному из слушателей, крестьянину-отходнику, — какое дело, кому за наём её платить, помещику, кулаку или государству? — Помещика хоть сжечь можно, — отвечал слушатель. — То-то, — зло усмехался Зефиров. — Вот говорят разные там, что государство можно сделать лучше, дескать. Как это понимать? А так, что сейчас наше государство — как телега перевёрнутая, которую народ тащит вверх колёсами. И, дескать, нужно её вниз колёсами поставить. Ну а тебе-то, быдлу тягловому, легче будет, если телега будет быстрей катить? Только стегать тебя хлеще станут… Несмотря на анархические взгляды, Зефиров за неимением единомышленников работал с эсерами, и вскоре через него Макар познакомился и с другими подпольщиками, собиравшимися в помещении популярной газеты «Волжский вестник», редактором-издателем которой была состоятельная дворянка и убеждённая эсерка Александра Знаменская — не первой молодости плотоядно поглядывавшая на Макара властная пучеглазая крупастая дамочка с шиньоном. Днём Знаменская строчила в газету социалистические передовицы, изобилующие выражениями вроде «вековые сосуны» и «паразиты-лежебоки», а по ночам в газетной типографии печатала листовки и брошюры — «Наши задачи», «По делам узнаете их», «К рабочим». Сначала Макару Ильичу наказали носить листовки на фабрику — он носил. Потом ему поручили отвезти чемодан с литературой в Симбирск — он отвёз. Потом, неделю назад, ему в первый раз доверили отвезти бомбу в Самару — он отвёз и её. А когда вернулся в Казань, узнал, что в «Волжский вестник» нагрянули жандармы, Знаменская арестована, а Зефиров пропал, оставив после себя пустую мастерскую. Знаменской было известно, где живёт и работает Макар, и тому ничего не оставалось, как, не возвращаясь в фабричное общежитие, поспешить к пристаням взять билет четвёртого класса в Симбирск — на проезд только до этого города и хватало последних семидесяти копеек в кармане. В чужом, незнакомом Симбирске Макар пошёл к единственному, кого знал в этом городе: студенту Пятницкому, которому весной возил литературу. Пятницкий принял Макара настороженно, запер у себя в комнате, а вскоре вернулся с тремя рабочего вида молчаливыми парнями, усадил Макара Ильича на стул в середине комнаты и стал допрашивать обо всём, что произошло в Казани и как так получилось, что всех арестовали, а Макара Ильича — нет. Неизвестно, чем бы кончилось, если бы на второй час допроса в дверь не постучали и в комнате не появился бы кудрявый козлобородый толстячок, однажды виденный Макаром Ильичом в редакции «Волжского вестника», — его звали Николай Васильевич, и похоже, что у революционеров он был кем-то вроде офицера: его ручательства хватило, чтобы Пятницкий извинился за недоверие и приветливо предложил папирос и бутербродов с колбасой. — Так что, отдали вы, значит, бомбу в Самаре? — живо спросил Николай Васильевич, когда Макар закончил рассказ о происшествиях последних дней. — Вот ведь досада! — с чувством хлопнул он себя по ляжке. — А я ведь как раз сейчас из Казани, следующим за вами пароходом, видимо, приехал. С Зефировым-то всё в порядке, сидит в надёжном месте, пиво хлещет. За вас ручался, кстати. Инструменты все унёс, самое главное, так что мастерскую восстановит — но сколько ж времени ещё пройдёт! А бомбы нужны, нужны сейчас… Но что ж делать, отдали и отдали — в Самаре тоже бомбы нужны. Что делать-то теперь собираетесь, товарищ Макар, а? Макар Ильич попросил назначить его на дело. Николай Васильевич согласно кивнул, положил Макару руку на плечо и сказал, что дело есть. И вот сейчас Макар сидел на палубе и наблюдал как разворачивается перед закладывающим дугу пароходом никогда прежде не виданный раскинувшийся на откосах и под откосами город, по пояс в тёмной в закатном солнце зелени. Солнце уже уходило на западе в реку и, не слепя, потемневшей искрой мелькало поочерёдно в окнах длинного, кубоватого красного здания под холмом у реки. У берега бесконечной вереницей протянулись пристани, и на дебаркадере той, к которой пароход, замедляясь, приближался, стоял важный приказчик пароходной конторы с планшеткой и часами, а у швартовочных тумб уже готовились принимать канаты загорелые работники. Дебаркадер с берегом соединяли два мостка: у одного собралась небольшая кучка встречающих, у другого, для пассажиров первого и второго классов, в рядок встали несколько извозчиков. Поодаль, у склада, среди сваленных в беспорядке ящиков и тюков, собравшись в кружок, курили грузчики. Последний раз издав короткий оглушительный гудок, пароход подвалил к дебаркадеру, швартовщики ловко приняли канаты, через тёмную бурлящую щель перекинули сходни, и народ из третьего и четвёртого классов повалил, толкаясь плечами и подымая над головой мешки, наружу, а по другим сходням резвой чёрной вереницей взбежали на борт ожидавшие на дебаркадере носильщики. В этот момент Елизавета Михайловна и Шаховской и подошли, наконец, к пристани.
-
Как книгу читаешь. С картинками)
|
Макар, спотыкаясь, бежал по неудобной, неровной мостовой Пекинской улицы: ноги подвёртывались, попадая на гладкие скосы булыжников, взмахивал сжатыми в кулак руками, удерживая равновесие, и остановился перевести дыхание у круглой афишной тумбы.
Упершись в рваный шершавый плакат пятернёй, сквозь переливчатый опиумный морок Макар Ильич с отстранённой тоской наблюдал, как улица постепенно заполняется безумцами, выполняющими неведомые действия. В паре шагов от тумбы остановился солдат в разодранной на горле гимнастёрке, высоко поднял винтовку с примкнутым штыком и оглушающе палил раз за разом, переводя прицел с одного окна на другое, и хрустальным дождём сыпались осколки на мостовую. По другой стороне улицы, прочь от набегающей толпы, пригибаясь и придерживая фуражку на голове, по-заячьи пробежал офицер в расстёгнутой шинели. Двое солдат вытащили из покинутой китайской лавки деревянный ящик, уселись на крыльцо, брали из ящика апельсины и, брызжа соком, рвали зубами корку. Напротив прислонившегося к тумбе Макара остановился матрос с бутылкой в руке, с белобрысой рожей потасканного херувимчика, безумно выкатил глаза, таращась на Макара, и надсаженным фальцетом заорал:
— Цусима! Цусима! Цусима-херосима! Цусима-херосима! — и, широко размахнувшись, запустил бутылку в застеклённую дверь табачной лавки, а где-то вдали уже толпой вытаскивали из подворотни надрывно верещавщего лаобаня.
Пошатываясь, натыкаясь на снующие фигуры, Макар вышел на перекрёсток и свернул на широкую улицу, круто спускающуюся к сверкающему, будто нависающему выше земли морю. С одной стороны вразнобой стреляли, отгоняя казачий патруль, с другой — громили магазин тканей, и со странным изумлением остановился в толпе прочих Макар, наблюдая, как из выломанного окна второго этажа, по пояс высунувшись, солдат размахивает прицепленным на палку широким отрезом чёрной материи. В странном круговороте Макара Ильича понесло дальше, от одного разграбляемого магазина к другому, а дальше — к канцелярии тюрьмы, куда повалила толпа в поисках неизвестно куда смывшегося офицерья.
Канцелярия, куда незнакомая с городом толпа прибыла, оказалась не тюремной, а Хабаровского пехотного полка, офицеров там не обнаружили, и со злости повыбрасывали бумаги из окон, расколошматили там всё и уселись было отдыхать — но кто-то нашёл в подвале бочку керосина, и с оголтелой яростью все принялись разливать керосин по вёдрам, расплёскивать по стенам, по полу, и едва успел Макар Ильич с другими выскочить из уже запылавшего здания. Первобытно ревела рассевшаяся на дворе, облепившая яблони и каменный забор толпа, наблюдая, как проваливаются деревянные перекрытия канцелярии и, разбрасывая искры, вырывается косматое пламя из окон.
Вечер Макар встретил в разгромленном зале ресторана «Одесса», где, сдвинув столы и верхом усевшись на венские стулья, незнакомая солдатня по-гуннски пировала среди сдёрнутых скатертей и разбитых зеркал. Макар вместе с ними хлестал из горла французское красное вино, заедая жареной килькой и эклерами, уже в темноте повалил вместе с толпой на пылающую кострами улицу, где уже выросло подобие баррикады, и вместе со всеми стрелял из найденного где-то карабина, целясь в сизую ночную пустоту.
Он проснулся от оглушающего протяжного гудка, ощутил пронизывающий до костей холод, онемение подвёрнутой под туловище руки, сухость во рту и тупую головную боль. Макар Ильич лежал на ледяной каменной плите причала, у самого края, рядом с матово блестящей, покрытой мелкой росой чугунной тумбой-кнехтом, обмотанной толстым швартовочным канатом. В стеклянном морском воздухе ярко светило солнце, гулял холодный ветер, пробираясь под зябко подвёрнутую шинель. В паре аршинов снизу, под облепленной ракушками и водорослями мокрой причальной стенкой мерно плескалась замусоренная маслянистая вода.
И когда Макар Ильич поднял взгляд от воды, он увидел перед собой чёрную железную поверхность с линией заклёпок и в середине — блестящий начищенной медью круглый иллюминатор. По сходням с парохода бойко сбегали солдаты с винтовками — не вчерашний оголтелый сброд, а трезвые, свежие, слушающиеся резких команд фельдфебеля. Солдаты сбегали и выстраивались в шеренгу у сходней, а Макар Ильич всё как завороженный глядел на борт парохода, на котором, переливаясь, дрожала световая рябь.
Пароход, на котором Макару Ильичу довелось совершить поездку летом следующего года, выглядел совсем иначе, отличаясь всем тем, чем отличаются скромные речные пароходы от величественных морских, однако по совпадению носил то же название — «Царь».
-
каждый абзац - произведение искусства.
as usual
-
Упершись в рваный шершавый плакат пятернёй, сквозь переливчатый опиумный морок Макар Ильич с отстранённой тоской наблюдалпригибаясь и придерживая фуражку на голове, по-заячьи пробежал офицер в расстёгнутой шинелиНапротив прислонившегося к тумбе Макара остановился матрос с бутылкой в руке, с белобрысой рожей потасканного херувимчика, безумно выкатил глаза, таращась на Макара, и надсаженным фальцетом заорал:
— Цусима! Цусима! Цусима-херосима! Цусима-херосима! — и, широко размахнувшись, запустил бутылку в застеклённую дверь табачной лавки, а где-то вдали уже толпой вытаскивали из подворотни надрывно верещавщего лаобаня.круто спускающуюся к сверкающему, будто нависающему выше земли морю. Первобытно ревела рассевшаяся на дворе, облепившая яблони и каменный забор толпа, наблюдая, как проваливаются деревянные перекрытия канцелярии и, разбрасывая искры, вырывается косматое пламя из окон.В паре аршинов снизу, под облепленной ракушками и водорослями мокрой причальной стенкой мерно плескалась замусоренная маслянистая вода.Положительно нельзя читать твои посты, не испытывая глубокого, почти физического наслаждения текстом).
|
-
-
Очень классный пост!
Восхищаюсь умением из эпизода бытовой кражи сделать такую конфетку))). И Меркул, и контора, и пачпорт...
|
-
И Кржижановский получается совершенно не при чём: мы его, знаете, обманули. Мы его, — Шинкевич сделал восторженный жест, — сыграли втёмную!
комбинатор наш великий)))
|
20:18 05.11.1899 (ст. ст.)
Иркутская губерния, село Старый Алзамай
-5 °C, лёгкий снег
В Алзамае бессмысленные дни сменяются глухими ночами, в Алзамае с неба сыпет серая снежная крупа, застилая мёрзлые пашни, немо чернеет чаща тайги. Застывают хрусткой ледяной коростой лужи на старом тракте, косо и угрюмо зияют дыры в тёсаных заборах, припорошена снегом гниловатая солома на крышах деревенских домов, ползёт слабый дымок из труб, а в домах уже по-зимнему пахнет затхлым душным теплом.
Ноябрь — самый гадкий и бессмысленный месяц в Алзамае и, должно быть, вообще в России: мрачный, промозглый, глухонемой. Октябрь ещё полон светлой осенней грустью, декабрь уже радостен свежей снежной красотой: ноябрь не красив ничем, ноябрь ничем не примечателен, ноябрь тёмен и тосклив. Ничего хорошего не может произойти в ноябре, ничего достойного не может родиться. Нет в мире человека, который назовёт ноябрь любимым месяцем. Разве что вот в южном полушарии, в какой-нибудь Австралии кто-то есть — но ещё вопрос, существует ли вообще Австралия, или это так, чья-то выдумка, случайная клякса на карте, плод сумеречного бреда безумного географа? Не видно отсюда, непонятно, не верится, что бывает на свете что-то кроме глухой тайги во все стороны на сотни вёрст. И в этом отшельничестве, в этой глухомани находит порой затмение, и не верится, что существуют Москва, Петербург, а существуют лишь, в порядке старшинства: уездный город Нижнеудинск, село Старый Алзамай, и, наконец, Новый Алзамай — железнодорожная станция в семи вёрстах. И через неё из ниоткуда в никуда, из легендарного Красноярска в мифический Иркутск, тяжело гремя и оглашая обледенелые пространства ведьминым свистом, проходят поезда, появляясь и исчезая как случайная фигура под уличным фонарём. Уличных фонарей, кстати, здесь тоже нет: ни в Алзамае, ни в Нижнеудинске. Глухо тут, мертво.
Да и по всей стране сейчас так же глухо, такой же мглистый ноябрь стоит который год: становятся историей ещё недавние грозовые времена «Народной воли»; бесславно сгинул, ничем не отметившись, и жалкий её последыш — «Народное право». Никто не собирает больше бомб в подпольных динамитных мастерских, никто не вызывается жертвовать собой, метая их. Холодно всё в стране, застыло всё в тупом оцепенении, будто придавило всех какой-то чугунной болванкой, и не вдохнуть. Никому ничего не нужно, ничего здесь не добиться, всё бессмысленно: ледяным мёртвым сном спит Россия. И глупо было спорить с жандармским поручиком, допрашивавшим Черехова два года назад при аресте и не понимавшего разницы между народоправцами и социал-демократами, — ведь не стоило организовывать ту цеховую ячейку, ведь всех сдал свой же брат рабочий за полтора целковых, ведь не нужны никому в России эти разговоры о свободе, и за полтора целковых любой любого сдаст и съест, за пряник удавится, за кружку с императорским гербом брата затопчет. Дрянь народ, дрянь страна. С граем разлетается с голых веток чёрная стая воронья, застилая белесое, сыплющее снегом небо над Алзамаем, и разворачивается в сторону несуществующих далей.
Но зреет, зреет что-то, нарастает пока скрыто под спудом: студенты в университетах читают Маркса, Бакунина, Михайловского, собираются на квартирах, обсуждают, спорят. Их потом казачьё наотмашь нагайками хлещет, их потом в солдаты забривают, — а они всё равно читают, передают из рук в руки запрещённые иностранной печати брошюры, засаленные, с обрезанными полями. И собираются уже кое-где на забастовки рабочие мануфактур, требуют — пока несмело — прибавок, выходных: и их тоже бьют, и их сажают и ссылают; но что будет, когда не одна фабрика встанет, а сто? А будет, будет и так. Настанет и наша весна — только дождаться её, не впасть в отчаянье, не сойти с ума, не сдаться.
С этими тяжёлыми мыслями Черехов этим вечером забирался на тёплую печь, собираясь спать, но не успел устроиться, как в дверь заколотили. Удивившись нежданному визиту в его одинокий дом на окраине села, Черехов пошёл открывать. За порогом стоял, блестя треснутым песне на горбатом носу, Шинкевич, весь какой-то растрёпанный: в драном бекеше, без шапки, с взлохмаченной шевелюрой, с жёлтым, бросающим изломанные тени фонарём на палке.
— Вы знаете, Алексей Николаевич, пару часов назад ко мне опять заявился наш дорогой урядник Семён, — испуганно, взволнованной скороговоркой, сильно картавя, заговорил Шинкевич, когда Черехов, поставив самовар, наконец поинтересовался у гостя, в чём дело. — Вы понимаете, у Семёна опять запой — да, опять! Он опять начинает видеть чертей в каждом углу, а я у него, понятно, первый чёрт, ну вы знаете, как он ко мне относится. Он, конечно, всех нас подозревает: и вас тоже, разумеется, но вы-то хотя бы православный! А я? Я мало того что лично Христа продал, я ещё и путевой обходчик! То есть как это при чём здесь это? Вижу, Алексей Николаевич, вы не до конца, — Шинкевич закатил глаза и энергично затряс в воздухе ладонью, — понимаете логику мышления этого человека. А я вот, представьте, давно уже веду с ним задушевные беседы — вы знаете, он любит меня навещать, как нажрётся, — так что я наловчился уже следовать извилистым маршрутом мысли этого дикаря. О, там такие бездны открываются, милостивый государь, — что там ваш Достоевский! Это не человек, Алексей Николаевич, это пропасть, пропасть! Он думает, что если я работаю на железной дороге, я — что? Правильно: планирую побег. В его представлении одно как-то связано с другим! Более того, он искренне не понимает, почему я не работаю сапожником! Он считает, что все евреи от рождения сапожники, а когда я говорю, что сроду сапожной иглы в руках не держал, я, разумеется, вру и обманываю его, чтобы… ну вы поняли, чтобы сбежать! А кстати, знаете, к чему он сегодня придрался? Я написал на заборе А.С.А.В. — ну помните, мы шутили, что нас троих тут достаточно, чтобы организовать общество ссыльных? Ну вот, я придумал: Ассоциация ссыльных Алзамайской волости, сокращённо А.С.А.В. — так, не знаю, зачем я это придумал, от скуки. Семён не понял, придрался. Я объяснил, но он, конечно, не знает слова «ассоциация», непонятное слово его разозлило. Ну я идиот, я идиот, надо было назвать «общество»! Эй ты, говорит, плюс-минус-глобус, я тебя поучу соцациям! Слово за слово… в общем, он вытащил из ножен саблю — вы же знаете, он, как напьётся, всегда цепляет на бок саблю, — приставил мне её к горлу и чуть не зарезал!
Выговорившись, Шинкевич шумно выдохнул, мелко дрожащей рукой взял стакан с чаем, громко отхлебнул и поднял затравленный взгляд на Черехова, обхватив стакан обеими ладонями. Черехов молча наблюдал за Шинкевичем. Тускло освещала избу керосиновая лампа с экономно подкрученным фитилём, серели в полумраке очертания полок, лавок, стола, белела кубатая громада русской печи.
Лев Лазаревич Шинкевич, при всей своей вздорности, болтливости и бестолковости, сейчас и в самом деле выглядел насмерть напуганным и, кажется, серьёзности своего положения не преувеличивал. Этот не первой молодости уже нервный могилёвский бундовец до неприличия еврейской внешности попал в Алзамай только этим летом, но, разумеется, успел настроить против себя и жителей деревни, и волостного старшину, и писарей в правлении, и, главное, — волостного урядника Семёна, тупого и пьяного мордоворота, сразу выбравшего Шинкевича объектом своих неизобретательных грубых издевательств.
Шинкевич давно бы уже сбежал из Алзамая, благо с железной дорогой под боком это было несложно; да и Черехов бы давно сбежал — ведь казалось бы, чего проще: перегруженный поезд часто идёт медленно — вскочить на подножку, забиться в товарный вагон и поминай как звали! Но Семён, благо что был глуп как пробка в одних вопросах, отличался смекалистостью профессионального мерзавца в других: хоть выражения «коллективная ответственность» он не знал, смысл его понимал отлично. Давно уж он объявил всем троим алзамайским ссыльным: сбежит один и остальным несдобровать: пристрелит, зарубит, и — гадко улыбаясь, добавлял он, — ничего ему за это не будет. До Бога высоко, до царя далеко: никто и разбираться не станет, а станут — объяснит несчастным случаем на охоте, падением под поезд или вообще объявит, что застрелил при попытке к бегству, — ещё и наградят. Сбежать бы всем троим сразу — но и это невозможно: Сикорский никуда не побежит.
Павел Алексеевич Сикорский был бессрочным ссыльным, жившим в Алзамае уже без малого двадцать лет. Сейчас, глядя на этого не старого ещё, плотно, по-бычьи сбитого, с блестящим круглым лбом и короткой рыжей бородой человека, сложно было поверить, что семнадцать лет назад это был студент, руководивший динамитной мастерской, что когда-то он был знаком с Верой Фигнер и Степаном Халтуриным, и что, когда в его мастерскую в Гельсингфорсе нагрянули солдаты, они едва успели выхватить из его руки пакет с кристаллическим калием, который Сикорский уже собирался высыпать в рот.
Сейчас Сикорский омужичился так, что куда там яснополянскому графу: обзавёлся хозяйством, женился на местной, воспитывал семилетнюю дочь. Даже в Нижнеудинск он выбирался лишь по необходимости и, кажется, без особенной охоты. Сикорскому нравилась эта глушь, и, наверное, если он о чём-то сейчас и жалел, то разве о том, что его не отправили куда-то ещё дальше, в Якутскую область какую-нибудь, на Лену, на Яну, в какую-нибудь первобытную даль, где ничего не менялось тысячи лет и ещё тысячу не изменится. Разумеется, о том, чтобы куда-то бежать из Алзамая, давно ставшего ему домом, Сикорский и не помышлял, — а потому служил для Семёна надежным заложником на случай побега Шинкевича или Черехова.
— Вы знаете, Алексей Николаевич, — жалобно дрожа голосом, продолжал частить Шинкевич, — он ведь убьёт меня, уже скоро убьёт, он прямым текстом мне это пообещал при расставании. И вы-то тоже не расслабляйтесь: он меня убьёт, новую жертву начнёт искать. Ведь это упырь, вурдалак, ему только крови надо! Он меня прирежет и бросит в лесу, потом вас, потом Сикорского, потом — а чёрт его знает, кого потом сюда пришлют! И никто, никто ничего не сделает: старшина сам Семёна боится как огня, а становой его всегда покроет. Вы понимаете, — Шинкевич перешёл на свистящий шёпот, низко склонившись над столом, приблизив жутковато освещённое лицо к лампе, — ведь Семён-то тут царь, царь Алзамайский! Вы понимаете, он ведь наслаждается своим правом, наслаждается тем, как он силён, как мы все в его власти, сабелькой своей на боку любуется! В общем, я выход вижу только один, — Шинкевич сделал паузу и поднял на Черехова внимательный взгляд. — Я буду Семёна сам убивать. Вы со мной?
-
Я буду Семёна сам убивать. Вы со мной?
Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха, --
Выйди на улицу
И убей!
-
Ничего себе начало! Прямо зачитался...
-
Здорово, ну да как и всегда)
-
-
-
Охк мощен. Просто-таки Томас Худ.
No sun - no moon!
No morn - no noon -
No dawn - no dusk - no proper time of day.
No warmth, no cheerfulness, no healthful ease,
No comfortable feel in any member -
No shade, no shine, no butterflies, no bees,
No fruits, no flowers, no leaves, no birds! -
November!
-
Эхх, прям вот "Белая гвардия", натурально. Вот это всё - слово на слово нанизано, филигранно, тонко. Блестя очками и дрожа голосом. Эхх, так уже почти никто не умеет. Хорош, мерзавец! =)
-
Очень атмосферно... хотя терпеть не могу всех этих так называемых "романтиков революции", но пост хорош.
|
— План? Представьте себе, у меня есть план! — воодушевлённо выпалил Шинкевич, как-то взвившись сразу весь. — Ну, половина плана, если точнее. Я всё думал, думал, пока шёл сюда: семь вёрст, семь вёрст, Алексей Николаевич, — сибирские просторы располагают к размышлениям! Так вот: у меня есть заимка вёрстах в пятнадцати, — хе-хе, сибирские просторы, — это от станции по железке. Ею пользуются обходчики, ею пользуюсь я. Так вот: вы приведёте туда Семёна! — заговорщицки понизив голос, зашептал Шинкевич. — Это верно, что он пойдёт с вами, если вы скажете, что знаете, что я собираю экипировку для побега на той заимке. Он меня презирает, — желчно оскалился Шинкевич, — он пойдёт один, только с вами! А там мы его хватаем, связываем и отрезаем голову!
Черехов подумал, что не расслышал.
— Отрезаем голову дрезиной! — возбуждённо взвизгнул Шинкевич. В этот момент, склонившийся грудью на стол, освещённый снизу тусклой лампой, со своим сверкающим пенсне над живо бегающими глазами, с густыми взлохмаченными волосами, с острой чёрной бородкой клинышком, он походил на какого-то мелкого беса.
Черехов поинтересовался, откуда у Шинкевича дрезина.
— А с чего вы взяли, что у меня есть дрезина? — игриво возмутился Шинкевич. — У меня нет дрезины: откуда у путевого обходчика дрезина? Не помешала бы, но нет! А дрезина, дрезина есть у Кржижановского, вот у кого есть дрезина! Кржижановский — это ссыльный эсдек, из Нижнеудинска. Он работает машинистом на паровозе, часто ездит через нас. Вот, представьте себе, ссыльным можно работать даже на паровозе! Я воображаю, что Семёна хватил бы удар, если бы он об этом услышал. Он нам поможет, Глеб Максимильяныч нас выручит дрезиной, это наверно, Глеб Максимильяныч Робеспьерович — надёжный человек. Мы отрезаем Семёну голову дрезиной, — с дребезжащей расстановочкой повторил Шинкевич. Кажется, ему доставляло удовольствие бесконечно смаковать слово «дрезина», — кладём Семёна и его голову на дрезину и едем на дрезине прочь от заимки, чтобы тело нашли не рядом с ней. Бросаем на железке, и, когда его находят, все думают, что Семён в пьяном виде попал под поезд! Да — я сказал вам, что у меня есть половина плана? Нет, видите, у меня весь план, я его сейчас додумал.
-
— Отрезаем голову дрезиной! — возбуждённо взвизгнул Шинкевич
Бррр.
|
— Суханов? Но он, кажется, не мог... — прошептал Виктор Алексеевич. «Значит, Молчанов», подумал он.
Жорж быстро показал Коробецкому перейти к задней части машины, где за кузовом был закреплён большой багажный сундук, а сам устроился у смятого капота, выглядывая из-за ствола осины, в которое впечаталась машина.
— Эй, вторая внутренняя! — тяжело дыша и отирая кровь со лба, хрипло крикнул он. — Я тебя узнал, картавый! Давно не виделись! Леваницкий с вами, что ли?
— Здесь никакого Леваницкого нет, — ответил тот же голос.
— Подойди и возьми, если такой смелый, — выкрикнул Жорж. — Вас всего двое, у вас машина двухместная. Нас и так больше, а двоих я и один заберу.
— Жохж, ты же хазумный человек! — откликнулся тот же голос.
Коробецкий тем временем озирался в поисках беглеца. Не может быть! Бросить всех, убежав с иконой! Даже истекающая кровью и беспамятная Ольга Игнатьевна отступила на второй план перед угрозой потерять столь важную зацепку в деле поисков истины. Но никого он не видел: вокруг были лишь мокрые, шумящие под холодным ветром кусты вокруг, тёмные просветы осиновых стволов выше.
— Один будет обходить, — шёпотом сообщил ему Жорж, — смотри по сторонам.
Вдруг Коробецкий действительно заметил какое-то движение метрах в десяти от себя: не успел он вскинуться и показать напряжённо следящему за человеком на дороге Жоржу, как гулко грянул выстрел, и вслед за ним сразу же ещё один, с другой стороны, и пуля со звоном пробила навылет оба боковых стекла машины. Жорж, высунувшись из-за ствола, немедленно выстрелил раз, другой, третий: полетела листва с кустов, скрывающих шоссе.
— Я достал его! — раздался вдруг голос, который Коробецкий уже не полагал услышать: это кричал Молчанов.
— Генхих? Генхих? — крикнул человек с дороги. — Чёхт! — выругался он, послышались торопливые шаги. Дверь машины хлопнула, взревел мощный мотор.
— Испугался… — выдохнул Жорж, прислоняясь лбом к коре дерева и опуская наган. Машина преследователей удалялась.
От напряжения и захлёстывающего чувства тревоги Виктор не сумел выдавить из себя ни слова, только упал на четвереньки и поспешил скрыться за колесом машины, чтобы даже снизу не достали.
И вдруг всё закончилось так же внезапно, как и началось. Какое облегчение — слышать всё чётче естественный шелест и перестук лесной природы по мере утихания лязгающего автомобильного шума.
— Ольга Геннадьевна! — рывком, как от дурного сна очнулся Коробецкий. — Её нужно перевязать, иначе, иначе...
Из кустов появился улыбающийся Молчанов. Шляпы на нём не было, волосы были всклоклочены, а дорогой костюм весь перепачкан грязью спереди и на коленях. В одной руке он держал сумочку Успенской, в другой — револьвер.
— Готово! — с торжествующим видом выпалил он. Жорж, тяжело выдохнув, помотал головой, положил свой наган на траву и склонился над Успенской.
— Кто это был, что это за вторая внутренняя? — спросил Коробецкий, переводя взгляд то на одного, то на другого.
— А, это… — не в силах собраться с мыслями, бессвязно откликнулся Молчанов. — Это… — он бессильно покачал в воздухе сумочкой.
— А как здесь мог быть Леваницкий? Он же мёртв? — продолжил расспрашивать Коробецкий.
— Ой, лучше и не спрашивайте… — ответил Молчанов и прислонился к дереву, приглаживая на затылок чёрные мокрые волосы. Жорж сидел близ Успенской, положив пальцы на артерию на шее, и в разговор не вступал.
Поняв, что ответов на вопросы он не добьётся, Виктор Алексеевич, раздвигая кусты, двинулся к месту, откуда появился Молчанов. Близ насыпи на траве, раскинув руки в стороны, лежал рыжеволосый человек лет тридцати в дорожном костюме в серую клетку, с браунингом в руке и отлетевшей в сторону фетровой шляпой. Во лбу его зияла пулевая рана. Присмотревшись, Коробецкий вдруг понял, что где-то он его уже мог видеть, но некоторое время не мог вспомнить, где. Вдруг вспомнилось: вечер у Анны Синицкой пара месяцев назад, пьяный Скалон и его приятель из Германии. «Карлуша, Карлуша!» — звал его тогда пьяный Скалон, возвращаясь из кабака с бутылкой рябиновки. Вспомнилось имя: Карл Лемке. Сейчас его приятель звал его Генрихом, но это точно был тот самый Карл: даже костюм на нём был тот же. Дикая мысль пронеслась в голове — а не Скалон ли разговаривал с Жоржем с дороги? Нет, Скалон не картавил.
Карл-Генрих, вот это встреча... Так значит Анну всё же убили? Связав в уме недавние намерения лежащего перед Коробецким мёртвеца со сценой, произошедшей на вечере у дочери Соколова, Виктор почему-то уверился в том, что несчастная умерла не своей смертью. А коли так, то может и сам Илья Авдиевич на душу греха не брал?
Нужно обыскать этого Генриха, решил вдруг Коробецкий. На теле должны быть доказательства, какие угодно, но подтверждающие причастность этого человека ко всем несчастьям последнего времени. Признать, что перед ним находится просто труп просто обычного невиновного ни в чём человека — было мучительно сложно. Переступая через себя и борясь с приступом тошноты, Виктор Алексеевич опустился перед мёртвым Генрихом на колени и принялся расстёгивать пиджак трясущимися пальцами. «А ведь если бы не Молчанов, он мог бы застрелить меня. Меня! Или я, или он», — подумалось Коробецкому, отчего стало полегче.
Виктор Алексеевич стал ощупывать карманы покойного. В нагрудном кармане обнаружились расчёска и толстое, неудобное, зато дорогое самопищущее перо «Монблан», в боковом — носовой платок и обойма от браунинга, во втором боковом — русский серебряный портсигар с гравированным Эльбрусом и спички, судя по надписи на коробке — немецкие. Как назло, и тут на картинке были горы: Бавария, что ли. Вот так из горних высей спускаемся мы в глубины ада. Вот так нам приходится расстёгивать пуговицы на пиджаке только что убитого человека и лезть ему во внутренний карман.
С отвращением касаясь пальцами серого трикотажного пуловера, надетого под пиджак, Коробецкий запустил руку во внутренний карман и выудил оттуда записную книжку в бордовом кожаном переплёте. Похожая была у Ильи Авдиевича, но оттуда были выдраны все листы; эта книжка была цела и густо исписана адресами, телефонами, какими-то заметками, частью на русском, частью на немецком. Взгляд остановился на одной из страниц, где строки шли столбиком, как в стихах: «Кошка у меня была, я ея любил» — прочитал он записанное карандашом начало какого-то идиотского инфантильного стишка: написано было в старой орфографии, только без еров на концах. Была такая порода людей, не любивших эту лишнюю букву, ещё до революции, отменившей вместе с ней вообще всё лишнее. Поморщившись от этой чуши, Виктор Алексеевич переложил записную книжку к себе.
Во втором кармане обнаружился пухлый бумажник и немецкий Reisepassport. Коробецкий расстегнул кнопку на бумажнике, заглянул внутрь: банкноты — марки и франки, в кармашке мелочь, в другом несколько визиток, за ними — презерватив. Разглядывать всё времени не было: Коробецкий сунул находку вслед за записной книжкой себе в карман. Раскрыл паспорт: Heinrich Heringslake, geb. 19. April 1889. Теперь можно было добавить и вторую дату.
Со стороны скрытой кустами дороги протарахтел мотор: Коробецкий вскинул голову, насторожился — вдруг сейчас какие-нибудь ни о чём не подозревающие французы заметят машину, остановятся, предложат помощь? Нет, не остановились — может быть, и не заметили улетевший в лес автомобиль. Со стороны машины доносились голоса: Молчанов и Жорж говорили на повышенных тонах. Виктор Алексеевич прислушался, потом поднялся, стал медленно приближаться.
— Я говорил! Я же предлагал кражу! — ещё сдерживаясь, но всё громче, с надрывом говорил Жорж. — Ну как вы все понять не могли?! Вломились днём, пока никого нет, обыскали квартиру, забрали икону: ну не с собой же он её каждый день таскал! Но нет, ты же у нас актёр, тебе же надо поговорить, покрасоваться!
— Я актёр, да! — кричал Молчанов в ответ. — А ты, ты-то кто? Ты — водитель, твоя роль — водить машину! Водить машину, понимаешь! Не разрабатывать планы, а водить машину! Вот твоя роль! И даже с ней, даже с ней ты не справился!
— Я не справился?! Я не справился? А кто за Суханова ручался? Не ты, что ли?
— Не я! Не я! Что хочешь вешай на меня, но не это! Ольга, Ольга его первая взяла, она его утверждала! Она план утверждала! Она всё утверждала!
— Она утверждала, ты предлагал!
— Он бы нас всё равно сдал, понимаешь? — перекрикивая Жоржа, не унимался Молчанов. — Суханов был провокатор, он бы сдал нас в любом случае!
— Ты посмотри, что ты наделал! — заорал Жорж.
— Ты меня не слышишь: он бы нас сдал! Сдал бы в любом случае! — кричал Молчанов. — И теперь я понимаю, почему у нас всё сорвалось весной с Леваницким! А ведь это Ольга его взяла в группу, твоя Ольга!
— Всё, всё, не кричи, не кричи!… — тяжело дыша, выпалил Жорж. — Я понимаю, я понимаю, что нужно что-то делать, — с отчаяньем сказал он. — Надо что-то придумать! Но я не могу её тут так бросать!
Установилось короткое молчание.
— Где, кстати, этот, как его? — вдруг спросил Молчанов. Жорж ничего не ответил. — Удрал, что ли? Пойду поищу.
Остановившийся за зарослями колючего кустарника Коробецкий, присев на колено, видел сквозь переплетение стеблей машину, лежащую подле Успенскую с неприлично задранным платьем и брючным ремнём, которым была перетянута окровавленная ляжка, Жоржа, склонившегося над ней и обхватившего ладонями её лицо, и полного, измазанного грязью Молчанова с сумочкой Успенской на локте и вальтером в руке. Молчанов двинулся куда-то в сторону от Коробецкого, но у первого же дерева остановился и обернулся, задумавшись. А затем поднял пистолет, прицелился в склонившегося над Ольгой Жоржа и выстрелил. Жорж схватился за шею, захрипел, с непонимающим видом, с открытым ртом оборачиваясь к Молчанову, упёрся рукой в землю. Молчанов решительно подошёл на пару шагов и выстрелил ещё раз. Сквозь мельтешащую зелень куста было видно, как Жорж, скорчившись, валится на траву рядом с Ольгой.
— Ну вот и всё, Жоржик, — причмокнув, глухо сказал Молчанов. — Может, хоть там счастливы будете, раз здесь не вышло. И ты, Оленька, тоже прощай, — и разрядил пистолет в голову лежащей женщины.
|
-
Эк вы, батенька, блока-то)
|
16.04.1926, пятница, 23:08
Германия, Берлин,
Шёнеберг, угол Гайсбергштрассе и Кульмбахштрассе,
Клуб “Silhouette”
пасмурно, +8 °С— Ну и кто, Вера Павловна, будет платить? Уж явно не я, — сказал Влас Ильич, жеманно поправляя шляпку-горшок. Действительно, по всему выходило так, что за таксомотор платить должна Вера Павловна. Пришлось ей лезть за деньгами в карман смокинга. Шофёр, крупный, краснощёкий, со складками на шее, принял две марки, глядя на пассажиров с осуждением и презрением. В его немецкой голове наверняка крутилось что-нибудь оскорбительное по поводу эмигрантов. Видимо, по правилам этикета Вере Павловне следовало и дверцу открыть, и помочь Власу Ильичу выбраться из автомобиля. Так девушка и поступила. — Польщён вашей учтивостью, Вера Павловна, — сказал Влас Ильич, беря Веру под руку и неумело цокая на каблуках по панели. — Не беспокойтесь, в клубе все мои друзья. За шампанское вам платить не придётся. Нам сюда. Бородатый швейцар, не испытывая ни малейшего удивления от вида гостей, распахнул перед молодыми людьми дверь клуба “Silhouette”. Мало кто согласился бы составить Власу Ильичу компанию в посещении подобного заведения, но у Власа Ильича были основания полагать, что Вера Павловна от предложения не откажется. «Вы ведь знаете, что я о вас кое-что знаю? — деликатно напоминал Влас Ильич. — Не заставляйте меня делать это знание достоянием публики». Потому-то сегодня Вера и сопровождала Власа Ильича. Влас Ильич фон Зоко был личностью по-своему легендарной в узких кругах. Он был актёром русского театра-кабаре «Синяя птица», сочинителем бессмысленных стихов («Я постригъ взявшiй, я пострадавшiй, / И пшённой кашей, и простоквашей, / Питаюсь я»), музыкантом и человеком иных профессий, иногда чересчур свободных. Фон Зоко, хоть и не был евреем, пел анархистские песни на идиш, и рассказывали, что как-то раз он по собственной глупости выступил с подобным номером в зале, полном носителей коричневых рубашек. Коричневые рубашки были так ошарашены подобным безрассудством, что даже забыли кидать во Власа Ильича пивные кружки, и, наоборот, остались в восторге и щедро осыпали певца деньгами (которые в тот год, впрочем, ничего не стоили). Рассказывали и другую историю, что как-то раз зрителем непристойного номера в исполнении Власа Ильича оказался его старший брат, который затем подкараулил братца за кулисами и избил тростью. Про Власа Ильича говорили, что он наркоман, педераст и большевик, на что сам Влас Ильич возмущённо отвечал, что это гнусный поклёп, ибо из этих утверждений верны лишь два. По поводу того, какое из утверждений ложно, в труппе «Синей птицы» шли постоянные споры, и сходились актёры лишь на том, что фон Зоко: а) не имеет никаких оснований употреблять приставку «фон»; и б) плохо кончит. Чего у фон Зоко было не отнять, так это чувства моды: сейчас он был одет как заправская американская флэппер: в узкую юбку до колен, блузку с нитью крупного жемчуга на впалой груди и жакет. Со всем этим, впрочем, довольно неприятно контрастировали волосатые голени и чёрная бородка клинышком. Вера Павловна в своём взятом напрокат и мешковато висевшем костюме со смокингом выглядела на фоне Власа Ильича скорее старомодно. Когда Влас Ильич с Верой прошли в тесный, битком набитый зал, вечер был уже в разгаре: на сцене плясал обряженный в павлиньи перья негр, надрывался оркестр, а сидящая за столиками публика представляла будто пародию на самое себя, перевёрнутый мирок, где люди ходят на руках и на боках, дальнюю камору кроличьей норы, куда Алису не пустили по малолетству: ярко-алая помада под густыми усами и нарисованные жжёной пробкой усики над торчащими из тонких губ сигаретами, пергидрольные парики с завитыми полумесяцем локонами, спускавшимися на бритые щёки, и склеенные лаком на пробор заправленные за воротник волосы, платья с подложенной ватой и мужские часы на тонких запястьях: словом, Влас Ильич с Верой Павловной здесь были далеко не самыми странными гостями. — Здесь не все швули, — успокаивающе пояснил Влас Ильич, проталкиваясь через толпу к лесенкам, ведущим к поднятым над уровнем пола ложам. — По правде сказать, большинство здесь — не швули, а так. Хотя я, конечно, не проверял. Ну-ну. — Это Дитмар, это Отто, это Магда, это Лиза, — представил Влас Ильич Вере своих друзей, расположившихся на диване в ложе, причём показал сначала на барышень, а потом на молодых людей. — Ты всё перепутал, Влас, — не дожидаясь того, чтобы Влас Ильич представил свою спутницу, сказал один из молодых людей, пухлый господин в бежевом платье и съехавшем набок парике. — Я Отто, это Дитмар, это Магда, а вот Лиза. — Чего ещё ждать от немца: никакого чувства юмора, — сокрушённо развёл руками Влас Ильич, усаживаясь. — Ты не Отто, ты Ма-агда! — пьяно заявила пучеглазая блондинка в белом однобортном пиджаке с галстуком, совсем подросток на вид. — Подожди, Магда — это ты. Или ты Лиза? — серьёзно поинтересовался второй господин, в платье с блёстками и с ободком с перьями на лысой голове (Дитмар? Отто? или всё-таки Магда?). — Лиза я, — заявила брюнетка во фраке с моноклем в глазу. — Не верю! — замотал головой тот, кто должен был быть Дитмаром. — Скажи что-нибудь по-китайски! Лиза произнесла длинную мяукающую фразу. — Лиза у нас из Шанхая, — пояснил Вере Влас Ильич. — Ты что, китаянка? — выпучила глаза Магда. — А я похожа на китаянку? — спросила Лиза. На китаянку она была непохожа. — Я не знаю! — глупо засмеялась Магда. — А что эта фраза значила? — обратился Влас к Лизе. — Я послала его к чёрту, — ответила Лиза, поднося к губам сигарету в мундштуке. Отто заржал. — Эдак и я могу! — объявил Дитмар и выдал какую-то тарабарщину. — Ну, значит, Лиза теперь ты, — с готовностью подтвердила Лиза. Все заржали пуще прежнего. Следующие часы прошли в том же невыносимо пошлом духе: все выясняли, как называть друг друга и Власа с Верой (сошлись на том, что имя Власа стало своим же родительным падежом, а Веры — омонимом немецкого местоимения «кто»), потом Магда стала уверять всех, что только что видела в зале актрису Хильду Хильдебранд, потом пили шампанское в честь Хильды, а также дней рождения Гитлера (предложил Отто) и Ленина (в ответ предложил Влас), и неясна была степень ироничности этих тостов, потом Магду вырвало под стол (все аплодировали), потом пересели за другой столик, потом в дамской комнате к Вере пристала какая-то потасканного вида фройляйн, повиснув на шее и жарко шепча в ухо свой номер телефона, потом оркестр завыл, загремел чарльстоном и пошли танцы. Вера уже заметила, что далеко не все в зале носили наряд противоположного пола, и потому среди танцующих костюмов с костюмами, костюмов с платьями и платьев с платьями было затруднительно разобрать с балкона, какие пары здесь разнополые, а какие однополые. 3:28Разошлись далеко заполночь, когда на сцене остался лишь одинокий несчастного вида юноша, выводивший заунывные звуки при помощи вибрации двуручной пилы. Магда и Лиза куда-то давно испарились. Дитмар хмуро подволакивал к таксомотору совсем обессилевшего Отто, причём последний, потерявший где-то на полпути и парик, и туфли, пытался поцеловать своего приятеля в шею, а тот вяло отбрыкивался, приговаривая: «Я не швуль. И ты не швуль. Разве ты швуль? Я-то точно нет». Подъехал и таксомотор для Веры с Власом. Уселись. — Вы где живёте, Вера Пал-лна? — заплетающимся языком спросил Влас Ильич и тут же устало добавил. — О-ох, как же я ненавижу столько говорить по-немецки.
-
Но ведь было оговорено, что китайского языка не будет!))))
-
-
-
-
-
Это... это... это эпично ^^
-
Дурной сон Веры Павловны (%
-
Давай вечером
Умрем весело,
Поиграем в декаданс ©
-
-
-
-
По правде сказать, большинство здесь — не швули, а так. Хотя я, конечно, не проверял.
Ну-ну.
Мастер двусмысленной шутки в деле.
|
Дванов прошагал по натёртому паркетному полу к лоснящейся стойке, нагнулся к окошечку в железной сетке. По ту сторону сидела пухлогубая юная барышня из тех, что до революции наполняли залы во время гастролей Игоря Северянина по провинциальным эстрадам, а нынче остригли, осветлили и завили волосы и увлеклись уанстепом и Дугласом Фэрбенксом. Дамочка глупо и пучеглазо уставивилась на Дванова. Тот сказал, что ему нужно позвонить. — По хороду или междухородний? — развязно спросила та с отчётливым малороссийским выговором. Дванов сказал, что по городу, и вынул из кармана несколько советских копеек и пятак, разменянные с покупкой папирос, высыпал монеты в блестящий желобок под окошком. Дамочка подалась вперёд, близоруко щурясь и подсчитывая монеты. — Двух копеек не хватает, — сказала она наконец. — Тут восемь, а надо хривенник. Вы шо, не местный? Дванов ответил, что, действительно, не местный, и полез в карман за купюрами. Как назло, самой мелкой оказалась салатовая бумажка в три рубля. Дамочка звякнула кассой, заглянула внутрь и прицокнула языком. — Рано ещё, — сказала она извиняющимся тоном, — сдачи мало пока. Ты тут походи. Люси! — делая ударение на последний слог, закричала она в дверной проём, за которым виднелись стеллажи, — Люси, хражданину сдачи нету! С трёшки! Рупь с полтиной надо! — Хватит так меня звать! — глухо и зло откликнулась Люси из кладовой. — А сдача-то есть? — не смутившись, через плечо крикнула кассирша. — Сейчас посмотрю, — отозвалась Люси. — Да-арлинг ди-ир! — нараспев протянула кассирша, что по тону должно было означать «спасибо». — Принесут, — успокоительно обратилась она к Дванову. — А то вон, книжку на два рубля возьмите, — она указала на застеклённый шкаф, где под открытками, действительно, стоял рядок книг, все в каких-то новомодных обложках с геометрическими рисунками и красными стрелами. — Есть советский Пинкертон, о-очень интересно, я читала! — и быстро закивала, видом показывая, что и сама чтению не чужда, — будет, шо в поезде почитать, а у вас там ещё когда-а появится! Ну, я сейчас мигом покажу! — и встала и направилась к шкафу. — Да, я в курсе, — приглушённо донёсся до Дванова голос парня из телефонной кабинки, когда кассирша закончила тараторить и, раскрыв задние створки шкафа с открытками и книгами, принялась там искать, переворачивая книги обложкой к себе и ставя обратно. — Нет, там больше никого. Понял, Рустам Фаилевич, до связи, — и, лязгнув рычагом, парень бросил трубку, вышел из кабинки и решительно зашагал к выходу. Дванов, стоявший у стойки спиной к нему, отвернул прочь лицо, чтобы преследуемый, Боже упаси, его не узнал. Дверь хлопнула. Тут из заднего помещения появилась Люси — средних лет женщина-горбунья в очках-велосипедах и чёрном платье со стопкой писем в одной руке и сумочкой на тонкой цепочке в другой. — Дымченко! — резко обратилась она к кассирше, раскрывшей задние створки шкафа и достававшей из него какую-то книжку, — сколько тебе надо? — А, уже не надо! Хражданин на сдачу книжку берёт! — радостно воскликнула та, оборачиваясь к Дванову и обеими руками показывая ему книжку: — Берёте ведь, а? Рупь двадцать всего. — и кассирша Дымченко наивно захлопала ресницами.
-
-
Я опять чуть не влюбился, перечитывая. )
|
- Может быть спрячемся? Если они тут не останутся, то мы вернёмся и... сотрём. Отпечатки сотрём. Иначе в чём смысл? — Лучше уйдём, — зашептал Молчанов, пригибаясь. — Ваших отпечатков у полиции всё равно нет, а нас могут заметить. — Хорошо, пойдёмте, пойдёмте, — торопливо согласился Коробецкий. Виктору Алексеевичу уже и самому стало не по себе от мысли, что их действительно могут заметить, а потом всё — всё! — объяснять придётся. Он бы и самому себе этого уже не объяснил бы, наверное. Медленно, осторожно раздвигая мокрые кусты, Коробецкий с Молчановым двинулись прочь от разбитой машины и трёх оставшихся на земле трупов. Удалившись на достаточное расстояние, повернули и быстро, с усилием, продираясь сквозь кусты, зашагали вглубь леса. Густой, заросший кустарником и падающей с веток липкой от дождя паутиной лес здесь полого уходил в горку, и тучный Молчанов пыхтел, цепляясь рукавами своего грязного костюма за сучья. Наконец, он остановился, тяжело дыша, схватился за тонкий ствол молодого, в обхват ладони, деревца и знаком показал Коробецкому подождать. Виктор Алексеевич остановился поодаль. Только сейчас, когда опасность, кажется, осталась позади, он по-настоящему ощутил пахучую, душистую свежесть дождя, прелой листвы под ногами, услышал монотонное, отрывистое перекрикивание лесных птиц с разных сторон. Смутно, отдалённо доносились встревоженные голоса французов от оставленной машины, но разобрать их Виктор Алексеевич не мог. Послышался шум мотора: вероятно, поехали сообщать о происшествии. — Вы понимаете, Жорж бы не ушёл, — подал Молчанов, наконец голос, отдышавшись. — Если бы он был с нами, он бы сейчас кинулся к этим французам, стал бы их упрашивать везти Ольгу Геннадьевну в больницу… сами понимаете, чем бы это всё кончилось. Вот вам вторая причина, по которой я был вынужден его пристрелить. Хотя, уверяю вас, никакой радости я от этого не испытываю. Виктор не понял. Разведчик, шпион или кем бы там конкретно ни был Молчанов — он говорил на своём языке, присущим воинам теней с японских гравюр и фресок, проще говоря, рыцарям плаща и кинжала. Всё равно слишком благородное название для того, кто хладнокровно взвесил все за и против перед тем как нажать на спусковой крючок не дрогнувшим пальцем. — Вы вот что скажите. Будь вы на месте Жоржа, а он на вашем, всё случилось бы так же? Ольгу… было бы не спасти? — Коробецкий почувствовал, что на сердце снова нахлынуло что-то страшное и удушающее. — Я вам доктор, что ли? — огрызнулся Молчанов и, поправив котелок на голове, пошёл дальше. — Как бы мы её спасли? Везти в больницу мы её всё равно не могли, да и не на чем было. — Как же так получается, у вас от чужих пуль один раненый был, а от своих - два убитых! Это так у вас делается?! — Три, — поправил его Молчанов. — Вы этого германца забыли, — и вдруг остановился и устало приложил ладонь к глазам. — Чёрт. Забыл его обыскать. Молчанов нерешительно оглянулся по сторонам, как бы размышляя, повернуть ли назад. — А, не возвращаться же теперь, — вздохнул он. — Хотелось бы знать, что это за Генрих, конечно. А может быть он и прав был, этот грустный человек с холодным умом и искрами в глазах. Лучше двух своих потерять, чем невинных французов застрелить и на их машине в больницу поехать. И всё равно ещё больше улик против себя оставить, поставив под угрозу всё. Это что же, получается, у них и правда всё как на войне? Как там в газетах писали про разведки боем и прочие наступления-отступления? За каждым печатным словом — жизни тысяч солдат. А тут так же, только люди не в форме. Группа Молчанова допустила оплошность ещё тогда, когда планировала всё дело, а финал всего — закономерное последствие той оплошности. Задумавшийся Виктор Алексеевич услышал только окончание слов собеседника. — Я его на вечере у Анны видел. У Анны Ильиничны. А потом её мёртвой нашли, со склянкой яда. Он мог её убить, этот Генрих? — Да, я знаю, что вы там были, — кивнул Молчанов. — С этим вашим другом, я забыл его фамилию. Я понятия не имел, что там же был этот Генрих. Если вы уверены, то, вероятно, так и есть, — он Анну и убил и все бумаги выкрал. Сволочь, что и говорить. — А может быть… — Виктор Алексеевич ускорил шаг, увлекая Ивана Игнатьевича за собой, уже позабыв про исходящую от него угрозу. Он наконец-то сумел развить мысль, что терзала его с самого начала всей этой кровавой перестрелки. — Может быть тогда и Илья Авдиевич не сам… себя? — Слушайте, вам лучше знать, — задыхаясь от быстрой ходьбы, буркнул Молчанов. — Меня там не было. — Вы мне должны рассказать про этих людей, Иван Игнатьевич, это уже не только ваше дело. Да оно и моим, знаете ли, не вчера стало! Илья Авдиевич не мог просто так повеситься, ну не мог! Дошедший в своём отходе от переживаний почти что до истерики, Коробецкий уже был готов схватить своего спутника поневоле за грудки. — Я и собирался, — начал Молчанов. — Вы понимаете, я остался один. Точнее, из нашей группы есть ещё один человек, он остался в Париже, но, вероятно, Суханов сдал и его, и сейчас он либо мёртв, либо сидит где-нибудь в подвале, привязанный ко стулу… или я не знаю, что. Так или иначе, мне нужна будет ваша помощь, Виктор Алексеевич. А взамен на неё я назову третью причину, по которой я должен был убить Жоржа. Вы понимаете, Виктор Алексеевич: ведь они и охотятся на людей в таком состоянии, как Жорж, которые только что потеряли близкого человека. Молчанов остановился и замолчал, предлагая ответить Коробецкому, но Виктор Алексеевич хранил молчание, ожидая, что скажет собеседник. — Представляете, — продолжил Молчанов, — даже если бы мне удалось уговорить Жоржа оставить Ольгу Геннадьевну и уйти, у него уже к вечеру начались бы мысли: а вдруг всё, что они говорят, правда? — Так Ольга Геннадьевна всё-таки… — начал было робко Виктор. — Да, да! — зло гаркнул Молчанов. — Всё-таки! Ольга Геннадьевна всё-таки! А что нам с ней было делать, скажите на милость, а? Ну конечно же Ольга или погибла от сотрясения, или была в крайне тяжёлом состоянии — Коробецкий вспомнил, как помогал её мужу (теперь это подтвердилось) вынимать не подающее признаков жизни тело, как тот склонялся над ней, изменившись в лице. Виктор Алексеевич замолчал. — Вот я и говорю, что Жорж тут же начал бы думать — а вдруг они действительно могут поплясать вокруг трупа или как там они это делают и оживить её? Ведь оживили же Леваницкого! Ведь оживили же Александра Соколова! Ведь собираются же они оживить царскую семью и всех остальных мертвецов мира? Только это всё ложь, Виктор Алексеевич, гнусная ложь, — жёстко сказал Молчанов. — Никого они на самом деле не оживляют. Вот, дайте угадаю, вы говорили, что знали Леваницкого. Вероятно, вы его знали в Берлине, года эдак три-четыре назад. Он тогда уже болел туберкулёзом, кашлял кровью, верно ведь я до сих пор излагаю? Быть может, Виктор, испугавшись того, до чего только сейчас умом дошёл, потому тогда и отошёл в сторону. Молчанов рассказывал совершенно невероятные, страшные вещи. Оживление мёртвых — чудо Господне! Но ведь Соколовы… Илья Авдиевич от такого чуда сам в петлю полез. — Послушайте, я на самом деле никакого Леваницкого не знаю. Я просто… — Виктор Алексеевич продолжил после небольшого колебания. Для него вдруг всё стало кристально чистым, как после глотка родниковой воды после крёстного хода, в котором он, к стыду своему, принимал участие всего раза два или три в жизни, и то давно, так давно. — …считайте, что у меня свой долг. Вот вы говорите, потеря. Что люди тоскуют, воюют со смертью. А у меня никто не умирал! Сын без вести на фронтах сгинул, кого тут воскресишь, ни тела, ни крови, ни даже праха какого… Жена ушла, не выдержала всего этого. В начале очень уж непросто было. С другими родственниками тоже как-то со всеми потерялся, такой тогда хаос был в стране, а уж в эмиграции нас вообще никто не ждал. И что получается, всего-то и осталось у меня, что те, кто вокруг меня, до кого голос да глаз доходит, а это, знаете ли, такие товарищи по несчастью… Похожие чем-то. Вот с давним другом встретился, тут, в Париже. А он изменился так… Понимаете, у меня никто не умирал вот так вот, трагически. Люди менялись, терялись, уходили. И вот Илья Авдиевич, семьянин, душа-человек. Вот так вот в петлю? А после себя только икону эту да загадку с сыном оставил. Я тогда и понял, что если до конца этой истории не дойду, не пойму, что случилось, то такую подлость совершу по отношению к покойному!… — Он бурно выдохнул, не справившись с чувствами. — Ах, да что это я вам разжёвываю! Вы-то наверно всегда в центре событий были, не терялись, не оказывались в одиночку посреди нигде и ничего! Чтобы успокоиться, пришлось даже схватить Молчанова за рукав. — Ладно, простите Бога ради. Это всё нервы. Мы с Беатой вам поможем, конечно же. Вы только ей не говорите, что Жоржа и Ольгу вы сами... — Уж будьте покойны, милейший, я о таких своих поступках распространяться не намерен, — хмыкнул Молчанов, отдёрнул руку и, повернувшись, побрёл дальше. — Главное, чтобы вы помалкивали. —Тогда… надо придумать, как это у вас называется, легенду? — Не распространяйтесь много перед вашей племянницей, вот что, — сказал Молчанов. — Она ведь, кроме меня, никого не знала? Не знала. Ну и незачем ей знать ни о ком, кроме меня. — Нет уж, вы знаете что, вы сперва говорите, что один остались, Иван Игнатьевич, а потом нос начинаете воротить от тех, кто помочь вам может. Виктору стало настолько обидно за свою племянницу, что всё пережитое отошло для него на второй план. Некоторое время спутники шли по лесу молча, пока за стеной деревьев не показалась узкая асфальтированная дорога, шедшая под уклон, где из-за стены леса показывались крытые красной черепицей крыши невысоких домов. Виктор Алексеевич и Молчанов переглянулись, осмотрелись по сторонам, прислушались, не едет ли машина. Всё было тихо. — Идём по обочине, если услышим машину, прячемся в лес, — скомандовал Молчанов. Виктор Алексеевич согласился, молча кивнув. Двинулись. — Она вообще-то всё знает про дела, связанные с Ильёй Авдиивичем и даже с этим Леваницким, я ей всё рассказал! — помолчав, сказал Коробецкий. — И она именно потому мне помочь согласилась, что дело и правда запутанное и достойное. Уж кто-то, а дети Соколова об этом точно должны узнать. По крайней мере то, что отец их, быть может, не без греха, но точно не самоубийца! — Слушайте, придумывайте сами, что ей говорить, —огрызнулся Молчанов. — Это ваша забота, не моя. Я всё равно в этой стране не собираюсь оставаться дольше, чем требуется, чтобы купить билет до Берлина. — Какие же тогда ваши дальнейшие планы? — Мои дальнейшие планы… — тихо и задумчиво сказал Молчанов, оглядываясь по сторонам, — пока что мои планы — добраться до какой-нибудь гостиницы в Париже. Для этого нам нужно найти таксофон. Если вы найдёте какой-нибудь вон там, — Молчанов указал на строения вдалеке, — будет замечательно. Если нет, зайдите в какой-нибудь кабак и попросите позвонить. Только ради всего святого, не показывайте им, что вы русский. Я, сами понимаете, — Молчанов показал на свой мокрый, вымазанный грязью костюм, — в таком виде появляться среди людей не могу. А вы всё-таки чуть приличнее меня одеты. Только вот тут надо почистить, — Молчанов вынул из кармана платок, опустился на корточки и принялся счищать грязь с колен брюк Коробецкого, больше, впрочем, размазывая. — Да это-то само собой разумеется! — Виктор Алексеевич всплеснул руками, как бы заодно протестуя против такой услуги по очистки, но с места сходить не стал. — Я же вас спрашиваю про более глобальную картину. Думаю, нам нужно обязательно поужинать где-то, где вы нам с Беатой рассказали бы хотя бы про этих страшных людей, что нас сегодня убить пытались. Они ведь и за нами теперь могут явиться, не только за вами. Почему же вы кстати решили именно в Берлин бежать? Молчанов поджал губы, размышляя. — Не в Москву же мне бежать… — сказал он наконец. — Мог бы в Мадрид, наверное, но Берлин — это, пожалуй, как-то пристойнее. А ужинать ни с кем я не буду, ни с кем не буду встречаться, — жёстко сказал он. — Уж не с Авдием ли Соколовым хотите увидеться ещё раз? Думаете, это он мог навести на вас преследователей? — Коробецкий сам сперва не понял, зачем это сказал, но тот же внутренний подсказчик велел ему сунуть руку в карман и схватиться за пистолет. На всякий случай. Так и правда было спокойней. А устами экс-чиновника тем временем продолжала говорить злость. — Вы, сударь, кажется, пожалели уже, что о помощи меня попросили, или же считаете, что помощь эта должна свестись к эскорту до гостиницы? Мы с моим другом, чью фамилию вы забыли, тоже время зря не теряли, и поверьте, даже после такого холодного душа, что вы мне сегодня устроили — отступаться не собираемся. — И не отступайтесь, — сказал Молчанов, поднимаясь с корточек и пряча грязный носовой платок в карман. — Я же вам не просто так это всё рассказываю, не по доброте душевной. Я с вами свяжусь, как буду в безопасности. А вам со мной видеться лишний раз — значит привлекать к себе внимание. Вы счастливы должны быть, что во второй внутренней о том, кто вы такой, судя по всему, не подозревают. А с Авдием советую не связываться — он за другую команду играет. Виктор посмотрел на посуровевшего Молчанова всё ещё немного недоверчиво. — Я надеюсь, вы и правда выйдете на связь, скажем, уже завтра? Пока что расскажите хотя бы про эту «другую команду». Мой друг сейчас в Берлине и ему может понадобиться предупреждение, он ведь ничего не знает. — Это какой друг, тот, что с вами на ферме был? — спросил Молчанов. — Я вспомнил его фамилию: Барташёв. — Да, мы с ним потом разделились. Он мог бы и вам помочь, там, в Берлине, если бы я точно знал, что с вами действительно можно иметь дело, и вы не попытаетесь нас подставить ради какой-то своей выгоды… Простите, Иван Игнатьевич, но у меня до сих пор перед глазами та сцена… у обочины. Если уж вы своих друзей так запросто… то что с чужими вам людьми сделаете, даже подумать страшно. — Это хорошо, что он там, — сказал Молчанов. — Не стоит вам за него беспокоиться. Ну подумайте — какой мне резон убивать его? Что я, маньяк? А где, кстати, третий, который был с вами на ферме, подросток из Швейцарии? — Он… мы с ним разошлись. Ну да оно и естественно, он человек молодой ещё, ему это всё сложно было понять, зачем двое взрослых мужчин решили вдруг стать искателями правды. В общем, на него рассчитывать смысла нет, забудьте, он уже наверно дома у себя в Швейцарии где-нибудь. Так что, вы мне объясните, кто именно эти странные фёдоровцы, которые как-то, Господи, дай разума, оживили Соколова Александра и этого Леваницкого? А то пока что вы всё больше меня расспрашиваете, и всё что-то думаете про себя да думаете. Зайдя вновь на незнакомую территорию подпольной войны, Коробецкий заметно разнервничался. — Вот мы и добрались до самого важного, Виктор Алексеевич, — сказал Молчанов, оглядывая брюки Коробецкого, грязь с которых он не столько очистил, сколько размазал по коленям. — Плохо очистил, ну, скажете, поскользнулись и упали в грязь. Ничего страшного. Это секта, Виктор Алексеевич. Некоторые говорят — новая религия, некоторые — тайный орден. Они говорят, что оживляют людей и приводят в пример этого своего Леваницкого, а с недавних пор ещё и Александра Соколова. А Александр Соколов, между прочим, сын одного из двух основателей этой секты. А что до Леваницкого… Кстати, откуда вы знаете его имя? — От Ильи Авдиевича, но не больше чем имя. Правда, он подозревал, что сейчас тот живёт под другим именем. А почему это важно для разговора? Уж не хотите ли вы сказать, что Леваницкий - второй основатель? — Коробецкому вспомнилось письмо Ефима, где тот писал, что Авдий поведал ему о членстве Леваницкого в этом их тайном сообществе. — И неужели это правда… оживление? Вы вроде бы и сами в это верите? Но по всему выходит, что даже Илья Авдиевич в это не верил! А вы говорите, основатель. — Конечно, не верил, — фыркнул Молчанов. — С чего бы ему верить, если он прекрасно знал, как всё это устроено. Разумеется, это всё обман, Виктор Алексеевич. Я вам расскажу о Леваницком, раз уж вы его не знали. А вы сопоставьте с тем, что слышали о нём от Ильи Авдиевича. Леваницкий был простой коммивояжёр в конторе, которой владел сын Ильи Авдиевича, Авдий Ильич. Дьявол его знает, чем он приглянулся Илье Авдиевичу, но он и второй основатель секты — его имя я вам говорить не буду — уж я не знаю как, запудрили ему голову или запугали, или наобещали золотых гор и славы нового Лазаря, я не знаю подробностей. В общем, они вовлекли его в чудовищный спектакль. На протяжении двух лет Леваницкий разыгрывал смерть от туберкулёза: кашлял, харкал кровью, лежал в постели и так далее. Разумеется, никакого туберкулёза у него не было. Наконец, в двадцать четвёртом году Леваницкий — в кавычках — скончался. А через месяц с небольшим вдруг снова появился на публике. Так было объявлено о первом в истории оживлении человека. А теперь я хочу вас спросить: вот вы слушаете меня и, наверняка, думаете — а откуда я знаю, что это был спектакль? Может быть, Леваницкий и правда умер и воскрес? Так ведь, скажите? Виктор Алексеевич задумался перед тем, как ответить. Ему всё ещё было тревожно от того, что он понимал: сейчас ведущий в их паре - не он. Этому Молчанову убийство двух товарищей сошло что с гуся вода (или по крайней мере он себя настолько хорошо держал в руках), стоит вот теперь, разглагольствует так бойко - заслушаешься. А ну как скормит чего, и не заметишь ведь. Однако, с логикой Ивана было тяжело спорить. — Вы знаете, я бы и сам, пожалуй, на вашем месте так подумал. Что всё это представление какое-то. Однако, вы с такой уверенностью об этом утверждаете, что мне даже кажется, будто вы сами там присутствовали. Внедрены оказались? То есть были внутри этого... ордена. Или секты. Коробецкий запутался в непривычных терминах и насупился. — Да-с, — скромно ответил Молчанов, — больше того, лично участвовал в подготовке так называемого погребения. Потому и говорю с такой уверенностью. — Но как же тогда... что вы скажете про Александра? И что это за путаница с его полным тёзкой, вы же там явно по этому делу были, в Тонне-Шарант? Виктор Алексеевич почувствовал себя уверенней после перехода в наступление, расслабился и разжал пистолет в кармане, даже позу сменил, скрестив руки на груди. — Тут я вам многого говорить не стану: этот человек всё ещё живёт в Тонне-Шаранте, и лишние знания о нём могут ему повредить. Скажу лишь, что этот человек — наш. — Хорошо, понимаю. Но получается, что вы до сих пор в этой организации… присутствуете? И Александр, значит, не погибал от рук бандитов, как в Иллюстрированной России писали? Значит, он такой же мошенник что и Леваницкий, и для отца такой спектакль разыграл, да не рассчитал эффекта?! Переживающий в памяти все те ранние дни приключения экс-чиновник с ужасом подумал, если всё предположенное им - правда, то Илья Авдиевич просто стал жертвой какого-то глупейшего розыгрыша, но с таким трагичным финалом. — Александр, разумеется, ни от чьих рук не погибал. Разумеется, он такой же мошенник. Зачем ему потребовалось разыгрывать этот спектакль, я могу лишь гадать. Верно одно: в последние месяцы жизни Илья Авдиевич прятался и от него, и от всех остальных из своей компании. — Какой кошмар… - прошептал поражённо Коробецкий, заметно расстроившись и погрустнев. - Но деньги, но икона… ничего не понимаю! Может быть это всё Платонов?! Может быть, Илья Авдиевич и не думал руки на себя накладывать, да как он мог, правоверный! Вы, вы же упоминали этого задиру, как же он с вами связан? Платонов. Молчанов поморщился, вспоминая. — Какой ещё, к дьяволу, Платонов? А, вспомнил, это тот, кому вы на ферме голову проломили. Вероятно, Барташёва вашего рук дело? А, впрочем, всё одно, можете не отвечать. Слушайте, ну, меня там не было, я не знаю, что там действительно произошло. Это я у вас спрашивать должен, а не вы у меня. В любом случае, Платонов к этому делу вроде бы отношения не имеет. Я бы посоветовал забыть вам о нём вовсе, но всё же предпочёл бы, чтобы вы о нём помнили — разумеется, исключительно в том отношении, что если вы меня захотите вдруг сдать властям… ну, впрочем, обойдёмся без угроз, мы сегодня и без того нанервничались. Виктор Алексеевич моргнул пару раз испуганно и вдруг словно уменьшился в размерах, сморщившись и потускнев. Что он помнил точно, так это то, что Платонов ещё был живой на тот момент, когда они покидали общую спальную. Да он сам лично его ноги нёс, помогал его в кровать укладывать! Неужели на ферме были люди этой второй внутренней, что бы это ни значило? — Конечно, да, что вы, что вы, — ответил Коробецкий с энергичным кивком. Ему вдруг стало совершенно не по себе. Этот человек, стоящий перед ним, он мог защитить себя и знал, что он делает, но он, похоже, и сам понятия не имел, с какими силами связался. Вот так вот в ту же ночь достать случайного свидетеля изначальных событий? Внедриться в команду к самому Молчанову, сдать, предать, гнать и стрелять? Да они же и завтра могут так же нагрянуть, запросто в дверь постучаться. Из глубины оставшегося за спиной леса ощутимо повеяло могильным холодом. — Вы мне скажите ради Бога, вы этому... хм, как же... а, Суханову! Вы ему наш адрес говорили? Беата же ничего не знает, а вдруг они уже там! И ещё, вы говорите, свяжитесь с нами, но как долго прикажете вас ждать? Нам же самим в бега надо, получается! До Коробецкого только сейчас начали доходить истинные масштабы сгущающихся над головой туч. Помрачнев, Молчанов ответил: — Нет, вашего адреса он не знал. Этот ваш Михельсон контактировал только с Жоржем и со мной. Мой вот знал, к сожалению, потому-то я сейчас даже домой вернуться не могу. Впрочем, вы правы, вам тоже лучше куда-нибудь уехать. Не ровен час, выйдут и на вас. Только оставьте мне адрес пост рестрана, куда я смогу вам написать. — Раз такое дело, я вам признаюсь, мы с племянницей собирались в Лондон, искать этого Леваницкого, — ответил Коробецкий. — Могу указать отель, хотя после всего того, что вы мне тут рассказали, уже не думаю, что это хорошая идея... Как бы нам всем теперь не в Германии встретиться! Борис остался в России, Анна мертва, Авдия Ефим уже навестил, да вы говорите, что он с Александром на стороне Леваницкого… Я уже даже не уверен, что Влас сумеет что-либо изменить. Что мы ему-то скажем, как можно весь этот сор — с улицы, да в избу-то?! — Виктор даже руками всплеснул от отчаяния. — А икона? Мы же думали, что это семейная реликвия. А она теперь, получается, ваша, даже Власу нечего передать. — Виктор Алексеевич, — Молчанов остановился и, уперев руки в бока, строго взглянул на Коробецкого. — Вы же не считаете, что я это всё вам рассказываю, чтобы душу излить и исповедаться? Так ведь? Я бы, конечно, предпочёл, чтобы вы нам продали икону, мы бы вас на углу высадили с деньгами, и вы бы пошли своей дорогой, а мы своей. Но вышло как вышло: моей группы больше нет, мне нужны помощники. Не знаю, могу ли я полагаться на вас, но раз уж вы в это дело влезли, ваша кандидатура, полагаю, не хуже иных. Езжайте в свою Англию, а я с вами свяжусь и сообщу, что вам делать дальше. Будете каждый день заходить на местный главпочтамт — я не знаю, как он по-английски называется, — в общем, в главное почтовое отделение в Лондоне и спрашивать телеграмму до востребования из Берлина на своё имя. Что будет в самой телеграмме, неважно: вы узнаете моё новое имя — я, разумеется, сменю паспорт в Германии, — и мой новый адрес, на который вы сможете мне слать телеграммы. Будете хорошо работать — пять тысяч, которые вы сейчас получили, покажутся вам мелочью на сдачу в табачной лавке. Вам это ясно? А икона? А что с ней? Она остаётся у меня. Коробецкий от стресса даже зубами скрипнуть не смог. Ну остаётся икона и остаётся, не драться же теперь за неё, не стрелять же в спину! Он лишь вздрогнул от такого хода мыслей. — Да, вы правы, душу здесь я изливаю, не вы. Однако, позвольте уж тогда до конца долить. Я там в машине, если угодно, дурака валял. Деньги для меня не главное в жизни, денег не было, денег и не будет. А если и будут, как вы говорите, так и они не помогут всю эту историю забыть! — Уж позвольте, милейший, дурака вы сейчас валяете, — перебил разошедшегося Коробецкого Молчанов. — Денег у вас толстая пачка в кармане и ещё бог знает, сколько тысяч дома или в банке или куда вы их запрятали. Не рассказывайте мне тут сказок про бессеребреничество, прошу вас, я в них не верю со времён смерти Толстого. — И что же, вы считаете, что мы с Ефимом за просто так всё это, не побоюсь сказать, расследование провели? Вы знаете, сколько денег мы там нашли в мешке на ферме? Пятьдесят тысяч франков! Названная сумма на Молчанова эффекта не произвела: тот лишь поднял бровь и хмыкнул. — Ничего так, — сказал он. — И это на троих-то! — продолжал Коробецкий. — Можно жизнь новую начать! И знаете что, верьте или нет, но мы её и начали, да-да. Только не с открытия предприятий каких, не с покупки автомобилей да костюмов… — Виктор Алексеевич посмотрел на свои запачканные, но кое-как отчищенные и всё же недешёвые пиджак да брюки, поморщился и махнул рукой, — ...это? Это Париж. Так вот называйте как хотите, у меня у самого в словаре таких слов нет, да только нам за это паломничество затянувшееся никто дополнительной награды не обещал. И кто только мог подумать, что это превратится в такое чудовищное сальто-мортале с сектами, погонями и стрельбой... в-в упор! Гордо вскинув голову, Коробецкий круто развернулся и сделал несколько шагов в сторону цивилизации, искать таксофоны и таксомоторы, но потом обернулся. — А знаете что, я и не жалею ни секунды! Я и с племянницей потерянной встретился, и людей изнутри узнал, и самого себя. — Стойте же вы, чёрт побери! — окликнул Коробецкого Молчанов. — Что вы сейчас делать собрались, куда пошли? — За такси, конечно же, — не останавливаясь, ответил Коробецкий, — Подождите здесь, я надеюсь, долго не придётся. Я только найду таксофон, вызову сюда машину и вернусь. — Стойте! — Молчанов догнал Коробецкого, дёрнул за рукав. — Нельзя вызывать постороннего человека. Вы думаете, сложно будет таксисту связать двух измазанных грязью русских и разбитую машину с трупами в паре километров отсюда, о которой завтра будет во всех газетах? Тут Коробецкий думал не долго. — Вы правы. Я позвоню тогда лучше Беате, у неё есть знакомые с авто. — На них можно положиться? Чёрт, хотя что я спрашиваю, конечно, нельзя… — Молчанов закусил губу. — Ну, выхода всё равно нет. Ступайте. Притворитесь немцем или каким-нибудь датчанином, что ли, когда будете звонить. — Что-нибудь придумаю, — Коробецкий не стал спорить. Окончание их разговора сложно было назвать дружеским, но, может, оно и к лучшему. И так порядком задержались, а эта машина ещё когда до сюда доберётся… Шлёпая мокрыми ногами по шуршащему гравию обочины, Виктор Алексеевич направился к посёлку. 13:34 12.10.1926
Франция, коммуна Шавиль,
Вокзал Шавиль-ВелизиВиктор Алексеевич шёл по широким, полупустым, звёздами расходящимся от площадей улицам, чувствуя себя шпионом, пробравшимся во вражеский город: а вдруг о разбитой машине и тройном убийстве уже сообщили, вдруг весь город ищет скрывшихся преступников? И в самом деле — странно посмотрел на проходящего мимо, в мокром, испачканным грязью на коленях костюме, без зонтика, с портфелем в руке неизвестного человека мясник в белом фартуке, сидящий у широкой витрины своей лавки, проводили долгим взглядом две дамы, встретившиеся на улице. Виктор Алексеевич не знал, куда идти: кабаков он на своём пути мимо безучастных, хмуро спрятавшихся за живыми изгородями домов не видел, таксофонов в этой части городка он не находил — да и не понимал он долгое время, как называется это неприветливое место. Всё так же моросил с низкого серого неба холодный осенний дождь, задувал сырой ветер, неприятно холодя промокшую на груди рубашку. Вспомнилось, как весной этого года он ехал из Парижа на юг устраиваться на злосчастную ферму, и по пути промок так же, вынужденный — денег к тому моменту оставалось на кусок хлеба в день — ночевать на вокзальной скамье и попав под дождь. После этого всю дальнейшую дорогу его знобило, кружилась голова, болело горло, и отрадно было лишь то, что не хотелось есть. Но прокаленный воздух Марселя, сверкающее алмазной рябью море, палящее солнце в выцветшем от жары небе быстро его тогда исцелили, и почти невероятной казалась этот пахнущий сосновой смолой и южными травами сонный зной в унылой мглистой мороси этого осеннего дня. «Шавиль-Велизи», понял Виктор Алексеевич, выйдя на круглую мощёную брусчаткой площадь и взглянув на надпись на фронтоне вокзала. Отсюда наверняка можно было и позвонить, и уехать в Париж. В небольшом, полутёмном, гулко отдающем звуки эхом зале ожидания на скамье коротал время коммивояжерского вида господин с саквояжем и газетой, а за стеклом кассы дремал билетёр, Виктор Алексеевич быстро выяснил по расписанию, что ближайший электропоезд до Gare des Invalides отправляется в 13:45. Следующий — через полтора часа. Купить билет сейчас, сесть на поезд — и через час быть уже в Париже, прочь от этого ада, прочь от этого толстячка-убийцы с залысиной и тараканьими усиками, дожидающегося его в лесу!
-
И всё же славно отыграли. Почти что отработали, хех.
Выбор в конце интересный.
-
|
-
В любом случае, спасибо за игру.
|
Погрузившись в тяжёлую, сумбурную дрёму, в которой беспорядочно мелькали то крупы лошадей, то лента дороги, то полузабытые, невозможные здесь лица, Милош сначала и не понял, проснувшись, отчего все так всполошились, отчего все выбегают на улицу, палят. Погоня! — пронзила первая мысль, — настигли, догнали, обложили! Как есть, не обуваясь, только схватив карабин, Милош выскочил на улицу… чтобы увидеть, как в удивлённом, готовом разразиться проклятиями и руганью оцепенении замерли бандиты вокруг разрезанной сумки, из которой ещё ссыпался на землю песок. И первое, что он почувствовал, было — облегчение: нет преследователей, не летят пули из-за углов соседних домишек. А в следующий момент он понял, что означает распотрошённая сумка, камни под ней и крики, ругань вокруг: то, что всё, ради чего он убивал людей, сжигал дома, трясся вот уже который день в седле, — всё это было зря, и его, несчастного, ненужного никому нищего, опустившегося, полусдохшего уже дурака опять провели, как это всегда и все делали. «Ладно ещё, мыться не залез, дурак, а то бы мокрый с голым задом сейчас тут скакал!» — зло подумал он, и искренне пожелал смерти всем вокруг.
Чертыхаясь, Милош бросился в дом, принялся суетливо натягивать сапоги, схватил седло, побежал седлать коня.
-
«Ладно ещё, мыться не залез, дурак, а то бы мокрый с голым задом сейчас тут скакал!»
Признаюсь, я рассчитывал на такую сцену).
|
Василий Алексеевич Вадиму сразу пришёлся по душе: было очевидно, что, в отличие от спутников Вадима, кто смотрел на народное ликование кто хмуро, кто кисло, кто недоуменно, Эллена чувствует сейчас то же, что и сам Вадим.
Впрочем, Вадиму в этот день приходился по душе любой с красным бантом на груди, с тем знаком свободы, который так взбесил местное начальственное кувшинное рыло. Ну ничего, думал Молоствов, пунцовея и неловко снимая свою ленту с погона вслед за асессором, недолго уж тебе командовать осталось. Откомандовали своё, откричались на безмолвствующих подчинённых, отхлестались плётками, отсиделись на протёртых бархатных подушечках в пыльных кабинетах с безыскусными портретами императора на стенах и пошлыми картинками в нижнем ящичке. Теперь-то всё будет по-другому.
В ресторане («Романовъ», какая ирония!) Вадим, не желая пиршествовать за чужой счёт, заказал лишь лёгкую закуску, но от вина, пускай час был и ранний, не отказался. Скосился на щекастого господина по соседству, который стеснять себя в угощении за чужой счёт не собирался: ещё один держиморда, помельче чином, правда. Некоторое любопытство вызвала дамочка, и своей оксюморонной фамилией, и манерами напоминавшая девиц, которых Вадим видывал на квартире у своего приятеля по Балтийскому заводу, инженера Телегина, не чуждого поэтическому миру, — те были все до одной загадочные химеры, неврастенически ходящие над пропастью (хождение предсказуемо завершалось трагическим в неё падением в виде какой-нибудь неразборчивой и нечистоплотной связи). И таких людей теперь берут в контрразведку? Впрочем, ему ли, ещё полгода назад колесившему по Лифляндии в тряском кузове автомобильного радиопеленгатора, удивляться, кого в неё берут? Возможно, у мадемуазель свои таланты. Вот у второй, местной, мадемуазель таланты, похоже, имеются, и даже весьма пикантного свойства. Боже, какой вертеп эта контрразведка.
Прочие коллеги большого интереса не вызвали, разве что в очередной раз заставили подивиться, кто и по какому принципу их сюда подобрал, каждой твари по паре: молодых, опытных, кадровых военных, офицеров военного времени и гражданских, мужчин и женщин? Разве что, может, какой чинуша, не думая, ткнул карандашом против приглянувшихся имён в списке и, как говорят казанские татары, усаживая пассажира в санки-барабус, — айда! На таком айда всю войну и тянем. Ну ничего, теперь всё изменится.
Эллена начал говорить о германских диверсантах, и Вадим, конечно, внимательно слушал, ведь дело было вправду нешуточным, но не мог уяснить, какое всё это отношение имеет к его роду занятий. О чём он и поспешил высказаться, как только в разговоре возникла пауза.
— Господин Эллена, — начал Вадим, — я первым делом считаю нужным доложить, что я по роду службы не имел отношения ни к слежке, ни к симпатическим чернилам, ни к прочим подобным штучкам. Я — инженер радиоразведки и, честно говоря, полагал, что сюда направлен для развёртывания радиопеленгационной станции. Впрочем, думаю, я могу высказаться по поводу данного дела, разумеется, в той его части, что касается мне знакомых вещей, а именно связи. Говоря прямо, я не думаю, что для группы, имеющей задачей лишь диверсию, будет предусмотрен какой-либо канал передачи сведений. Но если мы допустим, что помимо диверсии германские агенты также имеют задачей сбор сведений об Архангельске, то, конечно, связь у них должна быть. Вряд ли это радиопередатчик, — «к сожалению», мысленно добавил Вадим, — переносные устройства слишком маломощны, чтобы послать отсюда искру хотя бы в Швецию или Норвегию, не говоря уж о Берлине, но германские шпионы часто передают зашифрованные сообщения телеграммами, с виду обыкновенно коммерческого или личного характера. Как вы понимаете, легенда для передачи частых сообщений и у англичанина, и у норвежца подходящая. Моё предложение — для начала расспросить сотрудников почтамта об этих господах и их помощниках и наказать телеграфистам на будущее копировать их телеграммы и время их подачи. Впрочем, — после короткой паузы добавил он, — радиопередатчик тоже нельзя сбрасывать со счетов: им агенты вполне могут пользоваться для передачи данных на какое-нибудь нейтральное судно. А посему я должен вас, господин Эллена, просить в будущем ознакомить меня с тем, как в Архангельске поставлена служба радиотелеграфной слежки.
Последнее Вадим добавил не столько из веры, что немцы действительно могут пользоваться такой сложной и ненадёжной схемой связи, сколько из надежды, что ему всё-таки здесь дадут заниматься своим делом. А не бегать по улицам незнакомого северного города как, прости Господи, сексот, да ещё и в компании экзальтированных девиц и провинциальных держиморд, да ещё и в клокочущей суматохе — и теперь можно уже было быть уверенным в этом слове — Революции!
-
Он прекрасен! Человек и пост, всмысле)
-
Какие чувства, какой подход! Какие идеи!
-
|
Молчанов сел на заднее сиденье рядом с Коробецким, легко хлопнул по плечу водителя. Тот обернулся: человек лет тридцати с прилизанными бриолином светлыми волосами и пушистыми усиками над губой. Красивым серьёзным, со впалыми скулами, лицом и шофферской курткой он походил на бывшего русского офицера, служащего таксистом.
— Аванти, Жорж, —сказал Молчанов. Водитель, не говоря ни слова, плавно тронул машину с места.
— Мне очень жаль, Виктор Алексеевич, что мне пришлось упомянуть Платонова, — начал Молчанов, — но боюсь, что иного способа отвязаться от вашей назойливой родственницы у меня не было. А мне очень хотелось бы сохранить наш разговор в, так сказать, фертраулихькайте. В конфиденциальности, по-русски, то есть.
Оставшись в меньшинстве, Коробецкий подрастерял уверенности, но ответил твёрдо:
— Беата здесь ни при чём. Она даже про деньги не знает, которые, поверьте, мы не крали, а взялись доставить родственникам Соколова! Кто тогда мог подумать, что это окажется настолько непростой задачей! — Виктор даже поёжился, вспомнив трагическую смерть Анны.
— Вот и я говорю, что раз не при чём, то пускай и остаётся не при чём, — с готовностью поддакнул ему Молчанов.
— Но что же нужно вам, Иван Игнатьевич? В Тонне-Шарант вы произвели на меня самое благоприятное впечатление порядочного издателя, разбирающегося в печатном и данном слове. А теперь... угрозы, шантаж. Что с вами произошло?
— Я прошу прощения, если я произвёл на вас такое впечатление, Виктор Алексеевич, — развёл руками Молчанов. — Я вам действительно, ну, чего уж греха таить, наврал, что мы едем к Михельсону — я, собственно, его и видел-то раз в жизни, и он тут, поверьте мне, совершенно не при чём, — но в остальном я говорил полную правду: я действительно собираюсь у вас купить эту икону, которая у вас сейчас в портфеле. И заметьте, я настолько деликатен, что даже ни словом не упоминаю о том, что иконка-то, хе-хе, собственно, вам не принадлежит.
— Не принадлежит и вам, — огрызнулся экс-чиновник, но поспешил взять себя в руки. — Но позвольте, вам-то с неё какой толк? Вы же не богослов и даже, рискну предположить, человек не набожный.
Тут до Виктора дошло, что они действительно едут не к оценщику. Он начал коситься на улицу в попытке сориентироваться, а руки его вцепились нервной хваткой в портфель. Автомобиль только-только проехал по Гренельскому мосту мимо обращённой спиной к мосту статуи Свободы с факелом в руке и двигался по району Пасси, где селились русские эмигранты и где действительно находилась лавка Михельсона. Но вот появился поворот на нужную улицу, Жорж плавно остановил машину, пропуская поперёк улицы стайку машин, тускло блеснувший стёклами трамвай… и двинулся прямо дальше, оставляя перекрёсток за спиной.
— Хорошо, хорошо, деньги нужны всем, я тоже был с вами не до конца честен. Однако, вы, должно быть, не знаете, что такое бедность, каково это, груши да яблоки в корзины собирать день за днём! — в запале самооправдания Коробецкий с ужасом подумал, что недалёк от истины. Он ведь использовал эти деньги и так и не достиг цели. А сейчас использует отношение к ещё большим деньгам в качестве защиты. И отношение это не такое уж наигранное.
— Деньги всем нужны, тут вы правы, с этим я, милейший, и спорить не стану, — ответил Молчанов. — Что же до иконы, то тут вы ошибаетесь: как раз нам она и принадлежит, сударь мой. А толк с неё самый простой: стоит она довольно дорого. До прошлого года она хранилась в Эрмитаже в Ленинграде, и есть основания полагать, что под окладом скрывается роспись Михаила Дамаскина, критского иконописца, учителя Эль Греко. Стоит она, конечно, несколько дороже того, что я собираюсь вам предложить, но ведь это гешефт, сами понимаете. Да и кому бы вы её продали? А потом, у вас же остались деньги, которые вы забрали у Соколова? Я их не требую назад, они ваши.
Коробецкий некоторое время молчал, то ли продолжая всматриваться в улицы, мутно мелькающие за стеклом, по которому косо сползали капли мелкого осеннего дождя, то ли погрузившись в лихорадочные раздумья. Автомобиль всё удалялся от центра Парижа, двигаясь к пригородам, к Булонскому лесу: покой, шелест мокрых ветвей, чёрные от воды тихие гравийные дорожки — кому в такую собачью погоду захочется гулять по парку? Могут вывести из машины и пристрелить к чертям собачьим, никто и звука выстрела не услышит.
Наконец, Коробецкий спросил:
— Я предполагал, что икона ценна, но скорее как семейная реликвия. Вы хотите сказать, что она не имеет отношения к Соколовым? Как же тогда… Александр, Илья Авдиевич. Ничего не понимаю.
Тон у Виктора был растерянный, но за стенкой поражения скрывалось бурлящее негодование. Он пытался вывести собеседника на то русло, что могло бы привести к интересовавшим его ответам.
— А что Илья Авдиевич и Саша? Они работали с нами. Саша, точнее, до сих пор работает. Но, впрочем, — помотал головой Молчанов, — какое это имеет значение? А, Жорж, — обратился он к водителю, перегнувшись через спинку переднего сиденья, — мы ведь приехали, кажется. Да, вот на этом перекрёстке.
Машина остановилась у перекрёстка, где уже поджидали два человека — женщина и держащий над ней зонт низкорослый крепыш в котелке и летнем пальто, с наружностью циркового артиста, поднимающего зубами стол. Средних лет долговязая дама была одета старомодно, и по широкополой шляпе с вуалью, по строгому чёрному платью Коробецкий сразу узнал в ней Ольгу Геннадьевну Успенскую, бывшую вместе с Молчановым на станции Тонне-Шарант. Успенская, не дожидаясь, пока водитель Жорж перегнётся через сиденье и раскроет дверцу, уселась на переднее сиденье, циркач же обошёл машину и уселся сзади, таким образом, зажимая Коробецкого между Молчановым и собой.
— Доброе утро, Ольга Геннадьевна, — учтиво поздоровался Молчанов, приподнимая край шляпы.
— Здравствуйте, Иван Игнатьевич, — сухо ответила Успенская и знаком показала Жоржу трогаться. — Приятно снова увидеться, Виктор Алексеевич, — обернулась она к Коробецкому. Циркач и Жорж хранили молчание.
— Деньги у вас с собой? — спросил Молчанов.
— Могли бы и не спрашивать, — ответила Успенская.
Всё-таки сражённый наповал (было бы куда падать!) ответом Молчанова Коробецкий даже на приветствие дамы не ответил, только кивнул, пытаясь собраться с мыслями. Вопрос сформулировал давно уже вертевшееся на языке:
— Так вы, господа, вы из… И Александр? И даже… Илья Авдиевич?!
— Да ну что вы? — рассмеялся Молчанов. — Большевики — сволочи, это я вам как офицер Колчака говорю.
— Вы не офицер Колчака, вы сидели там в телеграфном агентстве, — вдруг подал голос Жорж.
— Не сидел, а выезжал на фронт! Впрочем, не будем об этом, — благодушно махнул рукой Молчанов.
Виктор Алексеевич издал нервный смешок в такт Молчанову, но то ли осёкся, то ли поперхнулся, опять что-то вспомнив не к месту. Автомобиль тем временем, огибая Булонский лес, двигался куда-то к южным пригородам Парижа, по тихим улицам, засаженным тёмными, мокрыми от дождя платанами. Редко машина то обгоняла нагруженный ящиками грузовик, то огибала, чтобы не обрызгать, едущего по обочине велосипедиста в плаще, то её саму обгонял таксомотор. Скучно моросил дождь, блестящими каплями оседая на разделённом железной стойкой лобовом стекле. Когда улицу становилось совсем не видно за россыпью капель, Жорж дёргал ручку, движущую щётки на лобовом стекле, счищал два ровных полукруга. Крепыш, сидевший слева от Коробецкого, молчал, неподвижно уставившись перед собой, будто и не человеком был, а гофмановским големом. Успенская молчала, устроив на коленях сумочку. Только Молчанов всем видом выражал готовность продолжить разговор, сидя в пол-оборота к Коробецкому и удобно устроив руку на кожаной спинке дивана.
— Но если всё так, то зачем же тогда Илья Авдиевич?… — спросил Коробецкий. — У него же, получается, дело жизни было, он же, выходит, не выживал как все мы, у него же было…
Что именно было у Соколова старшего Коробецкий так и не смог выразить, всей душой испытывая сейчас смешанное с негодованием сожаление. Работающий на белую разведку (или контр-разведку, в этих терминах экс-чиновник не был силён) Илья Авдиевич вдруг показался Виктору существом какого-то иного плана, высшего, благородного, наделённого целью в страшной, полной разочарования послевоенной жизни. Как он мог?! Как мог уйти от такого! Как мог подставить сына, соратников, Верховного!
— Знаете, — вздохнул Молчанов, — меня самого гнетёт этот вопрос. Возможно, дело в моральном аспекте нашего гешефта. Всё-таки, распродажа культурных сокровищ, которые наши предки скапливали веками, французским и американским дельцам… Я подозреваю, его это мучило.
— Не пора ли приступить к обмену, господа? — подала голос Успенская, доставая из сумочки обёрнутую буроватой бумагой пачку купюр. — Виктор Алексеевич, тут пять тысяч франков. Вы не в том положении, чтобы торговаться.
— Да идите вы к чёрту, господа таинственные, — с прорывающимся сквозь поледеневший голос злобой проговорил Виктор, доставая из портфеля свёрток с иконой.
Он уже не собирался играть в торг.
— Вот ваша икона. Не нужно денег.
— Зря вы злитесь, — холодно сказала Успенская, и Молчанов тут же подхватил:
— Ну право, Виктор Алексеевич, мы ведь не воруем её у вас. Я прошу прощения за тон Ольги Геннадьевны, она бывает резка в беседе, но будем же разумны: возьмите деньги, прошу вас!
Коробецкий коротко взглянул на Молчанова, прикусил губу и на несколько секунд отрешился от всего происходящего. Зачем эти деньги, зачем вообще всё это было, если жизнь Ильи Авдиевича принадлежала миру тайных операций и подпольной борьбы за наследие целых стран? Всё беспокойство жалкого Коробецкого — просто пыль для серьёзных господ в чистых перчатках на грязных руках, то же, что все его тревоги и желание помочь, донести идеи и думы до потомков, пускай не до своих, так хоть до таких как у Соколова, однокашника, единомышленника… который в итоге оказался ни тем ни другим. Или всё же и тем, и другим, и ещё чем-то большим?
Ведь что-то эти шпионы не договаривают… Как с оговорками про Ленинград, как с нестыковками про обеспеченного Соколова, который должен был богатых клиентов искать по столицам Европы, а не на захолустной ферме сидеть. Да ведь они же сами искали его, даже Авдия допрашивали, как Ефим писал!
Виктор Алексеевич подобрался, глаза его лихорадочно забегали. Ещё рано закрывать двери и окна, тушить свет, рано-с! История жизни Ильи Авдиевича, быть может, стала яснее, но не история смерти и того, что ей предшествовало. А значит, деньги ещё понадобятся. Ответы в Англии, а поездка на остров обойдётся недёшево.
— Хорошо… простите и вы меня, господа. Нервы. Илья Авдиевич был мне друг.
«И даже нечто большее. Надежда на понимание и согласие родственников, которых уже не сыскать мне самому? Как же поздно я это понял».
— Ну вот и славно, — ласково отозвался Молчанов, принял у Ольги Геннадьевны пачку денег, передал её Коробецкому и похлопал того по плечу.
— Вы вот что скажите мне, будьте добры хоть раз, — снова начал Коробецкий. — Илья Авдиевич… верил в науку Фёдорова, вы не знаете? Вы же должны знать. Он и его знакомый, Леваницкий. Это правда?
— Леваницкий? — тут же заинтересовано обернулась Ольга Геннадьевна. — Вы были знакомы?
Но прежде чем Коробецкий успел ответить, голос подал Жорж:
— Оля, за нами хвост. Теперь я в этом уверен.
Коробецкий обернулся и выглянул в маленькое овальное окошко в задней стенке кузова машины. За ним тут же встревоженно обернулся Молчанов. По пустой улице парижского пригорода в метрах пятидесяти за машиной Жоржа двигался чёрный спортивный автомобиль с длинным капотом, парой больших, круглых, разнесённых в стороны фар, поднятым кожаным верхом.
— Что значит «теперь ты уверен»? — резко обернулась Ольга Геннадьевна к Жоржу. — Он, что за вами с самого начала шёл?
— Нет, я бы заметил, — сквозь зубы тихо процедил Жорж. — Хвост за вами, от того перекрёстка, где мы вас подобрали.
— Никто не мог знать места, — сказала Ольга Геннадьевна. — Знали только Молчанов, я и Суханов. Суханов! — обернулась она вдруг к крепышу-циркачу, так же неподвижно сидевшему слева от Коробецкого.
— Господа, да что же такое с этой!… — вскричал было Коробецкий.
— Замолчите! — с истерической ноткой перебила его Ольга Геннадьевна и снова обернулась на крепыша. — Суханов, какого чёрта? Я же говорила!
Вдруг Коробецкий заметил, что циркач-Суханов держит в руке, поджав локоть, маленький дамский браунинг, направив его в просвет между передними сиденьями на Успенскую.
— Ни слова, — подал он впервые за время поездки голос. — Жорж, тормози, а то я её пристрелю.
— О Боже, пистолет! — вскричал снова Коробецкий и нелепо попытался толкнуть Суханова в бок. Тот, казалось, даже не почувствовал тычка. Молчанов мотал головой, оглядываясь по сторонам, то, вытягивая шею, заглядывал в заднее окошко, то переводил взгляд на Суханова, на Успенскую.
— Мы уйдём от них, мы уйдём от них? — запричитал он, обращаясь к Жоржу.
— Ну ты и сволочь, — с ненавистью процедила Успенская.
— Тормози, Жорж, — жёстко сказал Суханов. В зеркальце заднего вида Коробецкий встретился взглядом с Жоржем и увидел, как тот отчаянно показывает ему глазами на Суханова.
— Что они обещали тебе, Суханов? — продолжала Успенская. — Денег? Ты знаешь, что у нас их больше. Вечной жизни? Ты в это веришь? Обещали воскресить твоих родных? Кормили тебя этими сказками?
— Замолчи, — сказал Суханов. — Жорж, тормози! — нервно повторил он. — Ты не уйдёшь, у них лучше машина.
— Вы знаете что, вы... осторожно!!!
Виктор и сам начал паниковать, но понял, что ничего не выйдет, если не действовать.
Когда-то его так дурил сын — притворялся, что видит угрозу, которой нет. Как же подходит к случаю.
С ужасом в голосе Коробецкий указал в сторону окна, за которым, мутная в каплях дождя, проплывала глухая стена какого-то склада, словно с неё в Жоржа могли целиться или же приближался непутёвый грузовик. А сам, продолжая жест, обрушился руками на пистолет сверху вниз — и тут же в машине оглушающе громыхнуло, и пронзительно вскрикнула Успенская. Не успел Коробецкий понять, что произошло, как на его скулу обрушился чугунный и звёздный удар, словно приложили рельсом: Суханов вмазал ему с левой, да так, что Коробецкого как на качелях отбросило на мягкую тушу Молчанова. И сразу, в круговерти коротких, непонятных вскриков и возни, ещё раз грохнуло рядом, будто разорвало в клочья самый воздух в машине, заломило уши громовым свистящим звоном, и отняв руку от горящей щеки, Коробецкий увидел, как обернулся с водительского сиденья Жорж, вытянув назад руку с наганом, как едва слышно сквозь оглушительный звон кричит Суханов, откинувшись на сиденье и прижимая руку к ключице, и как едва видна над передним сиденьем кромка шляпы скорчившейся и тоже, кажется, надрывно кричащей Успенской.
-
Это не пост, а великолепная и занимательная истррия, словно глава из приключенческого романа.
-
Отличная интересная сцена!
Платаны для меня скоро станут символом всего французского)
За описание циркача-Суханова отдельное восхищение.
Ну и интрига живет.
А всё же вот что значит привычка к правому рулю - я-то думал, что Суханов справа сидит, когда отыгрывали, а он слева. Забавная смена картин в голове.
|
8:34 12.10.1926
Франция, Париж,
рю де ль-Авр, 21
пансион «Отель Авр»Всего три утра успел Виктор Алексеевич встретить в пансионе «Отель Авр» (также известном как «Бисетр»), но уже понял, что так здесь будничные утра и протекают: сначала, до восьми ещё, торопливые тяжёлые шаги хозяйки, приготовляющей завтрак на табльдот, потом надрывный, надтреснутый звон будильника за стеной, в комнате Покровского, — всегда ровно без трёх минут восемь, шум его суетливого одевания, хлопанье дверьми… Затем, в пятнадцать минут девятого, постояльцы (за исключением Беаты, которой хозяйка милостиво оставляла завтрак на табурете у двери) собирались в гостиной. Гостиная была тесновата для массивного, накрытого белой скатертью обеденного стола, и уже занявшему место приходилось вставать, чтобы дать другому протиснуться между стулом и древним красного дерева комодом на гнутых ножках, в прошлом если не позапрошлом веке, должно быть, украшавшего дом какого-нибудь французского маркиза. На комоде размещались тяжёлый бронзовый канделябр и набитая опилками кукла — высунувший язык красногубый негр. Взгляды Юлии Юрьевны на обстановку дома вообще являли собой причудливую смесь беззастенчивого мещанства и благоговейного почтения к аристократизму. В отличие от обильных ужинов, на которых хозяйка потчевала постояльцев битками и кулебяками, завтраки в «Отель Авр» были просты, и — Беата подтвердила подозрения Коробецкого — весьма однообразны: кофе или чай из самовара (скрывавшего под русским обличьем своё германское происхождение), свежая булка с маслом или мёдом, до которого Юрия Юрьевна была большая охотница, и обычно что-нибудь яичное: либо омлет, зачастую пригоревший, либо пашот, либо и вовсе по два варёных яйца на душу. Иванчук ел яйца только всмятку, Покровский — исключительно вкрутую, и, так как иногда Юлия Юрьевна путала, кому какие предназначены, им приходилось меняться. Иногда, в качестве разнообразия (и это разнообразие Коробецкий застал в первое своё утро на новом месте) Юлия Юрьевна готовила творожную запеканку с изюмом, которую полагала очень вкусной, и упоминать при ней об отдающей содой нижней корке считалось крайне дурным тоном. Вот приблизительно так и начинался этот день, пасмурный, холодный, хмурый, —хоть и был он далеко не обычным. Только вчера, по уже до боли знакомому маршруту наведавшись в британское консульство, Виктор Алексеевич узнал, что его заявление на визу одобрено, и остаток вчерашнего дня он провёл, мотаясь по инстанциям, — требовалось поставить печать в комиссариате, подтверждающую разрешение на выезд беженца из гостеприимной Франции, и, вернувшись обратно в консульство, отдать пятьдесят франков визового сбора, которые, казалось, уже и руки жгли, так не терпелось их вручить наконец, чтобы получить в свой истрёпанный нансеновский паспорт вожделенный расплывчато-синий штамп, пропуск в котором консульский клерк небрежно дополнил, надписав: «на один месяц». Заслуга в быстром продвижении визового вопроса принадлежала, разумеется, не расторопности консульских чинуш и не настойчивости самого Виктора Алексеевича, а обаянию пани Червинской, которая ещё в тот день, когда дядя с племянницей наведывались к Михельсону, договорилась о встрече со своим старым поклонником, атташе при британском консульстве, спортивном моложавым мужчиной, оставившим в Архангельске указательный и средний пальцы на правой руке (при этом он был левшой и не уставал говорить, как ему повезло). Человеком он был довольно занудливым, и потому Беата уже давно прекратила своё с ним знакомство, которое, впрочем, оказалось недолго восстановить. Приятного вечера, проведённого в компании атташе, а также обещания непременно посетить его в следующем месяце в Лондоне хватило, чтобы тот пообещал посодействовать в визовых затруднениях Виктора Алексеевича и проследить за оформлением визы самой Беаты. И вот, к этому утру всё было готово: оставалось лишь получить расчёт у мсье Поволоцкого, расплатиться с хозяйкой пансиона да купить билеты до Лондона. А утро было промозглое, холодное: узкие дверцы, ведущие на микроскопический нависающий над улицей балкончик, были закрыты, сыро серела стена противоположного здания за окном, задумчиво гундел приёмник, барабанил по жестяному подоконнику мелкий дождь, Иванчук в толстом халате и ночной шапке, похожий на согбенного азиатского божка, цокал ложечкой установленное в чашечку яйцо, а не без франтовства одетый Покровский одним глотком докончил кофе и полез в карман за сигаретами. «Ну не здесь же, Иван Николаич», — укоризненно сказала Юлия Юрьевна, указав на листочек, на трёх языках запрещающий курить в гостиной. «Так если я на балкон выйду, Марк Феоктистович будет на холод жаловаться», — резонно возразил Покровский, и Иванчук важно кивнул, показывая, что да, непременно будет. Юлия Юрьевна вздохнула и благодушно махнула рукой. Картинно раскинувшись на стуле, Покровский закурил. Сладковатый запах табака распространялся по гостиной. — А вы, Марк Феоктистович, Шульгина-то почитайте, почитайте, —подал голос Покровский. — Вам очень интересно будет, право. Такой проныра, ведь в Киев к большевикам пробрался, а там дальше и про Москву напечатает, и про Лэнин-град, — шутовски исказив советское название и по-французски програссировав на последнем слоге, продолжил Покровский. Говорил он о серии статей, которые Василий Шульгин, известный в прошлом правый политик, член Государственной Думы, печатал сейчас в «Возрожденiи». Статьи были о том, как Шульгину удалось инкогнито пробраться в Советский Союз и посетить указанные города. Иванчук не ответил, задумчиво погружая мельхиоровую ложечку в жёлтую жижу сердцевины яйца. — И стиль литературный у него, я вам скажу, весьма хорош. Такой, знаете, экспрессивный… — Иван Николаевич, — ворчливо пробурчал Иванчук, поднимая на Покровского близорукие, все в красных прожилках глаза. — Я вам всё готов простить, видит Бог, я вам готов простить даже вашу омерзительную выходку с шофферами, но, я вас прошу, избавь вас Бог говорить о литературе. Вы ничего не смыслите в этом, вы ведь даже Толстого не признаёте! — Нет-с, не признаю! — самодовольно откликнулся Покровский, который был в разговорчивом духе. — И счастлив сказать, что «Войны и мира» даже не дочитал, уж до чего скучная книга, и не знаю, чем там всё кончилось. — Наполеона из России всё-таки выгнали, — мягко улыбнувшись, сказала Юлия Юрьевна. — Ну вот, зная финал, теперь точно дочитывать не буду, — расплылся в довольной улыбке Покровский. — Наполеона выгнали… — мрачнее тучи повторил Иванчук. — А Шульгина не суйте мне своего. Он у меня ещё с киевских времён вот где сидит! — старик рубанул ложечкой воздух. — Щёголь и щегол! — возгласил он. Покровский уже открыл было рот, чтобы ответить, как вдруг в прихожей затрезвонил телефон. «Это меня, это точно меня!» — закричал Покровский, вскочил и бросился в коридор. Виктору Алексеевичу пришлось встать, посторониться и вдвинуть стул, а стул Покровский всё равно, зацепившись ногой, грохнул об пол. — Алло! — послышалось из глухой темноты коридора. — А, мьсе Коробецкого? — разочарованно протянул Покровский. — Ну, одну минуту тогда. Виктору Алексевичу пришлось встать из-за стола и пройти в коридор, где на стене, над столиком с адресной книгой, ключами и подносом с почтой висел аппарат. — А, Виктор Алексеевич! — сквозь электрический шорох послышался в трубке голос, которого Коробецкий сперва не узнал. — Утро доброе, утро доброе. Это Иван Игнатьевич Молчанов. Я не рано вам звоню? Мне ваш номер передал Михельсон, ну, вы его знаете. Я хотел бы договориться с вами о встрече по поводу той иконки, что вы ему показывали. Я, если вы не возражаете, могу подъехать прямо к вам, я уж разузнал, где вы живёте. Слушая Молчанова, Коробецкий машинально перебрал лежащую на столике под телефоном корреспонденцию: квитанция за электричество, пухлый конверт на имя Адрианова (вероятно, Покровскому, кто же ещё будет прятаться за чужими именами), и вдруг — открытка с видом берлинской Александерплатц. Синий квадратный штамп: Mit Flügpost, par avion. Получатель: W. Korobezki. Отправитель (по-русски): Ефимъ Барташёвъ. Сразу бросилось в глаза — адрес старой квартиры в Вильжюифе перечёркнут, надписан новый, который Коробецкий, выселяясь, оставил хозяину квартиры. С пяток немецких марок, одна французская, четыре штемпеля, лепящиеся на неровные строчки округлого почерка Ефима.
-
-
Что тут скажешь - это праздник, увидеть такой пост от отдохнувшего и вдохновившегося мастера. И даже невежливым кажется после такого поста короткопостить, но что поделаешь.
|
-
Отсюда и на родину Дванова ходили поезда, припомнил подпольщик, заприметив на фасаде лепнину со всадником, высоко поднявшим меч, — «Погоню».
спасибо за такой внимательный подход, Николай.
|
-
Это хорошо, когда пост заставляет не просто делать выбор между разными вариантами действий, но и сомневаться в правильности тех или иных решений!
|
— До свиданья, господа. Как теперь говорят у нас в СССР, «пока», — попрощалась с подпольщиками Дарья Устиновна, уже одетая в куцее серое пальто, замотавшая голову мохнатой шалью, с потёртой кожаной сумочкой в руке. Дверь за хозяйкой захлопнулась, но через минуту замок снова залязгал. — Ах, ключи-то я вам, ключи забыла дать! — торопливо заговорила запыхавшаяся Дарья Устиновна, выдвинув ящик комода и роясь в старых жестяных коробочках, расчёсках, пустых флаконах от духов. — Вот, вот они! — хозяйка бросила два скреплённых кольцом ключа на комод. — Ну всё, я побежала, а то на службе убьют! Подпольщики вернулись на кухню, где нашли оставленный им завтрак: пара бутербродов с толстыми кружками буроватой колбасы, четыре с вечера сваренных вкрутую яйца, ковшик с загустевшим, холодным вишнёвым киселём. Не ресторан Кюба, но привередничать не приходилось. Молотого кофе в конфетной жестянке, из которой брал ночью Дванов, оставалось совсем на донце, поэтому обошлись крепким чаем. Сыпавшее порывами мелкого, жгучего снега небо только начинало сереть, когда подпольщики вышли во двор. У выхода столкнулись с полным мужчиной, с туго завёрнутым шарфом шеей, в бобровой шапке, с пузатым портфелем в руках: не тот ли партиец с пятого этажа, про которого упоминала Дарья Устиновна? Мужчина безразличным взглядом окинул Пулавского с Двановым, чемоданы в их руках и, ничего не сказав, поспешил к трамвайной остановке на проспекте. Подпольщики же, решив двигаться кружным путём, пошли не к остановке, а через дворы, по полузасыпанным тропинкам промеж сугробов, через арки с облупившейся, потрескавшейся штукатуркой, пересекая хмурые, просыпающиеся, неторговые улицы, сизый мрак зимнего утра на которых разгоняли горящие через один фонари. Наконец, вышли на голую, жалкую, резким ветром продуваемую набережную узкой закованной в лёд Смоленки, за которой чернели и дымили уже трубы заводов. Видно их сейчас, в пургу, было едва, и так же слабо в утренней метущей мути были видны и чёрные, замотанные фигуры рабочих, валящих от трамвайной остановки через мост к заводам. Ничего не поменялось: как свально шли они десять лет назад мглистым утром по гудку, так шли и сейчас — разве что завод носил теперь имя какого-нибудь большевистского главаря. Здесь же, рядом, за каменной оградкой, было и Смоленское кладбище, где по уверениям Дарьи Устиновны покоилось тело и её сестры. Впрочем, могилу решили не искать: долго, приметно, да и как её тут найдёшь? Тут кстати подвернулся мелкой рысью семенящий по набережной извозчик — совсем как до революции, завёрнутый в ватный тулуп, с заледеневшими каплями на усах и бороде. Оглянулись по сторонам: слежки вроде не было, да и была бы — извозчик тут был один, чекистские шпики всё одно бы не угнались. Залезли, закрыли ноги залубелым кожаным пологом, Пулавский наобум сказал — на Лиговку, и чуть язык не прикусил: а во что Лиговку-то большевики переименовали? Сколько ни изучал в Финляндии новую карту Ленинграда, не помнил. Извозчик, однако, лишь кивнул и запросил рубль. Только на полпути и вспомнилось, что ни во что не переименовали, хоть её оставили с человеческим названием. Сошли у Николаевского, теперь Октябрьского вокзала (а ведь и им сюда заглянуть придётся, покупать билеты в Москву) — мешанина народа, торговля дорожной снедью на панелях, дощатые ларьки рабочих кооперативов, рядок извозчиков у входа, куда приткнулся и их возница. Трамваи, искря и скрипя, оборачиваются по кольцу вокруг — и об этом слыхали, было об этом в газетах, но всё равно удивительно, — всё так же стоит внутри трамвайного кольца покрытая снежной шапкой статуя Александра III: грузная, будто придавленная и изнутри распёртая давлением, вросшая мощными копытами коня в постамент. И верно с большевистской точки зрения, что оставили именно эту монструозную статую: Пулавский, в 1909 году бывший кадетом в Петербурге, помнил, какой шум тогда вызвало открытие памятника: монархисты скульптора поносили, либералы восхищались его смелостью — ах, до чего же хитро, животное сидит на животном! Разглядели выбитые буквы на граните: стишок кремлёвского борзописца, Демьяна Бедного: мой сын и мой отец при жизни казнены (а можно казнить не при жизни?), а я познал удел посмертного бесславия, торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросившей ярмо самодержавия. Ну-ну. Потолкались среди торговых рядов, среди прячущихся в высокие воротники продавцов, смотрели по сторонам: нет, никакой слежки. Дванов, нагнувшись к унизительно низко расположенному окошку ларька «Рабочее дело», купил пачку папирос (свои кончились) — «Смычка», всё же, что за дикое, первобытное слово, и на пачке воодушевлённый красный сеятель, прости Господи, смыкался с трубами фабрики. На вкус папиросы, правда, были ничего себе, как какие-нибудь мирно-дореволюционные «Дядя Костя», которые Дванов ещё гимназистом куривал. Замёрзнув, зашли погреться в дешёвую полуподвальную чайную с побелёнными стенами, где в углу граммофон с помятой трубой тускло мурлыкал матчиш, а толстая, щекастая девка в переднике вяло пыталась прогнать засевшую в углу с бутылкой компанию вокзальных грузчиков, что ли, каких-то. Повышая голос, девка говорила, что пить водку в чайной не положено. Грузчики в ответ крыли её матом. «Ужо хозяин-то придёт», — устало пригрозила подавальщица. «А ты ещё милицию позови!», — нагло предложили грузчики и заржали. Девка ушла в кухню за просаленной занавеской и принялась там зло греметь посудой. Выпили по стакану несладкого жидкого чаю, съели по паре жареных, жиром сочившихся, татарских каких-то, что ли, пирожков. Когда вышли из чайной, совсем уже рассвело, да и метель, похоже, затихала. Решили, что уже пора направиться к инженеру Самсонову. Инженер жил в трёхэтажном, бледно-жёлтом доме, выходящий одним торцом на Можайскую, а другим — на обсаженный голыми липками Детскосельский проспект. В терявшейся в сыплющей белой хмари перспективе улицы виднелся Обводный канал и занесённый снегом циклопический купол газгольдера за ним. Сверившись по списку квартир у входа, зашли внутрь тёплого, отапливаемого парадного, поднялись по широкой лестнице, поблескивавшей медными колечками для отсутствующей ковровой дорожки. У окна между первым и вторым этажами на подоконнике примостился молодой скуластый парень в сдвинутой на затылок кепке, в драповом пальто, с папиросой в руках, с любопытством взглянувший на чемоданы в руках посетителей. Прошли мимо его на второй этаж, вдавили кнопку звонка: внутри затрещало, но к двери никто не шёл. Взглянули на часы: двадцать минут двенадцатого. И в самом деле, с чего бы инженеру Самсонову в этот час в понедельник быть дома?
-
И в самом деле, с чего бы инженеру Самсонову в этот час в понедельник быть дома?
Браво! Какой удар по самолюбию господ контрразведчиков!
А описания города на Неве и его жителей как всегда великолепны.
-
Очень хорошо. Отличный мотиватор стараться усерднее
|
Свежий, сырой ветер весело хлынул в лицо, когда Коробецкий с Беатой вышли из кафе на солнечный тротуар. В глубокой голубизне неба ползли редкие облака, закрывая солнце ослепительно вспыхивающим краем, и подобно волне надвигалась тогда сквозь улицу лёгкая серая тень, и вновь солнце выходило, и яркой полосой отражалось в крутых чёрных боках автомобилей, проезжавших мимо, пока Коробецкий стоял, подзывая такси. Протарахтел мимо грузовик, доверху нагруженный связанными проволокой тючками сена, и на повороте один тюк отчаянно качнулся, отвалился и рассыпался бесформенной жёлтой грудой по брусчатке. Водитель скрылся за поворотом, не заметив пропажи. Крепкий парень в надвинутой на глаза кепке и клетчатой рубашке с завёрнутыми рукавами, пыхтя и горбясь, протащил за собой тележку, набитую стульями и блестящими стальными рёбрами разобранной кровати. Ярко сверкала на солнце витрина продуктовой лавки, за бликами пестревшая пирамидками консервных банок. Наконец, рядом остановился новенький, чистый таксомотор с поднятым кожаным верхом. Залезли в тёмную, пахнущую новой кожей глубину салона. Водитель, усатый молодой француз в наглухо застёгнутой кожаной куртке и фуражке, бойко щёлкнул рычажком счётчика, Беата назвала адрес Михельсона: шестнадцатый округ, рю Тальма. 13:23 09.10.1926
Франция, Париж,
Рю Тальма Мастерская чучельщика Михельсона располагалась в районе вокруг улицы Пасси, где селились многие русские эмигранты, на тихой, короткой, неприметной улице. Моисей Михельсон, пожилой, полный человек хрестоматийно ветхозаветной внешности — густая седая борода, высокий, прочерченный морщинами лоб, живые чёрные глаза под кустистыми бровями, ермолка на лысеющем затылке — чучельником вообще-то был лишь номинально, и поговаривали, что сам он мастерством таксидермии вовсе не владел, а всю работу за него выполняла дочь — живущая в задних помещениях мастерской несчастная старая дева с парализованными после полиомиелита ногами. Сам же Михельсон занимался продажей чучел спустя рукава, зарабатывая в основном скупкой всякой всячины, не исключая и краденой. Тем более странно было увидеть ещё через тёмную, заставленную бутафорскими совами и лисами витрину посетителей, о чём-то оживлённо спорящих с хозяином лавки. В резко пахнущем формалином полутёмном помещении посетителей приветствовал стоящий напротив входной двери и хищно протягивавший лапы бурый медведь в русской офицерской фуражке, на лакированном прилавке подле кубоватой кассовой машины сидела стеклянноглазая лиса, полки за прилавком были заняты целым виварием пресмыкающихся гадов, а под потолком парила в пыли, подвешенная на нитях, стая разномастных птиц. На одну из них, устремившегося в вечное пике сокола, и указывал рыжий господин в душном твидовом костюме, фетровой шляпе, с кассетным фотоаппаратом на шее. Рядом стояла дамочка, одетая по флэпперской моде — коротко стриженные, пергидролем высветленные волосы, шляпка-горшок, пёстрое прямое платье с квадратным вырезом, нитка крупных бус. Михельсон, в бежевом жилете без пиджака, в чёрных нарукавниках, стоял подле них и лопотал на ломанном английском: — Фалькон нот фор сэйль, нот фор сэйль, — и совал то мужчине, то дамочке под нос облезлого орла на подставке. Американцы (как по выговору поняла Беата) орла покупать не хотели и продолжали показывать на сокола, обещая за чучело сначала три доллара, потом пять. На семи Михельсон сдался и, достав из кладовой стремянку, полез снимать чучело. Уже забираясь с ножницами на стремянку, чучельщик заприметил Беату и Виктора Алексеевича, стоявших у входа. — А, Беаточка! — заулыбался Михельсон, нагнувшись со стремянки и близоруко вглядываясь в посетителей. — Приветствую, дорогая, приветствую! Жаль, пятью минутами раньше ты не подошла, уж мы-то с тобой бы этих янки долларов на десять надули! Американец слова «янки» и «доллары» уловил и важно сказал: — Я не знаю, о чём вы там говорили на своём идише, но я больше семи долларов платить не собираюсь. Мы же уже договорились! — нервно добавил он. Пергидрольная дамочка поёжилась, опасливо оглядывая нововошедших. — Йес-йес, адиль-изадиль, — скороговоркой подтвердил Михельсон и принялся снимать сокола. Сняв птицу, чучельщик, кряхтя, слез со стремянки, любовно обдул пыль с сокола и с выражением болезненной утраты вручил его американцу. — Может, не будем всё-таки покупать? — тихо спросила дамочка, разглядывая птицу вблизи. — У него проволока торчит. — Будем! — уверенно сказал мужчина, вынул основательный кожаный кошелёк и небрежно отсчитал семь долларов, которые Михельсон проворно спрятал во внутренний карман жилета. — И как они только эту лавку нашли, я поражаюсь? — спросил в пустоту Михельсон, когда за посетителями затворилась дверь. — Я понимаю, приехали Париж смотреть: ну построили же для вас Эйфелеву башню, ну, Лувр для вас есть, ну чего вам ещё не хватает! Нет, не нужен нам Лувр, не нужна нам Эйфелева башня, мы лучше будем шататься по Пасси, покупать чучела! Нет, взгляните только! — и чучельщик оскорблённо указал за окно, где в пёстрой тени облетающего платана стояли американцы. Женщина протягивала руку, подзывая такси, а мужчина водил соколом в воздухе на манер игрушечного самолёта и целил клювом птицы в шею своей спутницы (та раздражённо отбивалась). — Итак, дорогая, — обернулся к Беате Михельсон, потеряв к американцам интерес, — и что же тебя сегодня привело ко мне? Только не говори мне, что тоже вознамерилась купить одну из этих птиц, потому что я на стремянку второй раз со своим давлением не полезу. И кто же твой представительный спутник? — наконец, обратил он внимание на Коробецкого. Виктор Алексеевич назвался, а Беата объяснила, что требуется оценить стоимость иконы, которую Коробецкий извлёк из портфеля и передал Михельсону. Чучельщик вытащил из-под прилавка настольную электрическую лампу, щёлкнул выключателем, отодвинул лису в сторону, бережно разложил складень и с видом знатока начал вглядываться, морща лоб и тихо цыкая языком. Что-то долго он вглядывается, — поняла Беата. Обычно приобретаемое добро Михельсон оценивал с первого взгляда, как, например, те брошки и колечки, которые Беата получала иногда от своих поклонников и потом, оказавшись в трудной денежной ситуации, была вынуждена сносить Михельсону. Те он брал почти не глядя, с ходу называя цену, здесь же вдруг задумался. — Ну что ж, — поднял он, наконец, голову. — Серебро, глазурь. Век прошлый или позапрошлый, вероятно, так что миллионов за неё не выручишь. По поводу художественной ценности ничего не могу сказать: сам я не очень занимаюсь иконами. Было бы неэтично с моей стороны стать иконопродавцем, так? — ласково засмеялся он. — Впрочем, могу показать вещицу одному своему знакомому, он работает в издательстве «Возрождение». Большой знаток. Если вам удобно, — поднял он взгляд на Коробецкого, — вы можете оставить иконку у меня — под расписку, конечно, — а я при встрече покажу её своему знакомцу. Или, если ты, Беаточка, боишься, что я тебя надую, хотя такого никогда в жизни не бывало и это было бы чистой воды преступлением, так я могу договориться о вашей с ним встрече.
-
Жаль, пятью минутами раньше ты не подошла, уж мы-то с тобой бы этих янки долларов на десять надули!
А то как же!
А так - прелестный, милый, живой и красивый пост)
|
Отдежурив за медицинским фолиантом до вечера, Пулавский разбудил Дванова и сам отправился спать. Около одиннадцати, закончив какие-то свои дела на кухне, спать пошла и Дарья Устиновна. Дванов остался коротать ночь в полузале, устроившись в вольтеровском кресле, выключил верхний свет, включил стоящий подле торшер. За деревянной перегородкой, разделявшей части уплотнённой квартиры, слышались невнятные голоса жильцов, плач младенца. Потом всё стихло, только мерно качался маятник старомодных, прошлого века ещё часов на стене, тихо ползла по окружности вычурными завитушками украшенная стрелка. От скуки Дванов раскрыл книжный шкаф, нашёл подшивку «Сатирикона» за 1909 год: милый смешной журнал из мирного славного времени. Красивые модерновые картинки с Пьеро и Арлекинами, шутки над поэтами-декадентами и членами Государственной Думы, юмористические переложения каких-то полузабытых новостей, реклама брошюры «Великiй провокаторъ Азефъ». Некоторые места были подчёркнуты, видимо, покойным хозяином или хозяйкой квартиры. На полях рассказа о каком-то пьяном, который возмущался гудением уличного фонаря, было размашисто приписано красным карандашом «Лека, обрати вниманiе, это про тебя!». Рассказ был авторства некой Медузы-Горгоны. Где сейчас та медуза? Там же, где и автор маргиналии, вероятно, там же, где и этот Лека… Если любопытно, рассказ тут: ссылка Там же и сам журнал можно почитать. Около часа ночи младенец за стеной снова закричал. Послышались шаги, раздражённый мужской голос, глухой женский. Снова замолкло. За окном мельтешила белёсая мгла, выделяясь в чёткие косые линии под светом уличного фонаря: почти блоковская картина, не хватало лишь марширующего через пургу отряда красногвардейцев (и слава Богу, что не хватало). Около двух дверь спальни тихо проскрипела, и из коридора появилась заспанная Дарья Устиновна в волочившемся по полу, чрезмерно большом ей халате. — У вас всё хорошо, прапорщик? — спросонья хрипло спросила она поднявшегося из кресла Дванова. — Не волнуйтесь, я лишь на минуту встала. Кстати, если вы не собираетесь ложиться, я на кухне оставила кофе и турку. Дарья Устиновна удалилась в уборную, откуда вскоре вернулась в спальню, а Дванов действительно направился на кухню и, кое-как справившись с дрянными советскими спичками (декабрист Рылеев в два цвета на коробке — а ведь и то, столетний юбилей на днях был, и вот, взошла звезда Полынь пленительного счастья), с не желавшим зажигаться примусом, сготовил себе кофе. В этот момент на дворе разноголосо, перебивая друг друга, залаяли собаки. Дванов выглянул в окно — что стряслось, не идут ли чекисты? Через двор по свежим, подобно пустому киноэкрану белевшим в темноте сугробам, закрывая лица от колючего снега, пробирались парень с девушкой гимназического возраста: может, и те, кого подпольщики вчера видели в трамвае. На них лаяли собаки, до того чёрными комками спавшие у стены близ дворницкой. Парень нагибался к снегу, притворяясь, что подбирает палку, барышня с гулко разносившимся по пустому двору смехом пряталась ему за спину. Добравшись до входа в парадное, парень прижал девушку к стене, и они начали долго целоваться. Вот ведь, всюду жизнь, даже в Совдепии. Мало-помалу проходила ночь. Дванов сварил кофе, снова устроился в кресле. Около пяти, ещё в полной, глухой черноте зимней северной ночи зашаркала по двору лопата. Потом проснулись, заходили соседи за стеной, послышался лязг кастрюль, опять младенец заорал. Понемногу просыпался и город: начали расчищать проезжую часть, потом, дребезжа, проехал по проспекту первый трамвай, потом натужно профырчал мотор, за ним ещё один. Соседи включили радио, но из-за стены было не разобрать слов, различима была лишь энергичная, боевая интонация диктора. 7:42, понедельник, 21.12.1925
СССР, Ленинград,
Малый проспект В. О. на пересечении с 12-й и 13-й линиями
–4 °С, ветер, метельВ семь тридцать резко, надрывно затрезвонил будильник в спальне Дарьи Устиновны, разбудив и хозяйку, и Пулавского. — Господа, мне сегодня надо на службу, — сообщила подпольщицам Дарья Устиновна, покончив с утренним умыванием. — Я понимаю, что вы мне не доверяете, но поверьте, что у меня могут быть серьёзные неприятности, если я не появлюсь. Я сейчас оставлю вам завтрак и запасные ключи. Вернусь я где-то после семи.
-
За окном мельтешила белёсая мгла, выделяясь в чёткие косые линии под светом уличного фонаря: почти блоковская картина, не хватало лишь марширующего через пургу отряда красногвардейцев (и слава Богу, что не хватало).
Абсолютно верный эпитет!
И описание ночного дежурства замечательно.
-
Ну вот и что прикажешь делать с этой Устиновой Младший?
Хорошо завернул сюжет, однако!
|
Как только из-за двери показалась всклокоченная голова Червицкой, Юлия Юрьевна — одета она, кстати, была по полному параду: узкая полосатая юбка до пят, жакет, разве что шляпки не хватало, — страдательно закатила глаза и простонала:
— О-о-о, мэгэра полосатая проснулась! И с бутылкой с утра! Нет, ну вы взгляните, — обернулась она к Коробецкому и замерла в удивлении, видя, как расплывается в улыбке лицо того.
— Ах, так вы знакомы… — враз изменившимся, поласковевшим голосом проговорила она, глядя на обнимающихся родственников. — А у нас и другие жильцы тоже очень хорошие, — медово добавила она. — Ну пойдёмте же, Виктор Андреевич, я вам комнатку покажу…
В предназначаемой Виктору Алексеевичу комнате, вытянутой пеналом к единственному окну, выходящему на улицу, было светло, пусто и свежо: вероятно, комнату только что проветривали. Здесь была аккуратно заправленная кровать с блестящими шишечками на стальных столбиках, письменный стол со стопкой дешёвой почтовой бумаги в углу, пара стульев, платяной шкаф и, над кроватью, пара книжных полок с рядком книжек на них: русских, французских и английских.
— На книжки не обращайте внимания, — промурлыкала Юлия Юрьевна, — здесь до вас жил молодой человек, кстати, — не без гордости добавила хозяйка, — сын покойного Владимира Набокова. Он съехал две недели назад, а книжки всё забрать не может. Если вас они будут стеснять, я их тотчас унесу.
Сергея Набокова, действительно сына одного из лидеров кадетской партии, Беата знала: это был приятный, вежливый и застенчивый — вероятно, от заикания — молодой человек с кембриджским образованием, излишки которого он распродавал, давая на дому уроки английского. Сергей водил знакомства в парижской богеме, был приятелем Кокто и Дягилева, но посодействовать Беате самой войти в круг таких знаменитых людей вряд ли мог: большинство его знакомых женщинами не интересовались, как не интересовался ими и сам Сергей, отчего, по-видимому, страдал и даже как-то зашёл к Беате спросить совета относительно поведения в католическом храме. В католичество он перешёл недавно и ходил причащаться столь же регулярно, сколь регулярно и приводил в дом своего любовника.
— Да, это тоже от него осталось, — указала Юлия Юрьевна на строгое католическое распятие, висевшее на белой стене у изголовья кровати. — Если вам оно не требуется, я вон его, пани Червинской отдам. Пусть хоть иногда о душе подумает! — и Юрия Юльевна метнула в сторону стоявшей у двери комнаты Беаты испепеляющий взгляд.
-
указала Юлия Юрьевна на строгое католическое распятие, висевшее на белой стене у изголовья кровати. — Если вам оно не требуется, я вон его, пани Червинской отдам. Пусть хоть иногда о душе подумает
Актриса и так служит душе, а не Мамоне, как некоторые!
А если серьезно - очень хороший и красивый пост, наполняющий окружающее пространство объемом и подбрасывающий идей для дальнейшей консолидации.
|
Летом тысяча девятьсот двадцать шестого года русские обитатели Парижа разом ахнули: французское правительство повысило сбор за оформление карт д-идантите с 275 франков до 375. На какое-то время число «375» стало столь же нарицательным, как «1917»: так, ресторан «Медведь» предлагал обеды за 3,75 франка, а русская комическая труппа в ресторане Mon Repos исполняла песенку «375» о дамочке, оставившей знакомому свой номер телефона, не дописав последней цифры четырёхзначного номера. «Последние новости» и «Возрожденiе» печатали воззвания Милюкова, Маклакова и Струве к французским депутатам. Воззвания имели куда меньший успех, чем песенка. Столь неприятное известие тем более шокировало русских обывателей, что представляло собой наглое, оскорбительное вторжение внешнего, чужого мира в то закупоренное пространство русских пансионов, русских ресторанов, русских газет, журналов и общественных организаций, в котором существовала эмиграция. Французы и французская жизнь для обитателей русского Парижа были фоном вроде театрального задника, на котором с неизбежными условностями изображены: Эйфелева башня, мосты через Сену, ажан в форме и кондуктор в трамвайном вагоне, но верить во всех них полагалось лишь тоже по принятой условности. Вещественным же, подлинным являлось лишь то, о чём можно было говорить по-русски. Вокруг гремел, звенел, лучился под розовато-мглистым ночным небом Париж, но бывшие офицеры, чиновники особых поручений, университетские профессора, не обращая на искристое сверкание, с упорством археолога, склеивающего разбитую в крошево микенскую фреску, восстанавливали вокруг себя петербургский, московский, киевский быт: покупали у «Ага» русскую сметану и грибы, готовили кулебяки и битки, ставили самовары, выписывали русские книги и участвовали в вечных, бесплодных политических спорах. Социалисты-революционеры поносили кадетов, те — монархистов, те — социалистов-революционеров, и тем замыкался круг. Душное, пахнущее горячим асфальтом лето кончилось, наступила осень. С повышением сбора за карт д-идантите все смирились. В СССР шло наступление на троцкистско-зиновьевскую оппозицию. В Китае генералы с непроизносимыми именами отбирали друг у друга неведомые местности. В Англии бастовали углекопы. Германию приняли в Лигу Наций. В Барселоне было совершено покушение на генерала Примо де Риверу. В Ганновере бушевала эпидемия тифа. Курс франка шатался вверх и вниз, как пьяный. Всеобщее удивление в Северо-Американских Соединённых Штатах вызвало избрание королевой красоты барышни с длинными волосами. Между Парижем и Лондоном был запущен новый экспресс «Золотая стрела», развивающий скорость до 96 километров в час. Последняя новость должна была запомниться Виктору Алексеевичу Коробецкому, который прочитал её, коротая время в приёмной консульского отдела британского посольства, куда заходил уже пятый раз. Зачем же Виктору Алексеевичу могло понадобиться отправиться в Англию? А об этом они договорились с Барташовым через несколько дней после приснопамятного вечера у Анны Синицкой. Вечер тот закончился так паршиво, что и вспоминать не хотелось: ночной звонок в комиссариат, томительное ожидание над трупом, глотающий рюмку за рюмкой, совсем оскотинившийся Скалон, Синицкий, всё порывающийся куда-то перенести жену, трепетание под холодным ветром разбросанных по тёмной комнате листков из развороченного стола, усатый ажан, с усталым презрением оглядывающий место свинской пьянки русских эмигрантов. Было признано, что Анна Синицкая покончила с собой: тем всё и кончилось. После этого Барташов и Коробецкий решили разъехаться: первый направился в Германию, где жил старший из братьев Соколовых, второй — в Лондон, куда вели следы Александра Соколова и загадочного Леваницкого. Пока шатались по консульствам, оформляли визы — жили вместе, снимали с денег Соколова двухкомнатную квартиру в парижском пригороде Вильжюифе. Наконец, в сентябре Барташову удалось выхлопотать немецкую визу, и тот отбыл берлинским поездом с половиной соколовских денег. Вторая половина осталась у Коробецкого. Впрочем, к моменту отъезда Ефима Антоновича мешок с деньгами уже заметно исхудал: все расходы на жильё, на еду, на новую одежду, на оформление виз брали оттуда, и после делёжки у Коробецкого оставалось около двадцати двух тысяч франков. Этого, конечно, хватило бы ещё надолго, но сидя как-то в кафе со своим старым приятелем Шиповым, которого всё же нашёл в Париже, Виктор Алексеевич понял, что не может объяснить тому, на какие шиши ему удалось приодеться в новый костюм с мягким отложным воротником и довольно безбедно существовать. Тогда удалось отговориться удачной, неожиданно принесшей прибыль работой на юге Франции. Шипов легко в это поверил, но Виктор Алексеевич понял, что стоит, хотя бы для виду, подыскать себе какую-нибудь не очень обязывающую работу, тем более что оформление визы затягивалось. Через неделю он устроился по рекомендации одного из своих берлинских знакомых, также сейчас обретающегося в Париже, в издательство мсье Якова Поволоцкого. Издательство это было основано русским евреем, мсье Поволоцким ещё до революции и в благословенные старые годы даже имело филиалы в Петербурге и Москве, а сейчас влачило существование, выпуская вперемешку книги второразрядных эмигрантских писателей (увы, но и Бунин, и Мережковский предпочитали более респектабельные конторы), французские книги, художественные альбомы, а также разную специальную литературу: «Справочникъ шоффера-механика», «Школа кройки» и «Дорожно-мостовое дѣло». Особым предметом гордости издательства была печать брошюр некого живущего в Югославии казацкого атамана, в которых во всех бедах многострадальной России обвинялись соплеменники мьсе Поволоцкого (составляющие преимущественную часть штата издательства). Пользуясь несведущностью атамана в печатном деле, мьсе Поволоцкий брал с него за брошюры втридорога, печатал их на самой плохой бумаге, призывал корректоров не особо усердствовать в поиске опечаток и был крайне горд собой. Виктору Алексеевичу в издательстве нашлось место корректора, работающего с советской специальной литературой. Работа была простой и почти столь же механической, как сбор абрикосов в «Домен де Больё», — Коробецкий брал какой-нибудь изданный в Ленинграде «Железобетон» и превращал его в «Желѣзобетонъ», а заодно подготавливал для мьсе Поволоцкого внутреннюю рецензию на тему технической грамотности книги и перспектив спроса. В железобетоне Коробецкий не смыслил ничего, но мсье Поволоцкий — ещё меньше, и пары умных фраз, щедро пересыпанных терминами, вычитанными из самой книги, хватало, чтобы убедить издателя в собственной инженерной квалификации. Единственной неприятностью было то, что издательство мсье Поволоцкого располагалось в самом центре Парижа, на рю Бонапарт, и из Вильжюифа добираться до места службы было делом долгим и мучительным. Да и оставаться одному в снятой на двоих квартире было уже чрезмерным роскошеством, и потому, дождавшись конца оплаченного срока проживания, в октябре Виктор Алексеевич перебрался в русский пансион «Отель Авр» на одноимённой улице в пятнадцатом округе. Улочка де ль-Авр напоминала просвет между книгами, неплотно стоящими на библиотечной полке, или полость чемодана: по улочке могли с трудом разойтись два автомобиля, а оба конца её были запечатаны с одной стороны стеной высокого вкось уходящего здания, с другой — стальной эстакадой метро, тянущейся по бульвару Гренель, и грохот невидимых проходящих поездов был для жильцов пансиона такой же обыденностью, как беззастенчивая наглость Ивана Покровского, блокнотик Иванчука или бесконечные напоминания о необходимости экономить электричество мадам Лебедевой-Шульц, хозяйки пансиона. Юлия Юрьевна Лебедева-Шульц была полногрудой, крупастой дамой бальзаковских лет. Муж её, немец, был бессмысленнейшей жертвой мировой войны: всю жизнь прожив в России, он начал хлопотать о получении подданства лишь в четырнадцатом году и, не успев получить паспорта, был направлен в лагерь для интернированных лиц под Саратовом, где и сгинул от тифа. В самом начале русской смуты мадам Лебедева-Шульц перебралась в Берлин, откуда обычным беженским маршрутом несколько лет назад попала в Париж. Не отличаясь предусмотрительностью в вопросах гражданства, герр Шульц, однако, озаботился о внушительном счёте в «Лионском кредите», на который за время войны накапали приятные проценты. Это состояние мадам Лебедева-Шульц употребила на покупку шестого этажа в разорившейся гостинице на улице де ль-Авр, где и открыла свой пансион. Управлением своим делом мадам занималась энергично, но несколько безалаберно: давала бестолковые указания приходящей уборщице, вмешивалась в готовку еды на ежевечерний табльдот, результат чему был всегда непредсказуем, и развешивала по стенам многочисленные объявления старательно, ученическим почерком продублированные на русском, немецком и французском языках, хотя одного русского было бы достаточно. Иван Покровский распускал за спиной мадам отвратительные слухи о том, что якобы видывал мадам в некоторых злачных местах в обществе мужчин-проститутов. Сам факт подобных новостей мог бы подтолкнуть слушателя задать Покровскому вопрос, а где же сам тот шляется и с какими людьми водит знакомство, чтобы быть так осведомлён о личной жизни хозяйки пансиона? Впрочем, Ивану Николаевичу Покровскому таких вопросов не задавали: с ним и так всё было ясно. Покровский, низенький, белобрысый, до идиотизма чопорный молодой человек с нелепым родимым пятном на виске, был сыном нижегородского попа, сам учился в семинарии, но, оказавшись в Париже после неясных мытарств в колчаковской Сибири и Харбине, пошёл по стезе далеко не духовной. Покровский был «стрелок» — так в русском Париже называли людей, пользующихся доверием множества эмигрантских организаций помощи русским беженцам: в какие-то он заглядывал лично, в другие заводил случайных знакомцев: опустившихся, потерявших человеческий облик эмигрантов, которых он искал по дешёвым русским кабакам. После того, как помощник Покровского выходил из дверей очередного общества с двадцатью или пятидесятью франками, тот вёл его обратно в кабак, где спаивал бедолагу и присваивал деньги себе. Своего рода занятий Покровский не только не стыдился, но, кажется, воспринимал его как некий род искусства. В последнее время Покровский занимался обманом русских шофферов такси, которым за пятьдесят или сто франков предлагал место у некого богатого американца (роль которого играл один его знакомый, говорящий по-английски). В конце концов Покровского разоблачили, и в «Возрожденiи» появилась большая статья о нём, чем сам Иван Николаевич был горд, как попавший под лошадь чеховский герой. Картинки сжимаются, поэтому вот ссылка: ссылка был личностью печальной и жалкой. Лет ему было около семидесяти, но своей сгорбленной, постоянно укутанной в какие-то телогрейки и рукавицы фигурой, крючковатыми, плохо слушающимися пальцами и веснушками покрытой лысиной он походил на столетнего старца. В Киеве он был консерваторским пианистом, в Париже — никем. Жил он на деньги, которые присылал его сын, вместе с ним вырвавшийся из России и сейчас работавший где-то во французских колониях. Марку Феоктистовичу, безобидному, слегка помешанному старичку, ничего не нравилось: освещение было слишком тусклым, отопление — слабым, еда — безвкусной, уборная — грязной. Когда ему в очередной раз не нравился, скажем, шум одного из соседей, он деликатно стучался в дверь и, шамкая беззубым ртом, высказывал свою единственную, беспомощную угрозу: «Имейте в виду, если вы продолжите это делать, я буду вынужден занести вас в мой блокнотик». Если же шум не прекращался, за вечерним табльдотом Марк Феоктистович показывал свой блокнотик — толстую, истрёпанную книжицу в кожаном переплёте — и многозначительно заявлял: «Имейте в виду, милостивый государь, вы уже туда записаны, пока что — карандашом. У меня наготове ластик, но наготове и перо» — и Бог знает, что там было в этом его блокнотике, сколько имён тех людей, которые на протяжении десятилетий оскорбляли и обижали его, и были ли в блокнотик внесены имена тех чекистов, что в течение двух недель мучили его в одесской чрезвычайке, выбили зубы и переломали пальцы, лишив тем самым возможности когда-либо ещё сесть за клавиши. Время от времени к Марку Феоктистовичу заглядывала маленькая, сухонькая супружеская чета, и они втроём сидели в комнате Иванчука, пили чай, сухо, кашляюще смеялись и делились какими-то давно отжитыми новостями и рассказами, будто восстанавливая вокруг себя восьмидесятые годы. Четвёртой жительницей пансиона была молодая полька Беата Червинская. Комнату номер три она заняла всего пару месяцев назад, а сейчас, вот в этот самый момент, она спит. 9:55 09.10.1926
Франция, Париж,
рю де ль-Авр, 21
пансион «Отель Авр»А вот уже и не спит, а понемногу просыпается, разбуженная шагами, голосами из-за стены, и всем прочим, чем наполнено обычное субботнее утро: прошаркали по коридору мелкие, торопливые шажки Иванчука, своим скрипучим голосом старичок поприветствовал Покровского, уже завтракающего в столовой. Шумно захлёбываясь, прокатился смыв в уборной, загудел водопроводный кран, хлынула вода, и через минуту раздался самый мерзкий из утренних звуков: Юлия Юрьевна сосредоточенно, напряжённо и бесконечно долго полоскала горло. Наконец, дверь уборной хлопнула, шаги хозяйки грузно прошлёпали мимо комнаты Беаты. Через высокое, узкое окно лучился яркий свет, косо падая на платяной шкаф, и мельчайшие, отчётливо различимые пылинки медленно кружились в воздухе, бесследно исчезая за тонким скосом световой полосы. В столовой завязался невнятный, глухой разговор жильцов: прорезался громкий, напористый голос Покровского, сквозь полусон донеслись слова «Шульгин» и «Киев», и Иванчук что-то раздражённо ответил. Фоном звякали столовые приборы, тихим пчелиным жужжанием ворчал радиоприёмник. Пока постояльцы завтракали, Юлия Юрьевна ходила туда-сюда, то хлопала своей дверью, то удалялась на кухню. Покровский, закончив завтракать, шаркнул отодвигаемым стулом и торопливо, чуть не вприпрыжку, проследовал по коридору к входной двери, а хозяйка с гулким стуком вытащила из кладовой что-то тяжёлое и поволокла по полу. — Юлия Юрьевна, а как же femme de ménage*? — глухо донёсся голос Покровского. — Новый жилец сегодня придёт смотреть комнату, а у нас такая пыль, — ответила хозяйка. Покровский попрощался с хозяйкой и хлопнул входной дверью, потом через истончающийся, уже не сплошной сон нарастающе, гулко прогрохотал поезд метро, а ещё через какое-то неясное в полудрёме время до Беаты донёсся ужасающий, душераздирающий рёв, будто за стеной взвыли разом десять тысяч демонов ада. Это Юлия Юрьевна включила американский пылесос. Теперь оставаться в кровати было решительно невозможно. А Виктор Алексеевич Коробецкий в это самое время в толпе пассажиров сошёл по звонким, до блеска отполированным ступенькам поднятой на столбах на уровень третьего этажа станции метро и оглянулся по сторонам, отыскивая нужную ему улицу. Было холодно и солнечно: сильный ветер рвал полосатый маркиз угловой табачной лавки; зеркально, свежо блестели умытые ночным дождём улицы. Нужный адрес нашёлся почти сразу: от метро до маленькой неприметной двери в кремовом фасаде было не более минуты пешком. Коробецкий прошёл мимо пустующего стола консьержа, понял шляпу, приветствуя выходящего из лифта корявенького молодого человека русской наружности, поднялся на дрожащем, лязгающем лифте на шестой этаж и остановился у двери, из-за которой доносилось монотонное, напряжённое гуденье пылесоса. После звонка шум прекратился, к двери проследовали шаги и послышался тяжёлый, раздражённый женский голос: — Вы опять что-то забыли, Иван Николаевич, а новые ключи сделать так и не удосужились, — и тут же тон Юлии Юрьевны изменился, как только она открыла дверь. — Ах, это вы! Виктор Андреевич, кажется? Вы мне телефонировали вчера. Да-да, комната за 375 франков в месяц свободна, конечно, проходите, я вам её покажу, — и хозяйка повела Коробецкого по коридору смотреть чистенькую, светлую комнату.
-
-
Отличное продолжение, всё учёл, всё тактично и грамотно обставил.
Композиция прекрасна - с 375 начал, на 375 закончил, браво!
Ну и про пылесос, ревущий рёвом 10 тысяч демонов ада, тоже улыбнуло. Не покидает автора китаизм ведь, не покидает! Китай и ОХК одно целое, даже когда ОХК пишет про Францию.)
-
Что-то мне "Воронья слободка" вспоминается)
-
Если мерить в чайных кружках, то это — где-то две трети кружки на время чтения; а вообще — очень здорово, нравится. Такой приятный стайл!
-
Ох, уж это мне Исчезнувшее Время....
низенький, до идиотизма - это шедевр =)
-
Как книга. Хорошая книга.
-
Я снимаю перед вами шляпу. Это просто великолепно. Столько деталей, и каждая из них как крючок, цепляет и погружает в написанное.
Спасибо!
|
Впрочем, позвонить вы сможете и завтра: мы с напарником занесем эти чемоданы некоторым достойным людям из наркомвоена…
Дарья Устиновна не дала Пулавскому договорить, протестующе всплеснув руками.
— Нет-нет, Константин Иванович, молчите, умоляю вас! Я решительно не желаю слышать ничего, что относится к цели вашего визита, ничего сверх того, что мне требуется знать. Пожалуйста, воздержитесь от подобных разговоров в моём присутствии, — серьёзно добавила она.
Фальши в её словах Пулавский не чувствовал. Если эта женщина и играла роль взволнованной, опасающейся каждого шороха за стеной хозяйки подпольной явки, то играла она хорошо.
Посему я возьму на себя необходимость провести ночь в ваших покоях рядом с Вами. Не волнуйтесь за Вашу честь, ради Бога - я буду спать на полу, и, кроме того, как офицер и дворянин я не покушусь на честь и достоинство столь прелестной и очаровательной дамы.
— Не скрою, что это странная просьба, — озадаченно произнесла Дарья Устиновна, — но, впрочем, у меня слишком мало опыта в подпольной работе, чтобы я могла судить о том, уместно ли такое предложение. Вижу, что вы мне ещё не до конца доверяете, и прекрасно это понимаю. Хорошо, — поколебавшись, согласилась она, — думаю, мы можем это устроить. Надеюсь, против ширмы посередине комнаты вы возражать не станете?
Оставив гостей в длинной «полузале», заставленной книжными шкафами, Дарья Устиновна удалилась на кухню, откуда вскоре вернулась с подносом, на котором стояли два стакана крепко заваренного чая, хрустальная розетка с клубничным вареньем и блюдечко с десятком кусков желтоватого рафинада.
— Угощайтесь, господа, — поставила она поднос на стол, а сама ненадолго вышла и вернулась с пачкой «Иры», спичками и пепельницей. Уселась на диван в стороне от стола, закурила.
— О чём рассказать? — начала она, когда Пулавский повторил свою просьбу. — Сама я в Петербурге лишь третий месяц. Сюда приехала, как только Вера Устиновна заболела. Вот, десять дней назад схоронили её на Смоленском кладбище, тут недалеко, — подпольщица вздохнула, затянулась, — уж простите, конечно, что я не могу подтвердить, показать все эти банки, склянки, лекарства, которых тут было до потолка: я их сразу, ещё до похорон, собрала, завязала в узел и выбросила. Как-то, знаете, хотелось от всего этого избавиться сразу, вычистить всё, проветрить. И ещё такой страх, страх этого всего… Вера рассказывала, летом сюда приходил другой гость из-за границы, некий поручик*, но уж фамилию его я вам говорить не стану, он чуть не попался ГПУ. Слава Богу, не попался, а если бы его взяли, то через него вышли бы и на Веру. Она, конечно, говорила, что у неё есть яд, но я его, вероятно, выкинула вместе с лекарствами, а сейчас вот жалею. Вот нагрянут сюда чекисты, что мне делать? У меня и револьвера нет застрелиться, а из окна кидаться — слишком низко, только кости себе переломаю.
Дарья Устиновна ненадолго замолчала, глядя мимо гостей в узкое высокое окно, за которым тянулась нитка провода и желтела стена здания через дорогу. Снова начинал падать мелкий, косо мельтешащий за стеклом снег.
— Но, впрочем, что я о себе, вы же спрашивали о городе. Город, прямо сказать, выглядит ужасно, как… как пьяный с бодуна. Никакого сравнения с тем, что было до войны. В двадцатом, двадцать первом, конечно, было ещё хуже — так говорила Вера, а сейчас всё понемногу оживает. Вы и сами это, наверное, видели на улицах. Конечно, Петербург сейчас провинция: столица уехала. Одно, в отличие от Москвы, хорошо: здесь не так уплотняют, как там. Москва разрослась, раздулась, а Питер съёжился, так что места более-менее хватает и на пролетариев, и на бывших. Вот были бы мы в Москве, там бы Вере Устиновне разве что комнатушку бы оставили, а тут полквартиры. Но и образованных жителей стало меньше: кто разъехался, кого перестреляли на Гороховой ещё при Зиновьеве. Мужа Веры так убили. Он был доктор, окулист, никому не мешал, но вот чёрт его дёрнул во время войны записаться в Земгор. Большевики ему это припомнили: он ведь и при Керенском тоже участвовал здесь в каких-то комитетах, комиссиях. Да… тогда у блаженного входа в предсмертном и радостном сне я вспомню: Россия, Свобода…
Потягивая крепкий, душистый чай, подпольщики ощутили, что их понемногу клонит ко сну. Это не было похоже на резкое, внезапно наваливающееся действие снотворного, нет: просто сказывались десятки километров, пройденные на лыжах по зимнему лесу, и отсутствие сна со вчерашнего дня. Чуть удалось прикорнуть в сарае на советской стороне границы и в поезде от Сестрорецка, но этой совокупной пары часов явно было недостаточно, и сейчас тепло натопленная квартира, горячий чай и мерный, тихий голос Дарьи Устиновны делали своё дело. А на часах не было ещё и полудня.
-
Сравнение Петрограда и Москвы очень хорошо вышло)
И вообще: нравится мне эта игра, и стиль Мастера, и глубина погружения в мир.
|
Тихо дремал под серым небом пустой двор-колодец, куда Пулавский вывел своего напарника. Остановились у припорошенной снегом поленницы, сложенной у входа в полуподвальное помещение, из открытого оконца которого несло резким, терпким запахом кухни. Вероятно, здесь жил дворник.
Дванов прислонился к дровам, тоже закурил. С подозрением покосился на оконце дворницкой, прищуриваясь, оглядел ряды тёмных окон, глядящие с кирпичных стен. Тихо простучали копыта по улице, проскрипели по свежему снегу извозчичьи сани.
— И я тоже не доверяю, Казимир Янович, — так же тихо ответил Дванов. — Есть чему не доверять. С другой стороны, если эта Дарья Устиновна — подсадная, с чего же нас ещё не арестовали, как Савинкова в Минске? Либо она ещё не успела вызвать чекистов, либо те хотят за нами следить. В обоих случаях у нас есть только один выход, как действовать, чтобы она — Дванов кивнул на чёрный ход в парадное, — не разослала наш словесный портрет. Вы понимаете, о чём я. Телефона у неё в квартире нет, так что пока мы можем быть спокойны, что она сейчас же чекистов не вызовет, но просто так уходить и оставлять её нам нельзя. Надо бы к ней присмотреться получше… кстати, а вот она уже за нами посматривает.
Дванов показал на окно на третьем этаже, и Пулавский увидел фигуру Дарьи Устиновны, наблюдавшую за своими гостями из окна. Заметив, что подпольщики обернулись в её направлении, хозяйка скрылась за занавеской.
Докурили. Вернулись в дом. Дарья Устиновна встретила гостей у двери.
— Господа, — взволнованно начала она, комкая в руках салфетку, — я понимаю, что вы в России по делу, и я не собираюсь совать нос в то, что меня не касается. Однако давайте сразу проясним некоторые вещи. Во-первых, вы можете курить здесь. Я и сама курю, но дело, я понимаю, в другом. Если вы хотите обсудить что-то, что меня не касается, просто попросите меня выйти в другую комнату. Дело тут в том, что… я бы просила вас вообще меньше мозолить глаза другим жильцам этого дома. Здесь есть управдом, есть участковый милиционер, на пятом этаже живёт партийный. Вы должны понимать, что не стоит привлекать лишнего внимания. И во-вторых… да, во-вторых, — Дарья Устиновна смутилась, — мне неловко говорить, но здесь, в Петербурге, у меня есть друг. Он может сюда прийти, я не знаю когда, это может быть любой момент. Если вы не возражаете, я могла бы сейчас сходить на телефон и предупредить его, сказаться нездоровой. Если вы не доверяете мне, вы можете пройти со мной до аптеки — телефон там. И последнее: если вы собираетесь переходить границу обратно тем же путём, вам следует назвать мне хотя бы приблизительную дату, когда вы это собираетесь делать, чтобы я сразу могла начать всё устраивать.
-
Дровишек на костер паранойи Пулавского Дарья Устиновна подбросила изрядно!
|
10:04, 20.12.1925
СССР, Ленинград
Площадь у Финляндского вокзалаСтранен и непривычен был город, открывшийся Пулавскому и Дванову, — будто вместе с именем вышибли из Петербурга его неживую, бумажную, железную душу. Был вот когда-то город с банками, скетинг-ринками, лунными парками, растущий, безумный, больной, где неврастения считалась признаком хорошего тона и модно было бравировать своей склонностью к самоубийству, где в зеркальных отражениях ресторанных залов проводились распутные, пресыщенные фосфорические, прозрачные ночи, где гвардейские офицеры закусывали коньяк «николашкой» — смесью сахарной пудры и толчёного кофе на лимоне, где сонмы бюрократов корпели над затхлыми кипами бумаг, грезя о власти и новом чине, где провинциальные молодые поэты с геометрическими рисунками на щёках провозглашали в подвальном кабаке эру нового искусства, где рождались и гибли коммерческие предприятия, проворачивались биржевые сделки, росли и сдувались капиталы, где небывалый общественный интерес возбуждали судебные процессы и мистические практики. Свирепствовала цензура. Бастовали рабочие. Революционеры разоблачали провокаторов. Массово раскупались брошюры о Нате Пинкертоне и методах борьбы с половым бессилием. Всё это ушло в прошлое, но в прошлое ушёл и тот город, о котором Пулавский с Двановым слышали в годы гражданской войны, — не стало и того мёртвого, тёмного, закоченевшего в каменных гробах красного Петрограда, раздавленного революцией, выпотрошенного собственными жителями, менявшими фарфор на картошку, сжигавшими мебель и книги в буржуйках, с загаженными, заплёванными подсолнечной шелухой панелями, с битыми фонарями, с заколоченными окнами, с отощавшими облезлыми псами, прячущимися в подворотнях от пурги. Не было псов, не было заколоченных окон на площади у Финляндского вокзала, куда прибыл сестрорецкий поезд. Разгоняли тьму зимнего предрассветного часа фонари, сновал народ, румяная барышня в фартуке, отставив руки, несла горячий, тянущий сладковатым угаром самовар, держа медные ручки через полотенце, завернула к буфету и задела плечом Дванова, покачнулась, но удержалась на ногах. «Осторожно, гражданин!» — цыкнула она на него и продолжила свой путь. Здесь пути подпольщиков и контрабандиста Володи разделялись. Ещё в холодном полупустом поезде, сунув три билета бородатому контроллеру, провожатый пояснил, что своего адреса он не даст и в сарай близ Песочной тоже просит не возвращаться, и ограничился лишь тем, что пояснил, как добраться до Васильевского острова («у вокзала на шестой трамвай, до Невского, там на четвёрку. Платить кондуктору на входе»). Остаток пути провели в молчании, глядя сквозь окно на тёмную стену леса, на редких закутанных в шубы пассажиров. И вот, прибыли на Финляндский. Володя, кивнув подпольщикам на прощанье, взвалил мешок с контрабандным добром на спину и прошёл мимо двери с надписью «Дежурный агент Г.П.У.» к выходу. Пошли к выходу и подпольщики. Оглянулись по сторонам. Здания, каменные ограды, чугунные заборчики. Вывески на зданиях вокруг, некоторые неведомые: «Красная финляндская аптека» (что ли, для красных финнов, проигравших свою гражданскую?), какой-то «Медатрак», другие — вполне понятные: вот «Ремонт часов», вот ларёк «Газеты и книги», вот «Бакалея». Перед вокзалом — какие-то столбы в круг, внутри вывороченные камни, дощатая будка: что-то строят большевики. И вот совсем рядом же, в паре шагов совсем, на Арсенальной набережной, стоит Михайловское училище, где провёл свои юнкерские годы Пулавский; и сейчас там большевики тоже готовят своих красных артиллеристов. Движутся люди, заходят в вокзал, выходят: вот прошёл мимо седой господин в пенсне с портфелем под мышкой, вот военный с тремя квадратами в петлицах чёрной шинели, с простонародным, глупым лицом под шлемом-будёновкой остановился у извозчика и принялся с тем торговаться, вот дамочка в куцем пальто и шляпке-колпаке, с котомкой в руках, побежала к остановке, от которой уже отходил, звеня, трамвай — совсем такой же, что до революции. Только тогда очнулись, взглянули на номер — не их, шестнадцатый. А их, шестой, стоял на оборотном кольце, набирая пассажиров. Сели, расплатились с кондуктором, поехали, дребезжа, трясясь, по Нижегородской. Протянулась мимо серо-бежевая стена училища, и в широких окнах первого этажа Пулавский разглядел класс и рядок голов над партами. -- Странно было ехать через весь этот город, свой и чужой. Странно после лет изгнания было слышать отовсюду русскую речь, но странно было и вслушиваться в то, о чём говорят люди: на Литейном напротив подпольщиков уселись два прилично одетых молодых человека, оживлённо говоривших о каком-то заседании в партклубе: в их речи мелькали дикие слова «смычка», «уклон», «в курсе дела»… Странно, после всех статей в берлинском «Руле» и парижских «Последних новостях», говорящих о большевистском гнёте, было видеть витрины лавок, крылечки чайных, чистые парикмахерские, но невозможно было и не заметить пустое, зияющее чёрными провалами окон здание Окружного суда, разгромленное в первые дни революции и так и оставленное победителями — то ли в назидание потомкам, то ли в отсутствие средств к восстановлению. Сошли с шестого, залезли в битком набитый четвёртый трамвай, покатили по оживлённому, галдящему Невскому, то есть по Октябрьскому, то есть по 25-го Октября. Кто как говорит, как поняли, стоя в переполненном вагоне, и все равно понимают. Сказал Ленин «Грабь награбленное» — и разграбили всё подчистую, а потом он же сказал «Учитесь торговать», и вот — то там, то тут: кооператив такой-то, «Акц. О-во» такое-то, там «Торговый городок Пассаж», тут — вообще клуб «Казино», и на вывеске — перечень игр: шмен де фер, баккара, рулетка… Только редко где видно нормальное русское название заведения, скажем, «лавка братьев Ивановых», всё больше птичий язык сокращений: «Москопромсоюз», «Севзапторг», «Ленинградтекстиль» — все тут, на этом разноимённом проспекте, и тут же Елисеевский — не тронули его большевики, и за широкими витринами всё так же разнообразие товаров. Нет, многое, многое осталось, как прежде: пускай большевики и вынули из Петербурга вместе с именем и душу, но каменное, могучее тело осталось, как лежит под ногами победителей, обхватив землю, сражённый великан. Остался Казанский собор с фигурами фельдмаршалов-князей, защитивших Россию от французов (а от себя защитить — не нашлось князей), остались покрытые изморосью бронзовые юноши, вечно укрощающие коней на Аничковом мосту, остался и Зимний дворец — только вот снесли ограду сада — и шпиль Петропавловского собора всё так же смотрел с другого берега в низкое небо серого зимнего утра. Пока ехали, смотрели то на город, то на попутчиков в вагоне. Не стало в России офицеров, сановников, купцов, городовых, стали — краскомы, партактив, нэпманы, мильтоны: всё то же по сути, только победнее, попошлее, поглупее. Одеты большинство были бедновато, всё больше в тёмное, все с какими-то котомками в руках. У остановки перед Дворцовым мостом у выхода поднялась возня и крик — какая-то женщина не успела сойти и проталкивалась через толпу. «Раньше проходить надо было, гражданка!» — нервно крикнул ей кондуктор. На Васильевском кондуктор поймал безбилетника — паренька лет пятнадцати в драном полушубке. Тот дёргался как пойманная рыба и нагло кричал: «Да я одну остановку! Да я заплатить не успел!». С другого конца вагона через толпу пролез милиционер в фуражке, в туго перепоясанной шинели. Трамвай остановился, началась перепалка. «Ты не заплатил?» — грозно спрашивал мильтон. «Я заплатил, он врёт всё!» — орал парень. «Он не платил!» — кричали одни граждане, «Давай поехали!» — кричали другие. «Штраф платить будешь?!» — кричал кондуктор. «Не буду штраф платить!» — вопил юноша. Закончилось всё тем, что мильтон взял парня за рукав, вывел из трамвая и куда-то повёл. Трамвай уже отъезжал, когда пассажиры увидели, как парень ловко вывернулся и припустил по панели. Мильтон бросился за ним. «Шпана!» — прокомментировал сцену стоящий рядом с Пулавским гражданин в тулупе и меховой шапке. Дальше, когда уже вагон освободился, и подпольщики смогли занять место на скамье, напротив них уселись молодые люди гимназического возраста, юноша и девушка. Они продолжали начатый разговор: — Ну и как же его зовут, Вера? —спрашивал юноша. — Я уже сказала, что не скажу, — решительно отрезала барышня. — Но почему же? —продолжал настаивать тот. — Если вам это так важно знать, спросите у Нины, — ответила та. — А я хочу знать от вас. — Я вам напишу, — сказала девушка, достала из кармана блокнот, карандашик и принялась что-то выводить. — Ах вот оно что! — покачал головой юноша, заглядывая в блокнот. — Вот вам и «вот и что»! — назидательно произнесла девушка. 11:15, 20.12.1925
СССР, Ленинград
Малый проспект В. О. на пересечении с 12-й и 13-й линиямиПарадные входы в это пятиэтажное, углом выходящее на пересечение улиц здание были заколочены; выбиты и заколочены были и окна стоящего напротив дома. Здесь, в близости к фабрикам и порту, в удалении от центра города, вообще было неухожено: только Малый проспект был очищен от снега, панели же пересекающих его линий были завалены сугробами с тонкими протоптанными дорожками. Подпольщики прошли в каменный, голый двор, вошли через чёрный ход, поднялись по широкой обшарпанной лестнице, оборачивающейся вокруг решётчатой лифтовой шахты, на третий этаж к нужной двери, на дубовой поверхности которой висела потемневшая медная табличка «Д-ръ И. Царёвъ», постучались: стук, три стука, ещё два стука. Долго не было ответа, затем за дверью послышались торопливые шаги, и глухой женский голос произнёс: — Да? — Вы, вероятно, и не ждали нас увидеть? — назвал условленный пароль Пулавский. — Боже мой, да это же вы! — послышался тот же голос из-за двери, щёлкнул замок, другой, и дверь отворилась. За дверью стояла светловолосая женщина лет тридцати, в домашнем платье и безрукавке. Это была не Царёва. — Боже мой, да это же вы! — повторила она.
-
Страшная картина несчастного Петрограда. До глубины души пробирающая.
-
Просто невероятно круто. Читается как хорошая книга.
-
|
— Ты, мил-человек, давно на Западе-то? Язык тут выучил?
— Давно. Да, здесь, только плохо выучил, ты видишь… — согласился Милош, доскребая галетой остатки еды из консервной банки. Провёл языком по зубам: трещина, скол, острый остаток коренного с каверной, забитой волокнами мяса. Крошатся, ломаются вот уже который год, тупо ноют от сладкого и холодного. Ещё пара лет, и совсем можно остаться без зубов, — если есть у него эти пара лет.
Илай продолжил говорить, и Милош подозрительно скосился из-под пыльных полей шляпы на морщинистое, в жёсткой седой щетине лицо, на которое бросал оранжевые отсветы костёр.
— Жену… — только и протянул поляк. Он и забыл думать, что бывает такое у людей: дом, семья, хозяйство, дети, — точнее, забыть-то не забыл, видел такое каждый день, но не мог примерить к себе, разучился давным-давно примерять. Давно уже вместо дома были для него какие-то временные сараи, бараки, чистое поле, вместо жены — дешёвые, намазанные, глупые, нечистоплотные шлюхи, вместо радости — разгульная, бесстыдная пьяная блажь, вместо человеческого разговора — оклики, приказы, брань на никак не дающемся, полупонятном языке.
И ведь вспомнилось — и откуда только вылезло обрывочное, смутное, глубоко запрятанное воспоминание: родина, деревня под Бялобжегами, и смеющееся тонкобровое лицо, половина лица, курчавый завиток за ухом, надутый ветром широкий рукав с выпущенной, паутинкой на ветру летящей белой ниткой. Та девушка из давно забытой юности выглядывала из-за живого на ветру, то надувающегося парусом, то опадающего полотна, сушившегося на верёвке на дворе, и Милош тогда подкрался, широко обхватил её через простыню, а та вырывалась, смеясь… Кася, что ли, её звали? А, нет, Кася была та полька в Париже, которая потом опустилась ниже самого дна: последний раз он её видел в чаду рыночных рядов Чрева Парижа, в очереди за супом: он работал мусорщиком, она тёрлась с какими-то грузчиками, оплывшая, растрёпанная, грязная, пьяная с утра. И вот так все воспоминания: ничего хорошего и вспомнить не удаётся, чтобы не покатилось всё, крутясь, мельтеша, в какую-то адову пропасть, не давая помнить и думать о том, что было же когда-то и у него в жизни что-то хорошее: была любовь, была родина, гордость была, достоинство…
— Жену… — повторил поляк, горько усмехаясь. — Я все деньги пропью, — решительно сказал он. — Вот и не хочу пропить, но пропью. Прогуляю, проиграю, — но не хотелось возражать человеку, который в кои-то веки обратился к нему, Милошу, так задушевно, и добавил тот: — Но жену было хорошо бы, — и протянул кружку Илаю, кивком благодаря его за кофе.
Замолчать бы сейчас, уставиться в огонь, как Милош уже привык делать, но какими будут его одинокие размышления, Милош уже знал: снова завертится череда гнусных воспоминаний, накатит волна жалости, отвращения и презрения к себе, сменится чёрной, сжирающей душу апатией. Нет, надо продолжить беседу — когда ещё удастся поговорить с человеком по-человечески?
— А сам? — спросил поляк. — Имеешь ты кого сам?
|
Словно угадав подозрения Пулавского, Дванов и сам оглянулся по сторонам. Никого не было: глухо темнели двери по сторонам, пусто уходил в высоту лестничный пролёт.
— Проходите, проходите же! — торопливо и опасливо запричитала женщина, заглядывая Пулавскому за плечо. Как только дверь за подпольщиками захлопнулась, встречающая, наконец, облегчённо обернулась.
— Я понимаю, что я не та, кого вы рассчитывали здесь увидеть, — сбивчиво начала она. — Раздевайтесь, господа, раздевайтесь. Вот сюда обувь, сюда пальто. Дело в том, что Вера Устиновна умерла две недели назад. Советские врачи, неудачная операция. Чемоданы проносите с собой, здесь комната готова. Я понимаю вашу опаску, понимаю, но поверьте мне… да впрочем, осмотрите хоть все комнаты, тут нет засады, — широким жестом хозяйка обвела прихожую.
На первый взгляд тут всё было как до революции: полосатые обои на стенах, старое, черновато-мутное зеркало в рост, обстоятельный комод, пара широких двустворчатых дверей с медными ручками у одного угла. Но, стоило присмотреться, и находились приметы времени, — какой-то табурет с железным тазом у стены, керосинный бидон, в гардеробе — санки стоймя.
— Вера Устиновна работала в порту, у неё были возможности сообщить обо всём за границу. У меня такой возможности нет. Вера оставила мне связь с людьми, которые ходят в Финляндию, но я всё сомневалась, должна ли я рисковать передавать им всё, что знаю. Ах да, простите, простите, моя рассеянность ещё хуже вашей, господа, — меня зовут Дарья Устиновна Синицкая. Я сестра Веры Устиновны.
-
Право дело, неожиданно, господа!
|
- Петр, а вы действительно так уверены в трусости и слабости красного ОКПС**? Из личного опыта я считаю, что к двадцатому загнанные в войска болос лапотники и жиды-комиссары, стараниями принудительно мобилизованных офицеров, все же научились неплохо воевать.
— Не знаю, не воевал, — ответил Пётр. — Воевать, может, и умеют, а границу охранять пока не очень получается.
Государственная граница Финляндии и СССР,
берег реки Сестры,
крупный снег, -3 °С, слабый переменчивый ветерГлухая чащоба тянулась в обе стороны: не было видно ни огоньков, ни дорог, ни иных признаков жизни, только пару раз нарушители границы пересекли чужую засыпанную снегом лыжню («это финские пограничники» — коротко пояснил контрабандист). С сизо-седого, пучившегося пухлыми облаками неба, мягко падал крупный, налитый влагой снег, оседал пышной бахромой на шапках, плечах, тяжело валился с потревоженных еловых ветвей. Видно в такой снегопад было на несколько десятков шагов, и в снеговой мгле терялись очертания берегов озёр, пустынных полей, которые путешественники пересекали. После двух часов хода сделали привал, выпили тёплого кофе из термоса Петра, съели по плитке шоколада. Пошли дальше: Пётр торил лыжню, отягощённые чемоданами подпольщики поспевали следом. Пётр остановился у пологого ската, спускавшегося в узкую и неглубокую ложбину. Обеспокоенные остановкой, путешественники настигли его. — Ну вот, — сказал Пётр, указывая на ту сторону ложбины, — вот вам Россия. На российской стороне было всё так же, как и на финской: мучно белели снежные бугры, торчали облепленные снегом прутья подлеска, чересполосица чёрных стволов уходила по берегу речки в серую, мельтешащую снегом тьму. Не было даже красно-зелёного столба с нелепым новодельным гербом. 04:23, 20.12.1925
СССР, Ленинградская область
близ посёлка Песочный,
крупный снег, -5 °С, слабый переменчивый ветерОчень удачно уж всё складывалось, удивился и сам Пётр — единственный след советских пограничников, давно занесённую снегом лыжню, встретили только чуть после границы, да позже, когда шли лесом вдоль края снежного поля, Пётр указал на огонёк, смутно пробивавшийся сквозь снежную пелену: «Вон, застава. Раньше дача была адвоката какого-то, сейчас сидит погранохрана там». Шли лесом тихо, с остановками, потом, набравшись сил, быстрым бегом пересекли шоссе, опять углубились в лес. Далеко справа гулко прогрохотал, просвистел поезд («Международный» — прокомментировал Пётр). Обошли деревеньку, как пояснил Пётр, названием Медный Завод, населённую ингерманландскими финнами: чёрные одноэтажные избы, заборы, сараи, горбы лодок на берегу озера, ладное крылечко земской школы в конце улочки — всё как было, словом: ни запустения, ни процветания, ни кумачовых лозунгов. Совсем уже выбились из сил: смазка, видно, сходила с лыж, и всё тяжелей скользилось по мокрому снегу, набивался снег под крепления, задубели пальцы в ботинках, гудели обе оттянутых чемоданом руки, как ни меняй их, и казалось, что не будет конца этому затянувшемуся походу, и знает ли сам Пётр, куда идти? Допили кофе, доели шоколад, тяжело поднялись со снега, пошли дальше. Но вот показался просвет между елями, а за ним — телеграфные столбы и железнодорожная насыпь. «Далеко забрали, — недовольно хмыкнул Пётр, — но хоть не заблудились. Ну, уже чуть-чуть, господа». Свернули обратно в лес, шли ещё с полчаса и вот, наконец, Пётр указал вперёд, и путешественники различили между стройных, молодых сосен одинокий сарай, в окошко которого была выведена печная труба. Перед сараем крест-накрест были воткнуты в снег лыжи. — Правильно стоят, — удовлетворённо кивнул Пётр. — Всё в порядке. Вольдемар, отпирай! — бахнул он кулаком в дверь. Дверь открылась, и на пороге показался ражий курчавый, бородатый детина в шерстяной поддёвке. — А, явился. Давай, проходи, — кивнул он Петру, по-вологодски окая. — Это пассажиры твои? — Они, — подтвердил Пётр, снимая лыжи. — Давайте, — махнул он гостям, приглашая внутрь. — Меня Володей звать. В сарае было пусто и тепло: в середине помещения жарко пылала буржуйка с длинно вытянутой под потолок трубой, бросая пляшущие оранжевые отсветы на дощатые стены, подле печки и мелко нарубленных поленьев лежала пара шуб, в которые, видимо, заворачивался Володя, ожидая гостей. Здесь же лежали заплечный мешок, помятый чайник и раскрытая книжечка в сиреневом переплёте: «Анаклеты Конфуцiя». Пустые углы сарая, куда тепло от печки не добиралось, тонули в холодной темноте. Разоблачились, устроились у печки, Володя поставил чайник, заварил крепкого чёрного чаю, разлил по жестяным кружкам, пустил по кругу фляжку с водкой («это рыковка, она слабая, лей больше», — пояснил он). — Как добрались-то? — поинтересовался Володя у Петра, сидящего с жестяной кружкой. — Прекрасно добрались, — сказал Пётр, грея ладони о кружку с дымящимся чаем, щедро сдобренным рыковкой. — Ни сучка, ни задоринки. Метели они все испугались, что ли. — Да эт не метель, это так, снегопад, — сказал Володя, и контрабандисты ненадолго замолчали. — А что это ты? — спросил Пётр, указывая на книжку. — А, — смутился Володя, взял книгу, закрыл и сунул в мешок. — Да так, ну, сидеть-то скучно. — И что? Приобщился к восточной мудрости? — Да ну… — махнул рукой Володя. — Вроде, ну… так-то правильно всё. Только мудрёно так, что непонятно ни шиша. И вообще, видел я этих ходя-ходя до революции ещё, дворниками, что там за мудрость у них может быть? Слова одни. — Ну да, какая мудрость у дворников, — вздохнул Пётр. — Ты деньги-то принёс? — Я деньги принёс, а ты товар? Ну, кроме пассажиров? — Принёс, — подтвердил Пётр, устало потянулся к своему мешку и, выложив термос, достал несколько бумажных свёртков. Володя свёртки взял, раскрыл. В свёртках были связанные пучками сигары. — Хороший товар, — подтвердил Володя. — И таранить легко. — Ну да, — флегматично согласился Пётр. — Всё легче, чем духи. — Духи, кстати, тоже нужны будут скоро. А, ну, эту… ну, елду-то принёс? — А, её… — вздохнул Пётр и принялся рыться в мешке. — Знал бы ты, сколько унижений мне пришлось пережить, разыскивая её… — пробормотал он и брезгливо извлёк из мешка ещё один свёрток, продолговатый, поменьше. Володя принялся сдирать бумагу. — Ты что, открывать её собрался? — с отвращением спросил Пётр. — Ну… проверить-то надо, — простодушно сказал Володя. Под бумагой оказался большой фиолетовый резиновый член. — Тьфу, и не противно тебе её в руки брать, — скривился Пётр. — Ну, свой я каждый день беру, — сказал Володя, с интересом разглядывая штуковину. — А здоровый такой. — Я надеюсь, ты не себе купил? — Да ну, нет, конечно. Есть любители… — загадочно произнёс Володя и пару раз взмахнул членом как клинком. — Ой, убери уже, убери, — застонал Пётр, кривясь. — Доставай деньги лучше. Володя полез под поддёвку и достал несколько золотых монет с серпом и молотом на одной стороне и сеятелем — на другой. Контрабандисты принялись рассчитываться, сколько причитается за сигары, сколько за резиновое изделие и сколько из этого требуется вычесть за доставку пассажиров в Ленинград. — Вы, господа, отдыхайте пока, — обратился Володя к гостям, когда с расчётами было покончено, и Пётр спрятал монеты в карман. — Первый поезд в Ленинград — в восемь утра. Вместе и поедем.
-
Каждый пост, как окошко в живой мир)
-
С такими потребностями в товарах - в Совдепии течно Царство диаволово.
-
|
30.04.1926, Страстная пятница, 17:36
Берлин, Вильмерсдорф,
Паризерштрассе 56Вот уж две недели как не было вестей от Власа Ильича. После того вечера Влас Ильич пропал, испарился, ничем о себе не напоминая. Дьявол его знает, где он пропадал, какие новые забавы себе находил. Так или иначе, надежды на то, что он всё-таки пристроит Веру, например, на киностудию в Бабельсберг (где, он хвастался, у него были большие связи), неуклонно таяли. Ангажемента так и не было, и мать всё строже начинала поглядывать на Веру, проводящую дни в безделье. Пришлось найти работу по объявлению: перепечатывать на дому рукопись некого зубного доктора Доброго, который жил в Шпандау. Приходилось вставать рано утром, ехать на трамвае до станции городской железной дороги, а потом в пустом по утреннему времени поезде в пригород, чтобы к девяти принести доктору Доброму десяток-другой машинописных листов и тут же уехать с исписанной красными чернилами тетрадкой. Доктор Добрый писал мемуары, из которых Вера выяснила, что его коммерчески удачная фамилия — настоящая, а сам он до революции жил в Петербурге, буквально в паре улиц от Веры. Непонятно, что в рукописи доктора Доброго навевало большую тоску: его изувеченный профессией почерк или убитый скупостью и сухостью изложения рассказ. Воспоминания доктора были подобны реестру прихода и расхода жизни: они были пересыпаны датами, именами давно умерших людей, бесконечными перечислениями исчезнувших учреждений. Они напоминали конфетную коробку, заполненную одними обёртками; ни капли жизни не чувствовалось в этих обезличенных приват-доцентах Лаврах Исаевичах и Максимах Петровичах, с которыми доктор вёл свою бесконечную войну, и только редко-редко проглядывало что-то живое со страниц, как, например, тогда, когда Вера прочла имя преподавателя гимнастики из Петришуле, который, оказывается, был многолетним клиентом доктора Доброго. Почерк доктора был так плох, что Вере приходилось додумывать непонятные слова, а то, увлекаясь, и целые предложения. Доктор платил по печатным страницам, и потому можно было вставить между слов прилагательное-другое, разнообразив текст и выгадав несколько сантиметров на строке. А если делать ещё и отступы пошире, то десять страниц могли превратиться и в одиннадцать, а это значило — на целую марку больше. Доктор не возражал: ему хотелось, чтобы его труд занимал больше листов, и он исправно платил Вере условленную таксу. С деньгами в кошельке Вера возвращалась на поезде в Берлин и шла на Курфюрстендамм за покупками. В книжных магазинах «Москва» и “Logos” продавались «Современныя записки», сочинения Ильина и Сирина, а также гости из России с обрезанными ерами — Серафимович, Эренбург, и, совсем уж сиротливый бумажный беженец, — никому на родине не нужный трёхлетней давности литературный альманах «Голос Минувшего». В гастрономическом магазине «АГА» (многие думали, что это сокращение, а это была фамилия хозяина) продавали русскую сметану, икру, балык и чай «Кузьми-тее»* В стыдливо прячущемся за немецкое название магазине фирмы “Leiser” продавали обувь, в не стесняющемся кириллицы магазине А. Ланда — парижские бюстгальтеры, а некто И. А. Шавецъ, совсем уж не скрываясь, разудало торговал аж харьковскими мехами. Где под Харьковом добывают меха, не знал, должно быть, и сам И. А. Шавецъ, но покупатели «не из местных», вероятно, вовсе полагали, что Харьков — это фамилия белогвардейского генерала. Да, а ведь число «не местных» здесь, в Шарлоттенбурге, в Вильмерсдорфе, всё росло, а русский Берлин таял месяц за месяцем. Ещё рассказывали шутку про немца, который как-то по глупости забрёл на Ку-дамм, побродил по русским магазинам и ресторанам, да и повесился… от тоски по родине, но давно уж не было в Берлине той фантастической, безумной атмосферы «мачехи городов русских», кем Берлин был года три назад, когда каждый десятый житель города был беженцем из России. Сейчас всё поменялось: марка была крепка, Германия потихоньку набирала сброшенный за время военной диеты жирок, и жить в Берлине становилось многим не по карману. Разбредались, разъезжались: кто в Париж, кто в Прагу, а кто — и в Совдепию. Вот и старая, ещё по Петербургу, подруга Зоя Терещенко оформила наконец визу и, не дожидаясь Пасхи, уехала сегодня в Париж; Вера ходила её провожать на вокзал. С вокзала Вера зашла в русскую гастрономию за куличами и пасхой к предстоящему празднику, но, как выяснилось, покупала зря: угощения домой уже принёс Яков Спиридонович. Яков Спиридонович Ляпшин был частым гостем в доме Балицких и другом Вериной матери. Он работал приказчиком в ювелирном магазине, но вместо золота и бриллиантов пока приносил матери калачи и конфеты. Мама не возражала: в конце концов, она была немолодая и не очень богатая женщина, и её, видимо, устраивал и голубиный нрав Якова Спиридоновича, и его подслеповатость, и выдающийся под жилетом живот, и какой-никакой заработок. Рада она была и куличам. Тут выяснилось, что Вера тоже принесла куличи. Поохали да решили съесть Верины сейчас, чтобы не засохли. «Генеральная репетиция!», — игриво объявил Ляпшин, ставя самовар. За чаем речь зашла о Пасхе, и Яков Спиридонович с мамой поставили Веру в известность, что они в праздничный день едут в Груневальд кататься по озеру на лодке. Пригласили с собой Веру и — больше из вежливости — вышедшую к чаю из своей комнаты Oma, которая православную Пасху-то и не праздновала никогда. Oma ехать отказалась, заявив по-немецки: «В газетах пишут, что в Груневальде убийство за убийством. Езжайте, если хотите, а мне дорога моя молодая жизнь». Ляпшин по-немецки понимал неважно, и обеспокоенно переспросил у мамы, что там насчёт убийств. Мама успокаивающе положила ему на запястье руку. «Смейтесь, смейтесь, — сказала Oma, хотя никто и не думал смеяться. — Я посмотрю, как вы запоёте, когда вас перевернут вместе с вашей лодкой», — и ушла к себе в комнату, забрав чашку чаю и кусок кулича. Вообще мир Oma был жуток: квартира была единственным надёжным уголком в её вселенной, а всё остальное пространство заполняли бесчисленные опасности: убийцы, насильники, грабители, большевики, бешеные автомобили, бешеные собаки, аварии на подземной железной дороге, обваливающиеся строительные леса, солнечные удары, гололёд, грипп и туберкулёз в открытой форме. Казалось, газеты она читает только затем, чтобы открыть для себя какой-то новый, неизученный вид опасности, вроде падения аэроплана, и занести его в свой гомеровский список. Переживать за дочь и внучку она начинала в тот момент, когда за ними закрывалась дверь, и было неприятно оставаться с ней в квартире, когда мама надолго куда-то уходила. Oma не могла найти себе места, бродила от окна к окну, комкала в руках платок, всё порывалась звонить кому-то, но не звонила, а когда мама, весёлая, наконец возвращалась, Oma с мрачнейшим видом показывала ей часы и гневно и оскорблённо говорила: «Неслыханно. Непостижимо», и так портила ей настроение. На улице прогремел трамвай, просигналила машина. Яков Спиридонович заговорил о другом, чужом празднике: первом мая. «Главное, чтобы не было никаких беспорядков, — кротко заметил он. — Потому что беспорядки — это… это хуже всего». Мама согласно кивнула, поднесла к губам чашку. Яков Спиридонович вздохнул. С улицы донёсся ещё один гудок автомобиля, в этот раз прерывистый и настойчивый. «Кто это там так разгуделся, паровоз такой? — сказал Ляпшин. — Верочка, вы посмотрите?» Сидевшая ближе к окну Вера выглянула вниз: у панели была запаркована неизвестная Вере чёрная машина, а рядом с ней, одетый в осеннее пальто, с наглухо замотанной шарфом шеей, в шляпе борсалино, стоял не кто иной, как старый знакомый Веры: Влас Ильич. Влас Ильич смотрел прямо на Веру и развязно махнул ей рукой: давай, мол, спускайся. Всё-таки запомнил адрес!
-
да, прям как в старые-добрые.
Где под Харьковом добывают меха, не знал, должно быть, и сам И. А. Шавецъ, но покупатели «не из местных», вероятно, вовсе полагали, что Харьков — это фамилия белогвардейского генерала.
а вот тут проиграл.
-
Сколько же здесь эрудиции!
Еще один шикарный модуль из тех, который не стыдно будет показывать левым людям, далеким от эльфов, гномов и космических кораблей. И сказать: "Да, вот таким-то я тут занимаюсь. А вы думали?"
-
Oma с мрачнейшим видом показывала ей часы и гневно и оскорблённо говорила: «Неслыханно. Непостижимо», и так портила ей настроение.
Толстой! Лев Николаич который.
-
Каждый пост, как праздник.
Ты книги не пишешь?
-
За игру, обсуждение и чувство сквозящее в каждом посте - увлеченность своей темой.
|
14:11, суббота, 19.12.1925
Финляндия, близ Терийоки,
Петров двор,
Мелкий снег, -8 °С, южный ветерЗатерянный в карельских лесах домик был неплохо обжит постояльцами за неделю: жилая комната была отмыта и хорошо протоплена, заткнуты были щели и утоптана дорожка к озеру, а Пётр всё затягивал выход — слишком хорошей для декабря была погода: морозная, солнечная, безветренная. Другой бы радовался в короткие часы зимнего дня сияющему снегу с искристо-свежими срезами невысоких пока сугробов, по которым пролегала чересполосица длинных, фантасмагорически изломанных теней тёмно-золотистых сосен, радовался бы тающей в дымке глади озера с пасхальным куличиком островка посередине, гладкой, накатанной лыжне, извилисто уходящей в обход чёрного ельника; но постояльцам Петрова двора требовалась другая погода: они ждали вьюги. Пётр был финном-контрабандистом. В БРП он не состоял, но охотно выполнял для Братства и иных, надо думать, организаций свою работу. Из Финляндии он возил в Совдепию шёлковые чулки, пудру Коти, французские духи, из Петербурга вывозил картины, старинные часы, украшения. Работал он обычно с подельниками, переходя границу с санками-толкачами по льду залива, но в прошлом месяце наткнулся там на погранохрану, ушёл с перестрелкой и с тех пор ходил по суше. На вид Пётр был совершенный чухонец: редкие соломенные волосы с жидкой рыжей бородкой, широкое дебеловатое лицо, маленький вздёрнутый нос. Русским языком он, тем не менее, владел в совершенстве и говорил с чеканным питерским выговором: как он пояснил, отец его, богатый до революции купец, был женат на русской и владел домом на Казанской улице, где Пётр, ровесник веку, и вырос. Про Петра Пулавский с Двановым наслышались ещё от Юрия Тимофеевича, который инструктировал их в Гельсингфорсе. Так, Юрий Тимофеевич рассказал им, что Петра как-то раз поймала советская погранохрана, и тот притворился финским охотником, заблудившимся в лесах и не понимающим по-русски ни слова. Его продержали пару недель в советской каталажке, а потом отправили домой. Сам Пётр скупо подтвердил эту историю, добавив, что второй раз этот номер не пройдёт, и при переходе границы нужно быть осторожными. Но переход всё откладывался, и все эти дни будущие подпольщики были предоставлены самим себе. В их распоряжении был плохо обжитый, спорадически используемый хутор — здесь был старый, гниловатым тёсом крытый пятистенок с жилой комнатой с маленькими окошками, нехитрой утварью на колченогом, массивном столе и железной печью, использующейся вместо вышедшей из строя каменной в углу, да четырьмя лежаками вдоль стен. За домом в окружении сосен стоял закрытый ржавым висячим замком покосившийся сарай, а на глинистом берегу безымянного озера чернели развалины давно сгоревшей бани. От хутора через лес узкая тропинка вела к деревне, но туда постояльцам ходить запрещалось. Не забредали сюда и местные, и только пару раз Пулавский с Двановым видели в окрестностях одного и того же старика-охотника. Постояльцы кололи дрова, рыбачили на озере, стреляли тетеревов из двустволки, оставленной здесь Петром, и упражнялись в знании советской жизни: Пётр оставил им тяжёлую стопку советских журналов — «Красная новь», «Красный огонёк», «Красный перец» (всё воспалённое как в лихорадке), а в свои посещения домика и сам экзаменовал их на знание пролетарского языка и топографии: а ну-ка, кто такой «сорабкоп»? Не кто, а что: советский рабочий кооператив. А кто такой «сезонник»? Сезонный рабочий. А что такое «сезонник»? Его карточка. А как пройти в Ленинграде на угол Плеханова и Третьего июля? Никак не пройти, они не пересекаются: это Казанская и Садовая. Как обращаться к половому в чайной? Товарищ? Нет, уж точно не товарищ. Просто «Эй!» будет достаточно. Готовьтесь, готовьтесь к своему делу. А дело предстояло нешуточное. С его сутью прибывших в Финляндию путешественников познакомил встреченный в условленном месте Гельсингфорса человек в котелке, с добротным, чистым и моложавым лицом, назвавшийся Юрием Тимофеевичем, состоявшим в Братстве под № 18 (Пулавский был под № 324, а Дванов — № 731: номера распределялись по какому-то неведомому принципу и вряд ли отражали реальную численность Братства). ДЕЛОПо прибытии в Петербург подпольщикам надлежало направиться на Васильевский остров, где в квартире 16 дома 47 по 12-й линии на перекрёстке с Малым проспектом (хорошо хоть цифры и размеры были сочтены новой властью достаточно благонадёжными, и обошлось без переименований), жила подпольщица Вера Устиновна Царёва — одной фамилии достаточно, чтобы некомфортно себя чувствовать в стране победившего пролетариата. Прилагалась и карточка, дореволюционного ещё времени: В дверь квартиры Царёвой предписывалось постучаться условленным образом и назвать пароль: «Вы, вероятно, и не ждали нас увидеть?» Царёва должна была отозваться: «Боже мой, да это же вы!» У неё предписывалось остановиться на время выполнения первого задания. Первое задание заключалось в установлении контакта с подпольной группой некоего инженера Самсонова Сергея Александровича. Группа Самсонова, по сведениям Братства, действовала в Петербурге уже больше года. В прошлом июне для связи с ней в город был направлен поручик Георгий Владимирович Успенский, также остановившийся у Царёвой. Ему удалось выйти на группу и через Царёву передать за границу сведенья о том, что группа, хоть и малочисленна (восемь человек), но надёжна, её члены имеют связи на заводах и в партийных организациях и могут стать подспорьем в будущем восстании, а также актах террора. Успенский также оставил адрес самого Самсонова (Можайская 40, кв. 7), но тут пароля предусмотрено не было, и предлагалось ограничиться упоминанием самого Успенского. Квартиру Самсонова также предлагалось использовать как запасной вариант на случай проблем с явкой у Царёвой. Из поездки в Россию Успенский благополучно вернулся. Связавшимся с Самсоновым подпольщикам предписывалось собрать его группу, оценить её развитие и результаты работы за полгода, передать Царёвой полученные сведенья в зашифрованном виде (шифру был обучен Дванов), а Самсонову, в свою очередь, передать пакет, сейчас бывший у Пулавского. После завершения первого задания подпольщики должны были направиться в Москву, где им предлагалось остановиться в гостинице. В новой столице подпольщики должны были разыскать Бориса Ильича Соколова, 29 лет, женатого, беспартийного, который по состоянию на декабрь прошлого года жил в Мажоровском переулке, 8, кв. 38, и работал в Московском коммунальном хозяйстве (должность известна не была). Прилагалась и фотография: Отдельно пояснялось, что на фотографии изображён не Борис, а его брат-близнец Влас, живущий сейчас в Берлине. Это обстоятельство предлагалось использовать при контакте с Борисом Ильичом. Задание заключалось в том, чтобы добыть у Бориса Ильича дореволюционный архив его отца, в частности, и наиболее важно, — некую «синюю тетрадь». По словам Юрия Тимофеевича, Борис Ильич не мог с ней расстаться, так как он прекрасно осведомлён о важности этой тетради, хоть назначения и способа применения изложенных в ней сведений не осознаёт. Последний раз «синюю тетрадь» у Бориса Ильича видели в 1918-м году в Москве, когда он расстался со своей семьёй, которая выбрала пробираться на юг России. По получении «синей тетради» подпольщики должны были вернуться в Петербург и заново войти в контакт с Царёвой, которая должна была организовать обратный переход границы. После возвращения в Финляндию они должны были встретиться с Юрием Тимофеевичем в установленном месте в Гельсингфорсе. В случае ареста Царёвой или невозможности с ней связаться по каким-либо иным причинам предписывалось связываться непосредственно с Самсоновым, а после возвращения из Москвы самостоятельно выходить на контрабандиста, который при первом переходе границы встретит их с советской стороны. Последний раз Пётр приезжал из города позавчера: привёз продуктов, в очередной раз сообщил, что переход откладывается, но теперь уж, сказал, ненадолго. И действительно, ждать, по-видимому, оставалось уже чуть: день выдался пасмурным, мороз поубавился, с Балтики затянул хмурый ветер, и уже к серому полудню с неба посыпались первые снежинки. Весь день будущие подпольщики были заняты обычными делами: нужно было колоть дрова, топить гудящую железную печь с выведенной в окно трубой, готовить обед — и всем остальным, чем они тут занимались эту безмятежную неделю. Но нет-нет, да и поглядывали в окно: не появится ли из-за сосен знакомая высокая фигура? И вот, наконец-то, — к обеду, когда солнце, смутным шаром проглядывавшееся в низком, мышиного цвета небе, уже клонилось к чёрной гребёнке елей за озером, а колючий снег начал сыпать хлеще, они услышали знакомый оклик: к дому по лыжне приближался Пётр в своей обычной ушанке, сером полушубке, с рюкзаком за спиной.
|
Сегодняшний день был самым счастливым в жизни Вадима.
Из Петрограда он выехал двадцать пятого числа, когда город уже бушевал, и серые нестройные вереницы рабочих бежали по льду Невы мимо занятых казаками мостов, и колонны под красными знамёнами бурно текли по Невскому, и там же нервные девицы кричали с тумб, и там же был и Вадим, выглядящий нелепо среди демонстрантов, — он продирался через весь Невский с чемоданом в руке, так как трамваи не ходили (слух пронёсся: выдрали все ручки управления), извозчика было не найти, а ему нужно было на Николаевский — и это в такой-то день! Правую руку он был готов себе отсечь, чтобы в этот исторический момент быть вместе с этими чудесными, светлыми людьми: курсистками, раздающими чай в подворотне, студентами с полицейскими шашками и браунингами, учителями в пенсне и расстёгнутых пальто с белыми шарфами и транспарантами в руках, среди этого злобного, возбуждённого броуновского движения; но ему нужно было ехать в Архангельск, и только тем Вадим и ограничился, что выхватил из попавшейся в людской мешанине руки неровно отхваченную ножницами кумачовую ленту и, отставив чемодан, торопливо обвязал ей погон.
Ленту пришлось снять уже по дороге: чем дальше от Петрограда, тем было тише. Провинция была так же мертва, как была мертва столица ещё несколько месяцев назад, в ту глухую, безнадёжную пору, когда не было видно конца гофмановскому кошмару, в который погрузилась Россия. Приятель, бывший сослуживец из Шестой радиотелеграфной, такой же инженер, выпускник Новороссийского университета, по-южному живой и чернявый Сашка Горячев, рассказывал о новых бесчинствах Распутина, и все только качали головами, и ничего не комментировали: sapienti sat. На Выборгской, близ того места, где Вадим обретался, бастовали рабочие, и все им сочувствовали, и качали головами: все понимали, что ничего здесь никогда не изменится, так и будет до конца, до старости: беспомощный, ненавистный царь, сибирский мужик в спальне царицы, ничтожества в министерских кабинетах, поражения и позор: двадцать лет длящаяся Цусима.
Так же тихо было и в Вологде, где Вадим делал пересадку: хмуро чистил от снега перрон бородатый дворник, уныло раскинулась под серым небом привокзальная площадь в невзрачном окружении бревенчатых домишек, местная газета говорила об успешно усмиряющем столицу генерале Хабалове, и разве что в буфете оживлённо о чём-то спорили всё доливавшие в чай из фляжки два земгусара из Москвы. Да о чём тут было спорить, всё было ясно: и теперь ничего не вышло, и прав был Горячев, когда говорил, что на новый Пятый год никакой надежды нет, что народец уже не тот, что дрянь наш народишко — его мордой в дерьмо, а он терпит, терпит.
Тогда, в Вологде, Вадим вынул из кармана питерскую красную ленту, вздохнул и сунул обратно (будет хоть какая-то память этого одинокого дня свободы) и с глухим, затаённым отчаяньем поехал в Архангельск, и совсем не ждал услышать то, что открылось ему на перроне. Не поверил ушам: как так, царь — и свергнут? Не чаялось дожить до ответственного министерства — а тут? Что же теперь, Алексей царь? Перехватывало дух, не верилось, не представлялось возможным.
Вадим шагал, не видя города, не чувствуя веса чемодана, не рассматривая как в пьяном тумане возникших перед ним спутников, забыв про назначение своей поездки, и видел только тут и там мелькавшие над толпой красные знамёна и «Свобода» на них. Из какого-то учреждения выносили портреты с ненавистной, тупой физиономией, кидали на снег, хрустко топтали валенками стёкла, и это, господа, было так чудесно, и с весёлым страхом понималась необратимость этого ликующего движения.
Переменив руку с чемоданом, Вадим сунул ладонь в карман и с радостным удивлением извлёк оттуда позабытую уже красную ленту из Питера. И — была не была, да провались все жандармы к чертям собачьим, — обвязал её вокруг погона. Так и пришёл к начальству, да-с.
-
Обновленная, демократическая Россия вместе с друзьями по Антанте разобъет германцев! Ура!
-
выносили портреты с ненавистной, тупой физиономией, кидали на снег, хрустко топтали валенками стёкла, и это, господа, было так чудесно
Господа, господа, неужели вы нас будете бить?
-
Вот видишь такое, и аж совестно за свои посты делается)
|
31.07.1926, 21:03
Париж, 16-й округ,
рю Себастьян Мерьсе, 32— Анна, ты всё-таки свинья, — хмуро, сквозь зубы процедил капитан Синицкий. Анна, молодая, полноватая женщина лет двадцати пяти, с одутловатым лицом, устало фыркнула и окинула мутным взглядом стол: кубатая бутыль с остатками жёлтой зубровки, пепельница, открытая банка маслянистых сардин, блюдце с тонко нарезанной колбасой и ветчиной, которое незаметно переставил поближе к себе Лемке и брал один кусок за другим, когда никто не видел. Анна раздражённо потянулась через стол и отставила блюдце от Лемке, но Лемке уже по пути успел выхватить ещё кусок. После слов Синицкого за столом повисло молчание, которое поспешил разрядить Скалон, обратившийся к Лемке: — А что вот вы, Карл Фёдорович, думаете по поводу Пуанкарэ? Я вот, знаете, со своей чехословацкой, славянской, так сказать, платформы всё-таки считаю, Эррио нужно было дать ещё шанс… Лемке, жуя колбасу, невнятно продекламировал: — Вам скажу без лести главные слова: фунт на бирже двести, доллар — сорок два, — и захихикал, давясь. — Карл Фёдорович, вы просто… — пьяно сказал Скалон и сделал неопределённый пасс рукой. — Свинья ты, Анька, свинья, — вдруг повторил капитан Синицкий, до того неподвижно смотревший перед собой. — Слушай, Синицкий, — поднялся вдруг с дивана Алексей Гневич, до того молчавший. Сидевшая рядом Катя Гневич молча смотрела перед собой, не выпуская из губ тонкой сигареты. — Да? Что ты мне хочешь сказать, Лёшенька? — с ласковой угрозой произнёс Синицкий, тоже поднимаясь и снимая с тонкого, кривого носа пенсне, который носил, как старый дроздовец. — Ну скажи, скажи? Может, на дуэль пойдём? А то давай. Гневич молча снял и повесил на спинку стула пиджак. — Может, ты не расслышал, что я сказал по поводу своей жены? Своей, позволю напомнить! Я повторю: Анна — свинья. Свинья! — визгливо крикнул он. — Ну, Лев Владимирович, ну… — беспомощно запричитал Скалон. Лемке потянулся к бутылке и быстро налил рюмку себе и сидящему рядом Скалону. Они вороватым движением чокнулись и выпили. — Я сейчас тебе устрою дуэль, гад! — зарычал Гневич и, потянувшись через стол, схватил Синицкого за ворот. Тот вцепился в Гневича, и оба они, сдирая со стола скатерть, повалились на пол. Лемке философски прокомментировал: «Ожесточённые бои» — и нагнулся, ловко подцепив вилкой с пола кусок колбасы как раз перед тем, как её подмяли под собой борющиеся: глухо хрустнуло уцелевшее при падении блюдце. — Я не могу так больше! — пронзительно, надрывно закричала вдруг Анна. — Не могу я так больше! Не могу! Не могу я так больше! Не могу я так больше! — и метнулась к себе в комнату, хлопнув дверью. --- А Барташов и Коробецкий в это самое время вышли из громыхающего вагона метро на станции Жавель. В Париже они были уже второй день, и город встречал их хмуро. Париж вообще стал неприветливым: ушёл в прошлое тот весёлый, довольный жизнью город, где фланировали завсегдатаи бульваров, высматривая под стеклянными сводами аркад принарядившихся в выходной день служанок и белошвеек, где сытые рантье вкладывали деньги в акции русских железных дорог, а дочери их беззаботно гуляли с белыми зонтиками вместо крыльев за спиной, где по улицам ездили ландо с амортизированными подвесками, а в кабаках лили воду через кусочек сахара в бокал с абсентом, где расцветали искусства и устраивались выставки достижений цивилизации. Нет, из войны и эпидемий Париж вышел другим — ожесточившимся, порастерявшим буржуазное добродушие: выстраданная победа не принесла благополучия, и франк терял в цене день за днём, и чехардой менялись правительства, и официантам приходилось учить английские слова, гоняясь за чаевыми сорящих долларами американских туристов, и гремел дикий, негритянский джасс из окон дансингов, и за рулём ожидающих у входа стареньких, ещё на Марне побитых «Ситроенов» сидели усатые русские шофёры. Даже погода встретила Барташова и Коробецкого невесело: после яркого, сквозящего солнцем, густо пахнущего травами и морем юга, тут было холодно, облачно, ветрено, и сыростью и какой-то больничной дрянью пахло в коридоре дешёвой гостиницы, в которой путешественники поселились. А поселились-то вдвоём: Шнейдера с ними не было с самого Лиона. Ночью он сошёл с поезда, оставив записку следующего содержания: Взялъ изъ мѣшка пачку 1000 франковъ. Можете считать это распиской: если вы дѣйствительно окажетесь честными людьми и не раздербаните всѣ деньги на себя, въ чёмъ я сильно сомнѣваюсь, обращайтесь по адресу, и я всё отдамъ (далее следовал адрес в Цюрихе) Первый день в Париже успехов не принёс. Пытались найти Шипова по адресу, оставленному Коробецкому, — нашли дом на улице Пасси в шестнадцатом арондисмане, нашли и квартиру, которую мсье Шипофф снимал, но вот самого его дома не было: как пояснил консьерж, постоялец уехал по делам в Страсбург и вернётся не раньше следующей недели. На следующий день, как и планировали, направились по адресу из записной книжки Ильи Авдиевича, искать Анну. В фигурно украшенном доме на рю Лагранж у пляс Мобер оказался дорогой русский пансион, но мадам Анна Синицкая с мужем, как пояснила хозяйка, здесь не живут уже месяц: выяснилось, что они переехали в пятнадцатый арондисман, в рабочие кварталы у завода «Ситроен». Адрес они оставили, и по нему-то путешественники и направились. Дело уже близилось к вечеру, но тем больше было шансов найти дочь Ильи Авдиевича дома. --- — Я надеюсь, хозяева не будут возражать, если я воспользуюсь гостеприимством, — в пустоту сказал Скалон и, скинув пиджак, уселся на крашеные доски пола, подобрал пустую бутылку и, запрокинув голову, принялся трясти её над раскрытым ртом, собирая последние капли. Гневич и Синицкий вяло мутозили друг друга на полу среди разбитых чашек. За столом остались только Лемке и Катя. Лемке нетвёрдо упёрся локтём в столешницу и обратился к Кате: — Мадам Гневич, а что вы тут так сидите? — Я? — с отсутствующим видом переспросила Катя. — Я ничего. Я воздушное явление. Меня вообще здесь нет. — О-о, это… философия, — заметил Лемке. — Кстати, а можно включить радио? — поинтересовался Скалон. Катя загасила окурок о столешницу, потянулась к пиджаку мужа и, порывшись в карманах, вытащила маленький револьвер. — У вас практический ум, мадам, — прокомментировал Лемке. Гневич и Синицкий, устав от своей пьяной возни, лежали на полу. Катя поднялась с продавленного дивана и направилась к двери, за которой скрылась Анна. — Правильно, Катюша! — заорал Синицкий, поднимая лысую, блестящую голову. — Шлёпни эту дрянь, а я Лёшку шлёпну, и выходи за меня замуж! Гневич поднялся на колени, переполз поближе к Синицкому, с усилием поднял кулак, чтобы дать ему по морде, но Синицкий гадливо отвернулся, и кулак Гневича слабо опустился в пол. Катя тем временем открыла дверь, направила револьвер внутрь комнаты и нажала на спусковой крючок. Револьвер сухо щёлкнул. Гневич расхохотался и брякнулся на пол подле Синицкого. — Никуда не годится такое убийство, — покачал головой Лемке. — А больше не осталось? — подал голос Скалон, переползая по полу к замеченной в углу бутылке, давно и безнадёжно уже пустой. — Нет, поручик, больше не осталось, — сказал Лемке. — Пойдёмте, что ли, в лавку, купим ещё пузырь. — Завтра… на дуэль! — прохрипел Синицкий, обращаясь к корчащемуся в хохоте Гневичу. — На… на эспадронах! — сквозь смех выдавил тот. — Мы дверь закрывать не будем, — сказал Лемке, поднимая за плечо вялого Скалона. Катя беспомощно вертела в руках револьвер, пытаясь понять, почему он не выстрелил. Дверь перед ней тихо затворилась. -- Барташов и Коробецкий поднялись в веренице пассажиров по громыхающей железной лестнице из колодца открытой, утопленной между бетонными стенами станции метро и вышли на набережную. Хмурый холодный ветер гнал серые волны по Сене, перечерченной далёкими линиями фонарей на мостах, железно зашумел поезд метро в бетонном ущелье. Вдалеке под серовато-бурым небом высились трубы завода «Ситроен» — индустриальный контрапункт символу Парижа, мигающему рубиновыми огоньками за спиной, и зеленовато-смутно текла неоновая реклама по ту сторону реки. Газетчик у входа гортанно предлагал свой товар, чуть поодаль матово поблёскивали два таксомотора, ожидающие седоков. Путешественникам, впрочем, такси не требовалось: тут было недалеко: Анна Ильинична жила на рю Себастьян Мерьсе. Туда и направились. Проходя по узким деревянным мосткам мимо безмолвной, щитами загороженной стройки какой-то церкви, посторонились, пропуская идущую навстречу пожилую интеллигентную пару с перевязанным рыжим котом на руках, и те поблагодарили их русским «спасибо». Здесь вообще жило много соотечественников, поэтому путешественники совсем не удивились, свернув за угол и завидев ярко освещённый кабак с французской вывеской, но названиями русских продуктов на грифельной доске за стеклом. Удивились другому, когда дверь кабака хлопнула и, шелестнув наборным бамбуковым занавесом, на тротуар вывалился старый знакомый Барташова — виданный в Марселе поручик Василий Скалон. Скалон был всё в том же спортивном пиджаке с уже не очень белыми брюками и набекрень сидящим канотье, в руках держал бутыль рябиновки и половину колбасы и был очевидно пьян. — Карлуша! — дурным голосом крикнул он, оглядываясь. — Карлуша, ты где? Не намеренные возобновлять знакомство Барташов с Коробецким прошли мимо и остановились перед четырёхэтажным кирпичным домом с подворотней, в которой ютился зажатый между стенами платан, ржавой пожарной лестницей сбоку и общественным туалетом напротив. На бордюре у туалета сидел, потерянно уставившись себе под ноги, рыжий долговязый человек средних лет в клетчатом дорожном костюме. Сверились с бумажкой, взглянули на номер в жестяном ромбе на стене: всё верно, тридцать второй дом. Уже подошли к глухой чёрной входной двери, как из-за спины раздался всё тот же голос: — Ах вот ты где, моя радость! Ну вставай, пошли, — и Скалон, подхвативший Лемке под плечо, с колбасой в одном кармане пиджака и водкой в другом, также направился к двери. — Пошли, Карлуша, — говорил он рыжему немцу, — пошли, пока там Анну Ильиничну совсем не убили.
-
Ах, какой же отличный длинный пост...даже жалко, что такой длинный и что так много деталей, потому что все это благолепие в своем игровом посте отразить/учесть/упомянуть - очень сложно.
И все равно что описания Парижа, что пьяные разговоры - все радует.
|
-
-
как вы прокомментируете отсутствие баоцзы на моей тарелке?
Иногда я так реально спрашиваю свою барышню)))). В шутку, конечно).
|
-
А юнга-то непрост, ох непрост.
|
Дай Виктору Алексеичу опробовать новую теорию в деле, у него идея появилась, вишь ты! А после мы все спокойно поговорим о планах на будущее.— Да пробуйте что хотите, — огрызнулся Шнейдер и отошёл в сторону, к облицованному гранитом краю пруда, сбросил рюкзак, снял поношенные, пыльные туфли, скинул носки и, не закатав штанин, уселся на бортик, свесив ноги в сверкающую солнцем воду, благо никого вокруг не было, только в стороне некий жовиального вида господин бросал палку собаке, да по тротуару за фигурно украшенным забором проезжали автомобили да сновали немногочисленные пешеходы. Тем временем Барташов с Коробецким принялись искать несессер, вспоминать, у кого он мог быть. Оказался на дне рюкзака Барташова — он прихватил его той ночью, чтобы отдать сыну Ильи Авдиевича. Распотрошив рюкзак, вытащили потёртый жёлтой кожи чехол на внушительных, потемневших от времени металлических кнопках, с глухим звуком раскрывшихся. Сверху — туристическая карта (Тулон, окрестности, расположение «Домен де Больё» помечено карандашом). Под картой — сложенный истрёпанный лист бумаги, покрытый марками и печатями, знакомый каждому эмигранту, — нансеновский паспорт: а в нём другая бумажка, тоже до боли знакомая, карт д-идантите: Эту фитюльку Французская Республика заставляла менять раз в год: приходилось выстаивать бесконечные очереди в комиссариатах и ещё отдавать 275 кровно заработанных франков. Неудивительно, что у многих русских карта была просроченной, но у Ильи Авдиевича —действительна до августа. За документами на скамью были последовательно перенесены ножницы канцелярские и маникюрные, опасная бритва (хотя Илья Авдиевич носил бороду), футляр с очками, два пузырька с какими-то пилюлями и ещё несколько крошащихся таблеток в бумажных конвертиках, перочинный нож, зубная щётка (почему-то в стеклянной пробирке) и коробочка с зубным порошком. А вот дальше начиналось самое интересное: в специальном кармашке несессера лежала стопка визитных карточек. Достали, принялись перебирать. Какие-то карточки оставались ещё из России, и грустно было видеть имена каких-то казанских зубных врачей, профессоров, гласных городской думы: птичьи лапки следов на мокром песке времени, лишь чуть более долговечные, тем те, кто их оставил. Были карточки и из других городов — некого Н. Гринберга из фотоателье в Петербурге, и вдруг, довольно неожиданно для складной картины предреволюционной жизни университетского историка, — « Павелъ Серафимовичъ Атласовъ. Докторъ теософіи. Опыты сравнительнаго миропознаванія» и адрес в Москве. Павел Серафимович — вспомнил приметное имя Барташов. Когда они в Тонне-Шаранте пришли к Александру Соколову (или тому, кто жил под этим именем), тот поинтересовался, не от Павла Серафимовича ли они. Ну ладно. Принялись дальше смотреть. Карточек времён смуты не было, зато потом пошли берлинские, и на одной из карточек Коробецкий вдруг увидел собственное имя: он уж и забыл, что делал когда-то визитки, а ведь делал и раздавал их кому-то — вот и Илье Авдиевичу досталась одна, и кольнуло воспоминание о том, что в той эмигрантской типографии партия карточек вышла с опечаткой — пятёрка вместо шестёрки в номере телефона, а он не заметил, чтобы сразу вернуть, и потом, с ужасом обнаружив (ведь уже успел кому-то дать) вечером сидел и дорисовывал чёрточку на каждой карточке, стараясь делать аккуратно, как исправляя плохую оценку в гимназической тетради: вот и здесь цифра была исправлена. Затем вдруг снова обнаружилась карточка Атласова, то есть уже не Павла Серафимовича, а Paul S. Atlasoff, и вместо доктора теософии значился он сотрудником газеты “British Russian Gazette & Trade Outlook” (адрес в Лондоне). Под именем рукой Ильи Авдиевича было приписано: «Леваницкiй!». Эта фамилия встречалась среди берлинских карточек. Быстро просмотрели, нашли: « Felizian Lewanizki, Sokoloff u. Goldfarb GmbH» и адрес в Берлине. Никакой своей фирмы у Ильи Авдиевича не было, но Виктор Алексеевич вспомнил, что Илья Авдиевич что-то говорил о своём старшем сыне Авдие, который открыл в Берлине коммивояжерскую контору. Последними двумя карточками была визитка П. А. Соколова (присяжный поверенный в Париже) и — уже знакомая Коробецкому карточка Издательство « Возрожденiе »
Отдѣлъ духовно-эзотерической литературы
Контора:
2, rue de Sèze, Paris (IX); Téléphone: Central, 61-68Аккуратно сложили карточки обратно, убрали в кармашек. Шнейдер, всё так же сидя ногами в воде, откинулся назад, запрокинув загорелое остроносое лицо в жаркое выцветшее небо. Мимо прошли две прилично одетые молодые дамы, и Шнейдер, обернувшись, приветственно осклабился. Дамы посторонились. Шнейдер потянулся к рюкзаку, подвинул к себе и опустился спиной на гравий, головой на рюкзак. Последней вещью в несессере была записная книжка: её решили оставить на сладкое. Достали, неосторожно раскрыли — и вдруг вылетела, рассыпалась по скамье стопка фотокарточек. Собрали, стали смотреть. Вот паспортные карточки самого Ильи Авдиевича (несколько уже отрезаны, одна из них — на нанесеновском паспорте). Вот пара старых, прошлого века, в медной оправке, фотографий с каким-то бородатым господином, старушкой в чепце: наверное, родители Ильи Авдиевича. Наверное, тот белобрысый мальчик, с глупым выражением уставившийся в вечность,— он сам. Неважно. Вот портрет женщины средних лет в белом платье, с ниткой бус, с забранными в пучок волосами на неопределённо-сером фоне ателье художественной фотографии «Рембрантъ» (Казань, Воскресенская ул. — это на обороте). Вот групповой портрет на фоне ваз, гипсовой балюстрады и прочей фотобутафории: снова эта женщина, в другом платье, но с теми же, кажется, бусами, с грудным ребёнком на руках, и рядом — не пожилой ещё, с окладистой бородой, в хорошем костюме с цепочкой, Илья Авдиевич, справа — статный парень в гимназической форме, с пробивающимися усиками, держит за плечи двух мальчиков: одинакового роста, в одинаковых матросках, вообще одинаковых, а с другой стороны — выглядывает ещё один подросток, короткостриженный, невысокий, и даже на карманного размера фотографии проглядывается вулканический чирей на щеке. Вглядевшись, Барташов понял — это Александр Соколов: не тот, который в халате встретил их на пороге дома в Тонне-Шаранте, а тот, с которым он служил на «Офицере» и кто заявился на ферму пять дней тому. Тоже ателье «Рембрантъ». Следующее фото — тоже групповой потрет, всё те же лица, только все уже постаревшие и повзрослевшие, и нет того статного парня, и два мальчика-близнеца — уже молодые люди с тонкими, красивыми и всё такими же неразличимыми лицами, в пиджаках при галстуках, и вместо грудного ребёнка — молоденькая девушка, с коротким светлым ёжиком на голове (примета времени: тиф), а Александр Соколов — в форме с прапорщицкими погонами. «Ростовъ, 3/VII/1919» — на обороте. А вот любительское фото — снова Илья Авдиевич в группе улыбающихся пиджачных господ, лицо в центре Виктору Алексеевичу знакомо: это Брейтман, редактор берлинского еженедельника «Время». Ну да, вот и на обороте — 30-XII-1921. И последнее фото улетело, его сначала и не приметили, а потом подняли с гравия белый листок без надписей, повернули — и удивились странному сюжету. Фото сделано ночью: магний выхватывает из темноты белый надгробный камень с выгравированным православным крестом, а рядом стоит и цирковым, шутовским жестом, вроде как «Вуаля!», указывает обеими руками на камень незнакомый по другим фотографиям улыбающийся чернявый, низенький молодой человек в пальто без шляпы. Пригляделись к мелким буквам на камне — «Фелицiанъ Леваницкiй», дата смерти неразборчива, виден только год — 1924. Отложили фотографии, раскрыли книжку — и были разочарованы: половина страниц была выдрана, остались только неровные корешки, по которым было заметно, что страницы были густо исписаны. Оставшиеся страницы — все пустые, только на последней карандашом какой-то математический подсчёт столбиком, да на внутренней стороне обложки адреса: Авдiй — Berlin-Charlottenburg, 34, Akazien All. 86-21 Власъ — Berilin-Wilmersdorf, (одна строчка густо вычеркнута, затем) 2, Winkler Str., b/ Babenberg («в доме Бабенберга»), 66-04 Петя — Paris, 5 rue Bourdeau (Opera), (IX) 94-37, 94-66 Анна — Paris, 15 rue Langrage (V) Ф. Л. — Be(дальше густо вычеркнуто) Mr. Felix Levi Poste restante («до востребования») Manor Road Post Office 4 Memorial Avenue, Stratford London, E15 — Юноша, это не пляж! Тут запрещено так сидеть! — вдруг донёсся требовательный голос от пруда. Над разомлевшим на солнцепёке Шнейдером склонилась грозная, усатая фигура ажана. — Вы что, бродяга? — Я? — парень вскинулся и быстро вытащил ноги из воды, обдав брюки полицейского брызгами. — Я нет, я… нет, не бродяга. — Ну-ка пойдёмте со мной! — полицейский крепко ухватил Шнейдера за рукав. — Я швейцарский гражданин! — возопил Шнейдер. — Да хоть Папа Римский, — бросил ажан и потащил Шнейдера, босого, в мокрых до колен штанах, к выходу из парка. Тот, уже увлекаемый прочь, отчаянно потянулся за рюкзаком, схватил и, обернувшись к Барташову с Коробецким, яростно замотал головой — «не надо, не надо идти за мной!»
-
Отлично сложенные детали. Браво!
|
-
Интересно, как одно за другим такие вещи входят в обиход, потом пропадают, потом снова становятся ценностью....
Замечательная рублика))
-
Заинтересовала «рублика», и не зря.
-
|
Вдруг появилась идея для новой рубрики, которую я, недолго думая, решил и открыть. В нашем выдуманном 1926 году персонажей окружает множество вещей, обычных для людей той поры, но нам уже почти неизвестных, давно позабытых. А ведь тогда они были такой же неотъемлемой частью быта, как для нас — рамка металлоискателя на входе в метро, прошивка телефона и уйма других вещей и понятий, которые мы принимаем по умолчанию, о которых почти не упоминаем, и которые поэтому наверняка позабудут через несколько десятков лет. Начиная с сегодняшнего дня по вторникам я буду помещать в этой ветке короткие заметки о таких вещах, что, возможно, добавит атмосферы игре да и вообще, я надеюсь, может стать приятным и познавательным чтением. ПЕДОСКОП(он же флюороскоп, он же рентгеноскоп) Это устройство устанавливалось в обувных магазинах с двадцатых годов, и нашим героям оно могло быть так же знакомо, как знакомо оно было герою Набокова, отправившемуся за новыми ботинками как раз осенью 1926 года: Молодая женщина в черном платье, с блестящим лбом и быстрыми рассеянными глазами, в восьмой раз села у его ног, боком на табуретку, проворно вынула из шелестнувшей внутренности картонки узкий башмак, с легким скрипом размяла, сильно расправив локти, его края, быстро разобрала завязки, взглянув мельком в сторону, и затем, достав из лона рожок, обратилась к большой, застенчивой, плохо заштопанной ноге Федора Константиновича. Нога чудом вошла, но войдя совершенно ослепла: шевеление пальцев внутри никак не отражалось на внешней глади тесной черной кожи. Продавщица с феноменальной скоростью завязала концы шнурка -- и тронула носок башмака двумя пальцами. "Как раз!" -- сказала она. "Новые всегда немножко..." -- продолжала она поспешно, вскинув карие глаза. -- "Конечно, если хотите, можно подложить косок под пятку. Но они -- как раз, убедитесь сами!" И она повела его к рентгеноскопу, показала, куда поставить ногу. Взглянув в оконце вниз, он увидел на светлом фоне свои собственные, темные, аккуратно-раздельно лежавшие суставчики. Вот этим я ступлю на брег с парома Харона.В оконце Фёдор Константинович видел примерно это (без надписи, конечно): (и действительно, несмотря на помощь чудо-лучей, герой «Дара» купил очень неудобные ботинки) Объяснять принцип действия, думаю, не требуется: с рентгеновским аппаратом знакомы все, и все знают, чем может быть чревато злоупотребление его излучением. Стоит лишь упомянуть о том, что единственной защитой, стоящей между непрерывно работающей рентгеновской трубкой и ступнёй, был алюминиевый экран толщиной в миллиметр. Согласно исследованию конца 1940-х годов, двадцать секунд обычного для педоскопа излучения давали дозу в 65–130 миллизивертов для ступни и 3–16 миллизивертов для таза. Для сравнения, одно рентгенографическое исследование груди даёт дозу излучения в 20 микрозивертов, компьютерная томография груди — 5 миллизивертов. А ведь привередливый покупатель мог примерять по десятку пар ботинок! Впрочем, на некоторых моделях педоскопов можно было менять интенсивность излучения между высокой для мужчин, средней для женщин и малой для детей. Большинство моделей также были оснащены регулятором длительности излучения — от пяти до сорока пяти секунд. Как и со многими другими изобретениями, на звание отца этого чуда техники претендовало несколько человек — в данном случае из США и Великобритании. Всё же первым в этой области можно считать доктора Джейкоба Лоу из Бостона, который в 1919 году первым предложил устройство для рентгенографии обутой ноги, хотя и не для коммерческого, а для военно-медицинского использования: при помощи такого устройства можно было быстро увидеть изображение ноги раненого солдата. Патент, который изобретатель получил только в 1927 году, он переуступил компании «Эдриан», которая впоследствии и занималась производством своих «флюороскопов» в США: К тому времени, впрочем, в Европе были уже распространены британские «педоскопы», выпускавшиеся одноимённой компанией: Особенно рассчитаны педоскопы были на детей, которые не только получали развлечение от скучного похода за обувью, но и были избавлены от необходимости объяснять родителям, жмёт или нет ботинок. Для этого педоскопы были оснащены тремя смотровыми трубками — одной для самого ребёнка, второй для мамы, и третьей для продавца.   Педоскоп в отделе детской обуви. Базель, 1953 г. Вред от использования педоскопов стал очевиден ещё в сороковых годах, но первые ограничения на их использование были введены только в пятидесятые, когда в одной лишь Америке насчитывалось около 10 000 таких устройств. Американские флюороскопы исчезли из обувных магазинов уже в шестидесятые годы, а вот консервативные британцы продолжали пользоваться своими педоскопами вплоть до семидесятых годов. В нашей же стране педоскопы распространены не были; впрочем, есть свидетельство, что такое устройство было установлено в ГУМе во времена Хрущёва. Напоследок — небольшое видео о возможностях педоскопа: ссылка
-
Интересно, да и познавательно тоже.
|
28.07.1926, 10:21
Франция, Марсель,
Бульвар Лоншам, 20,
+25 °С, ясно, лёгкий ветерокПозавтракав, направились на поиски парикмахерской. Искать долго не пришлось: увидели месмерически вращающийся цилиндр с красно-белой спиралью, отодвинули шелестящий занавес из бамбуковых палочек на нитях, зашли в душноватое, пахнущее одеколоном и мылом помещение, где цирюльник играл с котом, а подмастерье сметал в совок ошмётки чёрных волос. Цирюльник с цирковой ловкостью прошёлся бритвой по лицам и шеям сначала Коробецкого, потом Барташова, а подмастерье вымыл голову Шнейдеру (ему бритьё не требовалось, но сидеть и ждать парню было скучно). Чистые, жгуче-свежие щёки клиентов были промокнуты холодным, жёстким вафельным полотенцем, опрысканы щиплющим лосьоном из флакончика с резиновой грушей. Расплатились: цирюльник с лязгом крутанул ручку большой, медно отражающейся в зеркалах кассовой машины, и путешественники снова вышли в струящееся солнцем утро. Проехали на трамвае по свежим, живым, зелёным улицам. Вышли у рю Клапье, нашли церковь, ютящуюся на первом этаже жилого здания: Церковь была закрыта на ключ, но у двери висела доска с расписанием служб и объявлениями: «русскiй ресторанъ и гастрономiя “Москва”. Новый шефъ — знатокъ блиновъ и европейской кухни» на рю д’Изояр (значит, жив был ещё ресторан), «д-ръ А. Т. Васильевъ въ Ниццѣ (внутр. болѣзни), 24, Bd Joseph Garnier, II эт., отъ 2–4, ежед.», и «русскiй пансiонъ на 2, Rue de Portail. 50 фр. въ недѣлю, вкусный и обильный табльдотъ. Евреевъ просятъ не безпокоить». Наконец, Шнейдер нашёл под свежими объявлениями старое и пожухлое, о благотворительном вечере, которое устраивает Общество офицеров участников войны («А почему они без дефиса название пишут?» — невпопад поинтересовался Шнейдер). Не сдавшим 20 франков участникам (столбик фамилий) предлагалось под угрозой исключения из списка до 15 мая принести взнос на (жирно подчёркнуто) 20 Bd Longchamp. Этот усаженный платанами бульвар был совсем рядом. Организация располагалась в неприметном конторском здании. Путешественники поднялись по тёмной, затхло пахнущей деревом и пылью лестнице на четвёртый этаж, прошли мимо дверей страхового общества и коммивояжерской конторы и остановились перед табличкой с надписью «Общество офицеровъ участниковъ войны» и ниже, на приколотом листочке: «Просятъ не курить», и ещё ниже «Ici on parle russe». И вправду, по-русски здесь говорили, да ещё как: из-за приоткрытой двери возмущённым фальцетом доносилось: — Я офицер, я депутат Зарубежного съезда*, я галлиполиец, у меня ранение было, в конце концов! Это что, теперь в Обществе вообще ничего не значит?! Гости заглянули внутрь. Контора эта, наверное, выглядела уныло в пасмурный день, но сейчас, когда солнце сквозило через два раскрытых настежь окна, и четыре стола с зачехлёнными машинками, и скучные шкафчики с выдвижными ящиками, серый сейф в углу, рядок разномастных стульев у ближней к двери стены, — всё приобретало какой-то блаженно-дачный вид, и само понятие работы в сочетании с этой обстановкой выглядело нелепым оксюмороном, таким же, как в марсельском зное выглядели шинели томно-измождённых добровольцев со старых плакатов на стенах. На подоконнике, расслабленно откинувшись на стену под лёгким, отдающим морем ветерком, сидел белобрысый и загорелый молодой человек в круглых тёмных очках, форменных брюках на подтяжках и рубашке с вольно расстёгнутым воротом; симпатичная стриженная под мальчика барышня лет восемнадцати стояла у одного из столов и терпеливо выслушивала возмущённые восклицания стоящего рядом высокого набриолиненного и потного господина в спортивном костюме (тёмно-синий пиджак, белые брюки, шляпа-канотье в руках). —Василий Петрович, — умоляюще сложив руки, сказала барышня, — ну не можем мы выдавать деньги на такие надобности. Ведь за свой же счёт вы сюда приехали! Василий Петрович, заслышав шум за спиной, быстро оглянулся, и Барташов узнал в нём поручика Скалона. Его он мельком помнил по Галлиполи, и то лишь потому, что Скалон, которому тогда разве что двадцать исполнилось, был скандалист и кляузник, из-за чего уважением не пользовался и даже был как-то вызван на дуэль, правда, вместо поединка вместе с оскорблённым лицом и обоими секундантами оказался на гауптвахте (которую тогда как раз Ефим и охранял). — И? И что?! — с напором подался вперёд Скалон, который Ефима, похоже, не узнал. — Я в трудной финансовой ситуации, я не могу вернуться домой… — Да, у нас всех с этим затруднения, — флегматично прокомментировал молодой человек, сидевший на подоконнике. — Я о Чехословакии! — выпалил Скалон, метнув злобный взгляд на невозмутимого молодого человека. Тот лениво потянулся к ближнему столу, достал пачку сигарет и спички и принялся закуривать, потеряв к Скалону интерес. Скалон тем временем продолжал наседать: — Ваша обязанность помогать нуждающимся, тем более уважаемым членам Общества! В конце-то концов, на что идёт ваш бюджет? Может быть, мне стоит попросить кой-кого в Париже, чтобы к вам прислали ревизионную проверку? Я могу, поверьте мне! — Ну, Василий Петрович… — простонала девушка, — у нас бюджета-то этого с рыбью ногу, и уж тем более не можем мы его на билеты для вас тратить, это-то и будет нарушением. Может, вам к полковнику Ушакову в Общество галлиполийцев сходить, а? — с надеждой предложила она. — Давайте я адрес запишу? — Да он был уж там, — снова подал голос молодой человек с окна. — Юноша, — хищно обернулся к молодому человеку Скалон. — Если вы ещё раз позволите себе высказаться обо мне, будто меня здесь нет, я вам напомню, что я здесь есть. — Да я вижу, вижу… — успокаивающе сказал молодой человек, затянувшись. — И напомню я вам об этом в самой неприятной для вас форме! — рявкнул Скалон. — Угу, — безразлично кивнул молодой человек. — Господа, обождите пару минут, пожалуйста, — обратилась барышня к путешественникам, указывая на стулья. — Василий Петрович, ну давайте мы за свой счёт телеграмму отправим родственникам вашим или друзьям, может, они смогут… — Мне от вас такие подачки не нужны! — гордо заявил Скалон и, хмуро скользнув взглядом по Барташову, Коробецкому и Шнейдеру, распахнул дверь. — Кстати, у вас здесь запрещено курить! — обернувшись, выпалил он напоследок. — Да я в окно, — пожал плечами тот, но Скалон уже хлопнул дверью. Барышня устало прикрыла глаза и покачала головой. — Да, господа? — с тягостным вздохом обратилась она к путешественникам. — Ивана Дмитриевича пока нет, как видите, — ответила она на вопрос о том, как можно увидеться с полковником Невадовским. — Он сегодня будет, может быть, разве только к вечеру, если вообще. Но сразу хочу сказать, что денежную помощь выдаём только местным членам Общества.
-
борзый Скалон неимоверно доставляет.
|
28.07.1926, среда, 8:12
Франция, Марсель,
Набережная Старого порта,
+19 °С, ясно, лёгкий ветерокВ Марсель прибыли ранним утром, ещё семи не было: невыспавшиеся на жёстких скамьях поезда из Тулузы, на пятый день железнодорожной беготни вконец вымотанные. Город для путешественников новым не был: здесь они были и четыре дня назад, когда Жозеф высадил их у трамвайной остановки на окраине, и до того, когда в разное время и разными путями весной съезжались на ферму. Ефим здесь бывал и в двадцать первом году, когда греческий пароход доставил его из Салоник во Францию. Поэтому-то Ефим помнил и адрес русского прихода на рю Клапье, и ресторана на соседней рю д'Изояр, а вот адресов эмигрантских обществ не знал — тогда, в двадцать первом, беженская толпа ещё только катилась волной по Европе из Константинополя, из Финляндии, из Польши, и никто ещё не осел на месте, и никто ещё, кажется, вообще толком не осознавал, что же такое с ними вдруг произошло, что теперь придётся устраиваться на чужбине, и мало кто полагал, что устраиваться придётся основательно и надолго. Тогда ещё стояла армия Врангеля в Галлиполи, а флот — в Бизерте, Булак-Балахович продолжал набегать на советскую Белоруссию из Польши (как говорили, воюя больше с местными евреями, чем с большевиками), на Дальнем Востоке ещё удерживали последний клочок Приморья братья Меркуловы, а эмигрантские газеты пестрели статьями о том, что большевистский режим вот-вот должен рухнуть под ударом восставшего русского народа. Это, пожалуй, было единственным, что не изменилось за пять лет. Вот и сейчас Шнейдер сидел с парижским «Возрожденiемъ» (эту газету он купил в вокзальном киоске ещё вчера в Тулузе), и читал статью с какой-то костромско-вологодской опечаткой в заголовке: «Наростающее бунтарство въ Совѣтской Россiи»: — Пишут, в Тифлисе бунты, — обратился он к спутникам, которые вместе с ним сидели в плетёных креслах за столиком перед кафе на набережной Старого порта. Несмотря на ранний час, набережная уже кипела жизнью: вереницей спускались с трапа зашвартованного у пирса белого парохода грузчики, тащившие тяжёлые бочки на плечах, складывали бочки рядками на брусчатку, устало разминая плечи, шли обратно; становились к погрузке телеги, запряжённые ослами; с дребезжаньем проехал мимо пустой трамвай, в стёклах которого на мгновенье отразилось, весело блеснуло по глазам утреннее солнце. Пока было свежо, и по набережной гулял, шелестел страницами газеты в руках Шнейдера, шевелил кромкой полосатого маркиза кафе лёгкий, отдающий дёгтем, старой парусиной и гниловатой портовой водой ветерок, но небо над частоколом мачт в гавани, протянувшейся кишкой между высокими зданиями, было без единого облачка: можно было быть уверенным, что будет жара. — Пишут, деньги рабочим не заплатили, они и поднялись. А, вот бы нам так на дебольёновщине-то? А ведь я, господа, жил в Тифлисе пять лет, — сказал Шнейдер, откладывая газету. — Я вам уже говорил, у меня отец там работал, строил мосты. Оттуда и уехали. Только брехня всё это, так я вам доложу, господа. А, Виктор Алексеич, вы как считаете? Шнейдер вообще сейчас стал немного поживей: всю дорогу до Марселя был мрачный как туча, чуть не крестился при виде любого человека в форме и уныло вещал о том, что за него-то, если посадят, Швейцария вступится, а вот вы, господа, за убийство на гильотину как пить дать пойдёте. Но вот добрались они до Марселя, Шнейдер прошёл, вжав голову в плечи, мимо жандармов на вокзале, и когда убедился, что на юношу и его спутников внимания никто не обращает, снова повеселел, и сейчас с удовольствием уплетал яйцо-пашот под сливочным соусом на хрустящем тосте, запивая кофе. В этом кафе на набережной, конечно, было заметно дороже, чем Барташов с Коробецким привыкли, и наверняка можно было найти место подешевле, но сюда Шнейдер их привёл обманом, сказав, что знает одно замечательное недорогое место («Конечно, недорогое, есть куда дороже», — невинно оправдывался он). А как пришли, уходить и искать что-то дешевле уже не было ни сил, ни, с мешком-то денег за спиной, желания особого. По тротуару, неторопливо оглядывая кафе, тянущиеся здесь рядком, шёл молодой исхудалый негр в оборванных штанах и заправленным в карман пустым левым рукавом рубахи. В единственной руке он держал шляпу, в которой позвякивала пара монет. Негр остановился за декоративной оградкой кафе, брякнул монетками в шляпе и просительно посмотрел на эмигрантов. — Уйди, Серёжа, — с набитым ртом отмахнулся от попрошайки Шнейдер. Серёжами во времена галлиполийского сидения русские звали солдат-сенегальцев, служивших во французской армии, поблизости расквартированной. Откуда-то и Шнейдер подхватил это словечко. Негр диковато оскалился и энергично закивал. — Серёжа корошо! — заявил он, пучеглазо, с безумным выражением уставившись на посетителей кафе. — Серёжа тре бьен, корошо! Серёжа корпораль, — указал он подбородком себе на плечо и вдруг затянул дурным голосом, с тяжёлым африканским акцентом: — Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé !
-
атмосфера сделана на отлично!
-
|
Отобедав, путешественники направились на завод — был он совсем рядом: сразу за станцией начинались мрачного вида бараки с развешанным по верёвкам бельём и жухлой, вытоптанной травой. За проходной, отделяющей бараки от завода, поблескивал сталью купол газохранилища, рядком стояли силосы в железном каркасе, тянулась трубная эстакада к кирпичному корпусу с дымящей трубой, спускавшейся с верхнего уровня наклонной галереей, и зёвом огромных ворот, откуда шли рельсы на берег реки, где работали портовые краны, разгружая баржи с сырьём для удобрений. Пахло здесь погано, каким-то то ли мылом, то ли гарью.  Да-да, бараки те самые.  Это тоже химический завод компании «Сен-Гобен», но не из Тонне-Шаранта, правда. Не без труда нашли контору, не без труда нашли нужный отдел, просидели два часа в обитом искусственной кожей коридоре с чахлым фикусом в углу, пока нужный клерк не вернулся с обеда и разобрался со своими делами. Скучно взглянув на эмигрантов через пенсне, клерк похлопал по конторке. — Ну? Где ваши паспорта? — безразлично поинтересовался он. Путешественники замялись. — Я так и думал, — умиротворённо сказал клерк. — Без carte d'identité никого не берём. Коробецкий, владевший французским лучше других, объяснил служащему, что они пришли не наниматься, а узнать, работал ли когда-нибудь на заводе некто Alexandre Sokoloff. Клерк справку давать отказался и отправлять к тому, кто может дать такую справку, тоже не спешил. Препирались до тех пор, пока Барташов не догадался выудить из кармана двадцатку, которую клерк проворно принял и тут же сунул под сукно. — Хорошо, сейчас взгляну… — милостиво согласился он и ушёл в соседнюю комнату, откуда вернулся с конторской книгой в руках. — Так, как вы сказали, Соколов? — клерк начал листать разграфлённые страницы и через минуту удовлетворённо кивнул. — Ага, нашёл! Вот, пожалуйста, — обратился он к посетителям. — Соколо… Соколовский Мечислав, гражданин Польши, оператор грузового крана, проживает в третьем бараке, комната… Но посетителям уже было ни к чему. Никакого Александра Соколова на заводе не было, и работал ли он тут вообще когда-либо — тоже было неизвестно. По крайней мере, за три дня, прошедших со встречи с Соколовым-младшим на провансальской ферме (когда он заявил о том, что работает на этом заводе, — правда, назвав его стекольным), имя его вряд ли могло пропасть из реестров. 15:19Вернулись на станцию, усевшись на этот раз не в буфете, а на свободной скамейке на перроне. Других ожидающих на станции пока не было: ближайший поезд был в 16:40 на Рошфор (то есть в противоположном Марселю направлении), а в 18:15 следовал поезд на Бордо, и оттуда с пересадкой в Тулузе можно было добраться до Марселя — то есть вернуться тем же путём, как и приехали сюда. Шнейдер с отстранённым видом сидел на скамье, закинув ногу на ногу, и курил, глядя на чёрные от угля шпалы, станцию с буфетом по ту сторону путей, приземистый кирпичный ангар чуть дальше, а за ним — пара шелестящих на ветерке лип, черепичные крыши и шпиль церкви вдалеке.
-
да, случайности, конечно, не случайны.
-
Вот так, без бумажки ты иммигрант, а с бумажкой - можешь наняться на кирпичный завод.
|
-
Мне вот дюже стыдно стало вдруг за то, что мастеру приходится самому гипотезы выдвигать такие интересные (=самому с собой отчасти играть). Пассивные мы какие-то стали. Надо исправляться.
|
20.07.2036 16:40
Швейцария, Женева,
Клиника Женолье Женева Ким Чон Нам в 2000-х годах — Мсье Ким? — по-французски сказала медсестра, заглянувшая в палату. — Дождь кончился, и на улице замечательная погода. Если вы не против, я открою окно? Ким Чон Нам кивнул. Медсестра подошла к окну и раскрыла его. За окном большой и светлой палаты раскинулся яблочный сад. Воздух наполнился озоновой свежестью, в палате послышался щебет птиц и донеслись французские голоса гулявших по саду пациентов. Прекрасное место, чтобы умереть, — подумал юный Ким Хюн Чин, сидящий у постели деда. — В нашем деле, — продолжил Ким Чон Нам по-корейски, — есть две самых главных вещи. Первая — никогда не быть дураком. Вторая — никогда не бояться показать себя дураком. Ким Хюн Чин слушал, не перебивая. — Особенно, когда имеешь дело с китайцами, — продолжил Ким Чон Нам. — Для китайцев очень важен внешний вид. Если ты выглядишь как дурак, говоришь как дурак и ведёшь себя как дурак, то все китайцы будут относиться к тебе как к дураку, потому что им и в голову никогда не придёт, что человек в своём уме сознательно захочет терять лицо перед ними, особенно, если это брат Ким Чен Ына. Не-е-ет, для китайцев серьёзный и умный человек — это напыщенный индюк, такой как Председатель Ляо, — Ким Чон Нам комично надул толстые щёки и завращал глазами, — товарищи, съезд партии постановил… — сказал он по-китайски и закашлялся. — Без малого тридцать лет я водил всё Бюро Народной Безопасности за нос, притворяясь дурачком, которому нужны только бабы и больше фишек в казино. Китайцы относились ко мне как к шагуа и поэтому делали ошибки. Взять хотя бы «Аль-Мукбар Инвестментс». У китайцев были все шансы надавить на саудитов при помощи тех военных контрактов, чтобы перехватить контроль над этим фондом. Наклёвывалась новая война с Ираном, и шейхи готовы были свинину есть, только бы получить эти самолёты. Поэтому наш «Аль-Мукбар» мог достаться китайцам почти за так, и мы бы сейчас сидели у китайцев под колпаком. Но я пришёл на встречу в панамке, шортах и футболке с Винни-Пухом, а ещё посадил твою маму звонить мне раз в десять минут с разных номеров, якобы от любовниц. У меня тогда была только одна любовница, и я не хотел её подставлять. Когда полковник Яо увидел, какое я чудо в перьях, он решил, что я подставная фигура, и на самом деле за деньгами «Аль-Мукбара» стоит кто-то иной. Пока они выясняли, кто (тут я тоже постарался, кинув пару ложных следов), истребители были поставлены, война так и не началась, и «Аль-Мукбар» снова был в безопасности. Поэтому запомни, Хюн Чин, — Ким Чон Нам положил ладонь на руку внука, — нужно быть дураком снаружи, а умным — внутри. — Не-а, — ответил Ленни, — я ещё не обедал даже. Вопрос «вы уже покушали?» в Китае задавался как приветствие наподобие английского "How do you do?" и требовал ответа: «покушал, а вы?», и ответ, подобный тому, который дал Ленни, не мог рассматриваться иначе как сознательная дерзость. Тем более что на самом деле Ленни с Сюй Юань пообедали в Гуанчжоу. Ну, про его участие в моём освобождении — это может быть и враньё, — думал Ленни, слушая китайца. — Впрочем, кто бы там на самом деле ни напрягся для моего освобождения, этот Гао ждёт от меня благодарности за участие, и её ни в коем случае нельзя показывать. В конце концов, я же избалованный и глупый правнук Ким Чен Ира, и от меня требуется, чтобы я воспринимал такие вещи как должное. Я никому не должен ничего, а все вокруг должны мне, вот такая вот у меня жизненная позиция. Наверняка Гао хочет использовать меня в каких-то интригах против Ким Юн Чхуля. Может быть, с целью перевести денежные потоки из Пхеньяна обратно на меня и использовать меня как послушную марионетку китайских спецслужб. Они мне дадут гоняться по Макао и разбивать «Тэпходон» за «Тэпходоном», а я в ответ буду послушно подписывать все их бумажки. А когда режим в Пхеньяне рухнет, я им больше буду не нужен. Чувство опасности привычно щекотнуло по нервам, и Ленни сам удивился этому чувству. Разговаривать с этим Гао было всё равно что нестись по автостраде под двести километров с отключенной системой автоматической коррекции действий, маневрируя в потоке машин и зная, что потеря концентрации на мгновение может привести к столкновению со смертельным исходом. И, чёрт возьми, это было здорово. Неудержимо захотелось поиграть с китайцами в кошки-мышки, попытаться, как дед, обставить всё Бюро Народной Безопасности и — чем чёрт не шутит! — выиграть в этой игре приз в виде ещё года-другого жизни, такой, к которой он привык и на которую не променял бы ничего. А не получится выиграть у них — так и чёрт с ним. Гао Шан может знать, как плохи дела у Ленни в финансовом плане, но вот чего Гао Шан знать не может, так это того, что Ленни давно сделал свой выбор умереть молодым и не собирается отчаянно цепляться за жизнь, и именно то, что Ленни не боится смерти и не боится потерять всё, что у него есть, может стать главным козырем в игре против китайских спецслужб, которые будут пытаться его шантажировать и ему угрожать. Ну что ж, Лаогао, поиграем? - Видите ли, Сяосяньчэнь, мне бы очень хотелось побеседовать с вами… Беседа эта, несомненно вызовет у вас интерес, поскольку касается ваших драгоценных, но к великой скорби нашей – почивших родителей. Ну и вас, конечно, тоже. Я бы очень хотел, чтобы встреча наша состоялась в самом скором времени – как только вы прибудете в Макао и смоете с себя дорожную пыль.— Нивапрос, — беззаботно ответил Ленни. — Когда, где? Ленни благодарно кивнул Сюй Юань, вытащив из пачки салфетку и вытирая липкие пальцы. - Сегодня ко мне приходил старый гадатель. Бамбуковые стебли в его руках сложились в гексаграмму Цуй. Видимо, китаец полагал, что Ленни наизусть знает все гексаграммы. Ленни наизусть гексограмм не знал, а поэтому просто уважительно протянул: — Ооо… Вы верите гаданиям, Ким сяншен?— У меня родинка над ухом, — заявил Ленни. — По Мянь Сян* это означает, что я великий человек. Ну ещё бы. Я ж чей внук-то. Сюй Юань пренебрежительно фыркнула.
-
Ну ещё бы. Я ж чей внук-то.
Периодически перечитываю эту ветку, чтобы поугарать.
А ведь это драма.
|
-
Не знаю, за что я лайкнул, но это что-то крутое и надо плюсануть!
-
Вот это мастерский штрих.
|
— Куда идти-то? — хмыкнул Шнейдер. — Из любого приличного ресторана нас, господа, в таком виде выкинут. То есть меня-то за шкирку, а вас, может, и пинками, — язвительно заметил швейцарец, заложив руки в карманы и топая по панели обратно к центру городка. — Да и не помню я тут по пути никаких заведений, а искать сейчас… если только обратно на станцию пойти, там же был буфет?
12:00
Туда и направились. На скамейках на перроне несколько человек ожидали поезда, с чемоданами у ног, с газетами в руках. В буфетном зале, положив шляпу на стол, неспешно хлебал какой-то суп усатый господин в клетчатом дорожном костюме, по виду коммивояжёр. У ног господина стоял обклеенный гостиничными ярлыками кожаный чемодан. Знакомый уже лысый лакей выкладывал сандвичи с ветчиной на тарелку, сняв прикрывающий её стеклянный колпак. Сверились с меню, аккуратно выведенным мелом на грифельной доске. Выбора большого не было, но зато, выбирая, можно было смотреть на названия блюд, а не на столбик с ценами, как к тому привыкли. Решили взять самое сытное: свиные отбивные с сосисками и гарниром, а к ним несколько тарталеток с печёночным паштетом и три бутылки местного пива («Ледяного нет», — прокомментировал лакей), а Шнейдер, не удержавшись, указал и на пирожное с заварным кремом.
— Если вы садитесь на поезд до Рошфора в двадцать минут первого, то я не успею этого приготовить, — сказал лакей, но посетители успокоили его, сказав, что не торопятся. — Ну хорошо, — хмыкнул лакей. — Но следующий будет только в четыре сорок. Знаете, некоторые вот так засидятся, пропустят свой поезд, а потом винят кого угодно, но не себя.
Уселись за тот же столик, за которым пережидали дождь с утра (громадный подвесной мост за окном стал хорошо виден, темнел железом за тяжёлой шелестящей листвой). Пока с пивом и тарталетками ожидали главного блюда, коммивояжёр промокнул салфеткой рот, кинул взгляд на висящие под потолком часы, поднялся, оставил деньги на столике и вышел на перрон, забыв чемодан. Лакей копошился на кухне. Послышался свисток и приближающееся тяжёлое и монотонное уханье поезда. За окнами, выходящими на перрон, засобирались, заподнимались со скамей люди, сердитым возгласом кого-то отогнал от края перрона железнодорожный служащий. Локомотив, шипя выпускаемым из-под брюха паром, остановился. Коммивояжёр, резко распахнув дверь, влетел в буфет, метущимся взглядом окинул зал и с возгласом облегчения бросился к чемодану. Вышедший из кухни с подносом лакей неодобрительно скосился на коммивояжёра, но того, вместе с чемоданом, в буфете уже не было. Лакей со скучающим видом поставил на стол перед проезжими три большие тарелки с большим куском свинины, тремя белесыми сосисками сбоку, горкой квашенной капусты, несколькими варёными картофелинами и глазком горчицы на краю тарелки.
Шнейдер, без умолку трещавший всё это время о каких-то мостах, которые его отец строил на Кавказе, и, указывая на конструкцию за окном, с видом знатока рассказывавший Барташову и Коробецкому о преимуществах подвесных мостов перед арочными, как раз густо поперчил и посолил свою отбивную и уже занёс над мясом нож, но вдруг остановился, вскинул вихрастую голову и предостерегающе поднял руку с вилкой. Он первым услышал русскую речь из-за двери.
Дверь буфета распахнулась, и на пороге появились двое: средних лет полный и щекастый мужчина с пышными русыми усами над бритым подбородком, в пенсне и старомодном, но опрятном костюме-тройке, в котелке и с тростью в руках, а с ним — дама лет тридцати, тонкая и высокая, в длинной и узкой юбке, жакете и широкополой шляпе с вуалью.
— Скажите ему, Ольга Геннадьевна, чтобы он нас там подождал, — обратился мужчина к даме. Та задержалась в дверях и по-французски передала сообщение, видимо, носильщику.
— Иван Игнатьевич, только давайте поскорее, — с неудовольствием обратилась она к своему спутнику, который двинулся к барной стойке, неприязненно окидывая скрытым под вуалью взглядом обстановку буфета и троих посетителей, обедающих за столиком у окна.
— Ну голубушка, — ласково протянул Иван Игнатьевич. — Ну, вы ж не меньше голодны, чем я. Что нам, к этому Соколову в нахлебники навязываться?
— У нас всего четыре часа, Иван Игнатьевич, — ответила Ольга Геннадьевна, сложив руки на груди.
— Вот давайте тогда препираться не будем, а быстро перекусим, — нравоучительно сказал Иван Игнатьевич и, оправдываясь, добавил: — Я ж не виноват, что в этом составе ресторана не было. Уи, уи, сэ эт сэ, — на ломаном французском обратился он к лакею, указывая на сандвичи, — эт сэ оси, — выпростав руку, показал он на ряд бутылок на полке за спиной лакея.
— Я, кстати, не голодна, — в пустоту заметила Ольга Геннадьевна и знаком показала лакею, что ничего не будет. Лакей, не разобрав, на какую бутылку указывает посетитель, по очереди с вопросительным выражением начал поднимать одну за другой.
— Уи-уи-уи, сэ-сэ-сэ, — закивал Иван Игнатьевич, когда очередь дошла до полупустой бутылки с кальвадосом. — Дё! — сказал он, показав два пальца и добавил по-русски: — Две рюмки, рюмки две! Голубушка, скажите ему, что я две рюмки попросил, а не бутылки.
— Он поймёт, — с выражением усталого отвращения отозвалась Ольга Геннадьевна, презрительно оглядела столик в середине зала, уселась за него спиной к Барташову, Коробецкому и Шнейдеру и откинула вуаль с глаз.
-
И интрига, и еда, ну здорово же, прямо вот не отходя от стола можно вздрагивать и изумляться.
|
Милош сначала, инстинктвно повинуясь команде, перебросил карабин, а потом только понял, зачем у него попросили оружие. Вдруг стукнуло сердце, замерло — и как молотком ударило в ответ, как гранитную плиту уронили на грудь, как вдруг, посмотревшись в зеркало, увидел там огромную пучеглазую рыбину, как прорвало дамбу, и дерьмо хлынуло.
Да ведь его за человека не считают. Да ведь его считают за червя, за недочеловека, за мартышку говорящую, за червя, червя! Негр тоже животное, ирландец тоже полуживотное, а он, поляк, хуже всех их, те-то хоть говорить умеют, а он червь. Те глаза не опускают, те голову не отворачивают, те — не он. Все лучше, в грязь меня втопчите, в пыль меня втопчите, попляшите на мне, поплюйте на меня, а я как собачка буду, на задних лапках. Вот, язычок высуну. Противный язычок? Ну так плесните на него дерьма.
Горячей, жаркой волной ненависти и отвращения к себе прокатило по телу, жуткая обида на весь белый свет забурлила, и как будто пьяный, вшивый цыган противно завизжал в голове на расстроенной скрипке: червь!
Трясущейся от ненависти рукой Милош выхватил револьвер и, подняв над головой, выпалил в небо. Получай, дрянь, получай, животное, вот тебе, червяк!
|
26.07.1926, понедельник, 10:15
Франция, Тонне-Шарант
железнодорожная станция,
+16 °С, проливной дождьШнейдер встал с деревянной скамьи и подхватил свой мешок. Надо было проталкиваться к выходу. Поезд уже замедлял ход, гусеницей втягиваясь в проезд между крытых красной черепицей фабричного вида зданий и складов, между каменными оградами, из-за которых тянулись деревья и их кадавры — деревянные столбы, вместо листвы украшенные изоляторами и проводами, мимо рекламы, краской намалёванной по кирпичной стене, мимо протоптанных по жухлой траве дорожек, опущенных шлагбаумов на переездах, где под зонтами укрывались от ливня редкие пешеходы. Где-то в отдалении промелькнуло, и через несколько мгновений вагона достиг гулкий грохот грома. Вагон третьего класса был заполнен синими мундирами, которые ехали в Рошфор. Синие мундиры наслаждались сменой обстановки, которая давала некоторую иллюзию свободы, и всю ночь резались в карты, пили из кем-то пронесённых бутылок, хохотали и не давали спать немногочисленным гражданским пассажирам вагона. За рюкзаком Соколова требовалось следить в оба глаза, и Барташов всю ночь караулил пожитки. Вообще путешествие через пол-Франции в третьем классе было удовольствием тем ещё — в переполненном вагоне с деревянными скамьями, с задувающим через опущенные рамы ветром, чудовищно грязными уборными — так что даже привычные к спартанским условиям эмигранты после двух дней пути чувствовали себя разбитыми и вымотанными. Шнейдер так и вовсе начал канючить билет во второй класс ещё в Марселе, где путешественников высадил Жозеф. «Если вам так нравится грязь, так будьте покойны, Ефим Антонович, во французском втором классе тоже грязно! — убеждал он стоявшего к окошку кассы Барташова. — Ну, в самом деле, это же просто нелепо — мы покупаем билеты в третий класс, когда у самих полный мешок денег!» На этом месте Барташов его одёрнул, так как распространяться о своём грузе не стоило даже по-русски.  Билеты в вагоны первого, второго и третьего класса, соответственно.  Пульмановский вагон третьего класса  Интерьер вагона третьего класса. Это, правда, швейцарский вагон (привет Шнейдеру) и, кажется, более раннего времени. Но, худо-бедно, поехали всё-таки в третьем. К вечеру двадцать четвёртого добрались до Тулузы, заночевали в дешёвой привокзальной гостинице, к полудню следующего дня сели на поезд до Бордо, сделали ещё одну пересадку там… Города по пути ничем не запомнились — железнодорожные эстакады, кирпичные стены, промелькнувшая между ними местная готическая достопримечательность, шумные вокзалы, кассы, привокзальные площади, залы ожидания с часами под грязным стеклом, буфеты третьего класса с переперченными супами, подгорелыми омлетами, бутербродами и пивом, подозрительного вида гостиница с двумя продавленными кроватями и балкончиком, на котором всю ночь беззвучно выл Шнейдер, сжираемый зудом от сожжённой спины, и, апофеозом одиссеи, — ночь в битком набитом французской солдатнёй, то душном, накуренном, а то сквозящем, задувающем пульмане. И всё-таки это была свобода. Весь первый день нет-нет, а ловили себя путешественники на мысли, что, не случись бы с Ильёй Авдиевичем трагедии, это был бы рабочий день, и вот сейчас, в шесть утра, они бы хмуро толкали тележку с пустыми дощатыми ящиками, кряхтя, забирались бы на дерево, снимали бы с веток ненавистные, пухлые абрикосы, толкали нагруженную тележку к весам, у которых бы стояла Дора… Это напоминало то школьное чувство, когда приходишь, бывало, утром на урок, а учитель, оказывается, заболел, и вот едешь на извозчике домой в непривычное время — девять, десять утра — и совсем по-иному видится вся протекающая вокруг обыденная жизнь: будто чудесно сломалось что-то в мироустройстве, будто ты раздвоился, и одна, гипотетическая часть, продолжает скучать на гипотетически состоявшемся уроке, а другая — наслаждается внезапной свободой, не переставая сравнивать себя с той, другой: а вот сейчас была бы перемена, а вот сейчас бы началась гимнастика, а вот сейчас Фабио привёз нам на плантацию обед, а вот сейчас пора была бы уже укладываться ко сну. А мы вот не укладываемся, мы едем себе в переполненном вагоне третьего класса, и хоть по всей Франции нас ищи — не найдёшь! Но вот и добрались. Спрыгнули на перрон под отчаянно бьющий по бетону ливень и, не останавливаясь, закрываясь мешками, кинулись к зданию вокзала, которое, к счастью, было в двух шагах. Решили переждать ливень в буфете. Тут было всё как обычно: стойка бара с дюжиной пыльных бутылок и пивными краниками, грязные, в разводах, окна, пустые покрытые несвежими скатертями столы с солонками и перечницами, рекламные плакаты и вырезанные ножиком в штукатурке имена на стенах. За стойкой читал газету лысеющий лакей в фартуке. Путешественники были единственными, кто сошёл на этой станции, и лакей поднял на вошедших незаинтересованный взгляд, таким образом, видимо, проявляя максимум своей учтивости. Шнейдер, зябко поводя плечами, сразу направился к стойке и заказал чёрный кофе с ромом. «А не рано?» — безучастно поинтересовался лакей, откладывая газету. «Я совершеннолетний», — не поняв вопроса, соврал Шнейдер и для убедительности полез за сигаретами в карман. — Значит, надо как-то искать вашего Соколова, — начал Шнейдер, устроившись с чашкой кофе и сигаретой за столом, задумчиво глядя в окно, где за пеленой дождя проглядывался циклопических размеров подвесной мост через реку Шаранту. — Можно обратиться в адресный стол, — деловито продолжил он. — Если Соколов жил… тьфу, то есть живёт, конечно, в заводских бараках, его адреса там нет, но нам известно имя его невесты, — юнга полез за «Иллюстрированной Россiей» в свой мешок, достал, раскрыл на нужной странице, показал, — вот, мадемуазель Марсель Бертоно. Возможно, её адрес там есть. А можно направиться прямо на завод — спросить в конторе или поискать русских в бараках. Ведь не один же он русский был на целом заводе!
-
Я, признаться, полагал почему-то, что большая часть игры пройдет на ферме, что самоубийство всё же окажется убийством, и мы будем расследовать его непосредственно в "привычных" условиях, опрашивая уже знакомых персонажей и выискивая улики среди фруктов и весов.
Однако то, как развивается повествование, обратно радует чрезвычайно! Прямо-таки роуд-муви эдакий. Романтика путешествия. Ну и это:
Шнейдер, зябко поводя плечами, сразу направился к стойке и заказал чёрный кофе с ромом. «А не рано?» — безучастно поинтересовался лакей, откладывая газету. «Я совершеннолетний», — не поняв вопроса, соврал Шнейдер и для убедительности полез за сигаретами в карман.
Отдельный шедевр. Браво.)
-
Кстати, если бы вы догадались обыскать койку Платонова, вы бы узнали, кто их спёр.
|
24.07.1926 03:37
Франция, Прованс,
шоссе между городами Солье-Пон и Тулон
Вот и собрались. Похватали в темноте какие-то свои вещи, оделись в коридоре. Барташов бегло, стараясь не шуметь, обшарил койку Соколова: записки не нашлось, но наткнулся на потёртый, из России ещё, видимо, кожаный несессер, который уже видывал в руках Ильи Авдиевича. Вынес в коридор, раскрыл. Паспорт, ещё какие-то документы, пачка визитных карточек в специальном кармашке, записная книжечка с металлическим карандашиком в корешке, ножницы канцелярские и маникюрные, опасная бритва (хотя Илья Авдиевич носил бороду), футляр с очками, два пузырька с какими-то пилюлями и ещё несколько крошащихся таблеток в бумажных конвертиках, перочинный нож, зубная щётка (почему-то в стеклянной пробирке) и коробочка с зубным порошком. Прикрывала всё сложенная карта Тулона с окрестностями.
Коробецкий тем временем в коридоре попросил Шнейдера оставить записку. Шнейдер хмыкнул, но решил не спорить: достал из нагрудного кармана рубашки карандаш и вывел прямо на подоконнике угловатыми печатными буквами: «Нашли мёртваго И. А. Соколова. Поѣхали оповѣстить семью. Платоновъ на насъ напалъ за вещи покойнаго. Барташёвъ, Коробецкiй, Шнейдеръ».
И вот, наконец, собрались в коридоре, взглянули друг на друга, как заговорщики: назад пути нет. Взяли свои мешки, рюкзак Соколова, спустились в столовую, прошли к выходу мимо стола, на котором лежал Илья Авдиевич. Шнейдер оглянулся на покойника и вороватым движением мелко по-русски перекрестился.
Открыли дверь, вышли на пустой двор под фонарь на столбе. Безжизненный свет падал на утоптанную землю двора, выхватывал из тьмы неясные очертания деревьев, побелённого амбара, нестройной башни пустых дощатых ящиков для фруктов, строй поставленных вдоль стенки амбара мешков с удобрениями и уже не дотягивался до колышашейся в темноте однородной массы кустарника. Дворовые собаки, стаей спавшие у стены кухни, подняли морды, но лая поднимать не стали, потеряв к ночным гостям интерес так же, как до того Фирсов. Было прохладно, по небу бежали серые рваные облака, и дул свежий ветер.
— Без двадцати минут три, — полушёпотом сказал Шнейдер, бросив взгляд на свои часы. — Ну, вперёд!
Двинулись по знакомой усаженной кипарисами дороге ко входу, мимо опостылевших полей и плантаций. Открыли калитку в деревянных воротах, вылезли по одному, закрыли. «Прощай, Дебольёновщина, — решительно сказал Шнейдер, оглядываясь на ещё проглядывавший между кипарисами особняк-барак. — Эх, надо было по-французски, наверное, записку оставить», — помолчав, добавил он.
Через полчаса ходьбы по грунтовой дороге между плантациями низких плодовых деревьев, за которыми вдалеке проглядывали огоньки фермерских домов, добрались до Солье-Пон. Прошли по тихим узким улочкам, оглядываясь на двухэтажные дома с потёками воды на каменных дверных косяках и с закрытыми ставнями, на запертые двери, брошенные в подворотнях двухколёсные тележки. Пересекли маленькую треугольную площадь с облезлыми платанами и бронзовой статуей над безразлично поструивающемся фонтаном. Миновали знакомую табачную лавку (реклама за тёмным стеклом, пустой прилавок, трубки на подставках на полке: все спят), миновали почту, куда, со слов рабочих, перед смертью заходил Илья Авдиевич, миновали железнодорожную станцию (всё заперто, только светится огонёк за решёткой запертых ставен на втором этаже: там дежурный), свернули на тянущееся вдоль железнодорожной насыпи асфальтовое шоссе к Тулону.
Рассчитывали идти долго, до самого утра, но не пришлось: уже через несколько минут, как вышли из городка, за спиной послышался шум машины. Переглянулись настороженно, но преследования ожидать было, кажется, рано, поэтому решили в кусты не прятаться, и скоро путешественников настиг грузовик, старый, грохающий как бронхитный больной и чуть ли не разваливающийся на вид. Из кабины выглянул небритый, коричневый от загара мужчина в кепке и замасленной клетчатой рубашке с завёрнутыми рукавами. «Салют! Куда держите путь? —обратился он к пешеходам с гнусавым, тягучим провансальским выговором. — Я еду в Марсель, могу подбросить».
Посовещавшись, решили сесть. Барташов полез в кабину, а Шнейдер с Коробецким — в затянутый брезентом кузов, в середине которого помещался крупный, в полтора человеческого роста, ящик.
— Меня зовут Жозеф, — обратился водитель к Ефиму, доставая из кармана пачку сигарет и протягивая попутчику. — Везу из Ниццы рефрижиратор. Знаешь, что такое рефрижиратор? Вот, я его везу.
Говорил Жозеф преувеличенно энергично, громко. Глаза у него были красные, сам он выглядел помято и устало. Было видно, что он подобрал попутчиков, чтобы те не дали бы ему уснуть за рулём. В кабине было захламлённо и накуренно, и не работала ручка подъёма бокового стекла со стороны Ефима, так что стекло застыло в полуопущенном положении. На приборную доску была приклеена фотография негритянки, а между водительским и пассажирским креслом лежала открытая и уже полупустая упаковка пачек «Голуаза».
— Везу рефрижиратор, — повторил Жозеф, тыкая пальцем себе за спину. — Должен был ещё вечером доставить, но сломался под Видобаном. А там деревня, только лошадь подковать могут, а уж чтобы машину чинить… — Жозеф горько махнул рукой. — Пришлось на буксире, обратно до Фрежюса. Там починили, а уже вечер. А везти-то надо! Кровь из носа надо к утру в Марселе быть, там наладчики приедут. Вот дерьмо! А ты сам откуда?
Завязалась обычная беседа случайных попутчиков, каждый из которых другому-то не очень и интересен, но, чтобы занять время, они расспрашивают друг друга о роде занятий, жизни и делятся своими, не очень интересующими спутника, замечаниями по всем этим поводам. Жозеф расспрашивал Ефима о том, откуда он, хвалил его знание французского, расспрашивал, куда он сейчас направляется, но к ответам, кажется, совсем не прислушивался. Во всяком случае, вопрос о том, из какой части России происходит Ефим, Жозеф задал два раза, а имя Ефима и вовсе не сделал попытки запомнить.
— Я не поддерживаю большевиков, — мотнул головой Жозеф, когда разговор дошёл до этой неизбежной темы. Фары выхватывали неживым электрическим светом кусок пространства, в котором промелькивали кусты, столбы и изгороди. За пределами светового конуса проплывали деревья, тянулась насыпь железной дороги, а вдалеке на тёмном фоне неба неподвижно выделялся контур чёрных низких гор.
— Я не поддерживаю убийства и насилие. Но я думаю, что в обществе должна быть справедливость! — продолжал Жозеф после глубокой затяжки. — Разве это справедливо, что я, рабочий человек, двадцать часов сижу за баранкой, а какой-нибудь судья просиживает день в мягком кресле и перебирает порнографические открытки с педерастами? Это не справедливость, а дерьмо! А если я буду себя вести как он, буду бездельничать на рабочем месте, меня уволят, и я останусь без сантима в кармане! Скажи мне… — Жозеф пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить имя Ефима, и не вспомнил, — скажи мне, разве так должно быть устроено общество? Срал я на такое общество!
Коробецкий и Шнейдер тем временем устроились в кузове. Виктор Андреевич в поисках места походил было вокруг ящика с трафаретными надписями “Fragile” по бокам, но сесть на него не решился, и в итоге уселся на дощатый пол, привалившись к рефрижиратору спиной. Шнейдер, не расположенный к общению, сначала прислушивался было к разговору из кабины, а затем отошёл, откинул брезентовый полог, лязгнув замками, опустил задний бортик и уселся на край кузова, свесив ноги вниз, придерживаясь за борт и следя, как бежит под ногами асфальт, и как убегают в темноту укреплённый каменными стенками, покрытый ракитником косогор, слоистые скалы, чёрные стены деревьев, редкие огоньки вдалеке.
— Вот ты воевал с большевиками, — продолжал Жозеф, когда разговор перешёл на новую тему. Курил он постоянно: только заканчивалась сигарета, доставал из пачки следующую. — Ты воевал с большевиками, а я воевал с немцами. Война — дерьмо! Я был мальчишка, совсем как тот, что ваш, в кузове. Мне объясняли, что за нас Бог, и немцам объясняли, что за них Бог. Но это же совсем дураком надо быть, чтобы не понимать, что здесь какой-то подвох! Я думаю, что войну затеяли капиталисты! Война — дерьмо, а капиталисты — те, кто высирают это дерьмо!
Вообще анально-фекальная тематика преобладала в образной системе Жозефа.
-
у тебя всегда получаются мощные, живые NPC.
и вот такой квадратно-гнездовой Жозеф мне по нраву.
|
23.07.1926 11:13
Франция, Прованс, близ города Солье-Пон,
выход с фермы «Домен де Больё»,
+31 °С, солнечно, безветреноМы ложимся спать рано, потому что завтра нам рано вставать. Перед сном мы идём в столовую и смотрим расписание завтрашних работ на школьной доске. Мы разбиты по звеньям по пять человек. Наше звено — второе русское. Завтра наш счастливый день: Соломон Самуилович поставил нас на почасовую работу по покраске забора фермы. По какой-то причине на почасовой ставке заработать можно раза в полтора больше, чем на сдельной, да к тому же не нужно бояться Доры. Мы ненавидим и боимся Дору. Дора — польская еврейка, работающая на приёме фруктов. Своей шестипудовой тушей она стоит у чугунных весов, на которые мы складываем свои скорбные ящики с абрикосами. Кажется, что она ненавидит весь мир, но нас она ненавидит в особенности: и за запрет говорить по-польски в школах, и за белостокский погром. Скривив толстые губы с зажатой в них сигаретой, она склоняется над нашим ящиком, волосатой рукой лениво перебирает фрукты и выносит вердикт: «Второй сорт. Не годно». Но завтра — наш счастливый день, и мы ложимся спать в предвкушении лёгкой и прибыльной работы: три франка в час. А ещё завтра жалованье, за прошлые пятницу с субботой и эту неделю. С мыслями о жалованьи мы укладываемся спать в заставленном двухэтажными кроватями зале на втором этаже нашего то ли особняка, а то ли барака. Из раскрытых настежь окон всю ночь доносится ожесточённое кваканье лягушек из соседнего пруда. Вокруг подвешенной в коридоре тусклой лампы вьётся рой мотыльков и ночных бабочек. Поздно вечером с гулянки возвращаются какие-то поляки и пьяно пшекают между собой, в темноте спотыкаясь о стулья. Ночью ударяет ливень и барабанит по черепичной крыше, заливает широкий подоконник и кем-то оставленный свитер. Всё это было бы романтично, если бы чуть лучше оплачивалось. Мы просыпаемся от настойчивых ударов в железное блюдо. На дворе пять утра, ещё темно. Мы встаём злые, невыспавшиеся. «На поле слякоть, — говорит кто-то. — Лучше идти босиком». Это из третьего русского звена; они идут на прополку кукурузы. Выстояв очередь к ряду пропиленных в полу отверстий и умывшись ледяной водой из больших жестяных умывальников, мы отправляемся на завтрак. “La scala prossima”, — говорит нам повар Сальваторе, отваливая в миску черпак пшённой каши. Сам он считает это приветствием на русском языке. Не одно поколение русских сезонных рабочих ломало голову над происхождением этой фразы. Первыми обычно догадывались выходцы из малороссийских губерний. С кашей, ломтём горячей ещё булки и кружкой чёрного как нефть кофе мы рассаживаемся по залу: русские к русским, итальянцы к итальянцам, поляки к полякам. Нас, русских, здесь человек тридцать, поляков чуть меньше. Итальянцев — под сотню. Мы всё ещё хмурые, но до изжоги крепкий и кислый кофе уже прогоняет сон. Из-за соседнего, итальянского, стола уже слышатся смешки. Да и у нас люди уже понемногу разговариваются. Вот, например, Фирсов, худой как жердь человек лет сорока пяти с облезающей кожей на лысине и жёсткой чёрной бородой с проседью, опять дал волю своей меланхолии, которая у него принимает несколько патологическую форму. Меланхолия Фирсова так черна, что вспоминает он даже не Россию, а какую-то гарсоньетку в Париже, которую снимал в позапрошлом году. «В пятнадцатом округе, — говорит он, обращаясь к Шнейдеру, семнадцатилетнему парню с выгоревшими на солнце волосами, которому не повезло занять место рядом с ним, — чудо как хороша была гарсоньетка. И метро рядом, и табачная лавка на первом этаже». Фирсов вздыхает, а Шнейдер хмуро молчит: он вообще был в Париже только проездом, а сюда приехал из Швейцарии, где живёт с родителями. В отличие от остальных, для него работа на ферме — не способ выжить, а летнее приключение. Приключение уже удалось — на прошлой неделе у Шнейдера кто-то украл пару сотен франков, которые он скопил и, дурак, держал под матрасом. Он подозревал итальянцев, смело пошёл к ним разбираться и был бит. И Шнейдер, и Фирсов — члены нашего звена. «И лифт хороший был», — после паузы продолжает Фирсов, и Шнейдер сосредоточенно склоняется над миской. «Иван Сергеевич, перестань ты приставать к ребёнку», — проникновенно говорит Фирсову Платонов. Василий Семёнович Платонов — курский крестьянин, человек крепкий и к работе на земле привычный, и поэтому Соломон Самуилович поставил его начальником нашего звена. Василий Семёнович работает здесь в охотку и даже собирается остаться на зиму. Два других члена нашего звена — это мы: Ефим Барташов и Виктор Коробецкий. Мы заканчиваем завтрак и, поёживаясь от предрассветного холода, выходим на двор, по которому в разные стороны уже разбредаются звенья. Мимо нас проходит третье русское, которым командует Илья Авдиевич Соколов. «А вы куда сегодня, господа?» — осведомляется он у нас. Выглядит он комично: с босыми ногами, в закатанных до колен полосатых брюках от костюма, в белой рубахе с расстёгнутым жилетом, в соломенной шляпе и с тяпкой на плече. Мы отвечаем, что на почасовую, и Илья Авдиевич завистливо вздыхает. «А мы вот на кукурузу, знаете», — говорит он. Сальваторе выносит кастрюлю с остатками завтрака, выливает её под стену дома и свистом подзывает собак. Мы получаем краску, кисти и валики у Доры, которая своей тушей почти полностью перегораживает вход в складской амбар. Дора с глухой неприязнью смотрит на нас, но мы знаем, что сегодня она ничего не может нам сделать. «Дора могла бы играть в футбол голкипером, — говорит Шнейдер, удалившись от Доры на безопасное расстояние. — Знаете, почему?» Мы знаем, но молчим. «Потому что она бы перекрывала всю площадь ворот!» — заявляет Шнейдер и, не найдя поддержки своей шутке, тоже замолкает. Мы выходим на кипарисовую аллею, тянущуюся к воротам фермы, и шлёпаем по красной грязи. Справа, за кипарисами, абрикосовая плантация. Там с шумом приступают к работе итальянцы. Тем временем солнце уже поднимается, розовым цветом заливая невысокие, поросшие лесом горы, у подножия которых стоит наша ферма. «Вёдро будет», — деловито оглядывая небо, говорит Платонов, и Фирсов согласно кивает. Мы доходим до дощатого забора, протянувшегося вдоль грунтовой дороги, и приступаем к делу. Сегодня можно не надрываться в погоне за числом сданных ящиков: нам нужно покрасить забор до поворота, а дальше — хоть иди на речку, хоть дрыхни в тени до вечера, — никому до тебя не будет дела. Теоретически возможно, что придёт Соломон Самуилович и возмутится бездельем, но у Соломона Самуиловича куча дел. А Доры вовсе можно не бояться — она сейчас стоит у своих весов и до вечера никуда не уйдёт. К десяти утра готово уже больше половины работы. Солнце уже высоко, жара становится нестерпимой, в плывущем волнами прокаленном воздухе резко пахнет краской. Крася верх забора, Шнейдер заляпал себе лицо. «Тут противогаз нужен», — говорит он, сидя на траве и без толку оттирая слюной зелёные пятна на щеках. «Ты бы, дружок, в противогазе на такой жаре взвыл», — со знанием дела говорит Платонов. В кустах стрекочут цикады. Из-за поворота дороги выезжает телега, на которой местный фермер везёт закрытые брезентом фрукты. Фермер приветствует нас, поднимая соломенную шляпу. Платонов поднимает свою, говорит «бонжур» и провожает телегу взглядом. Мы всё чаще начинаем поглядывать на кипарисовую аллею в ожидании тачки, на которой нам должны привезти обед. Тачка появляется ближе к одиннадцати. Её толкает Фабио, помощник Сальваторе, молодой чернявый парень. На тачке — большая кастрюля с супом, миски, лепёшки, и мы знаем, что между ними у Фабио ещё кое-что запрятано. “Quattro franchi”, — говорит он Платонову, извлекая из-под лепёшек оплетённую полуторалитровую пузатую бутыль красного вина. — Че-его, кватро франки? — набычивается Платонов. — За твоё-то пойло кватро франки? Это ты, голуба, мне должен доплачивать, что я такое пью. “Quattro franchi”, — настойчиво повторяет Фабио. — “Quattro, quattro”, — выставляет он перед собой четыре пальца. Платонов кладёт ему руку на плечо. — Послушай, Фабио, — ласково говорит он. — Ты что это наглеешь-то? Ваша кухонная братия… востра… банда ди кучина ещё мне и Шнейдеру должна. Шнейдер, — он показывает на Шнейдера, который, ухмыляясь, стоит рядом, — сольди? М? Донде эстан? — добавляет он почему-то на испанском. “E-e-e”, — разочарованно тянет Фабио и показывает, что собирается уложить бутыль обратно в тачку. — “Non so i suoi soldi.” — Стой-стой, — останавливает его руку Платонов. — Ун франки, — выставляет он перед собой палец. Фабио страдальчески кривится. — Дуэ, дуэ, — успокивающе говорит Платонов и мягко вынимает из руки Фабио бутыль. — Ну что, ребята, по сорок копеек скинемся? Мы скидываемся по сорок сантимов, и Фабио уходит, оставляя нам обед и вино. Мы берём миски с фасолевым супом с мясом, лепёшки и отходим к дальнему, не окрашенному ещё краю забора, где усаживаемся в тени абрикосового дерева. Из-за забора слышится приглушённая итальянская речь — они там тоже собираются обедать.
-
Это ж уметь надо, так завлекательно писать ни о чем ^^
-
Ну, первый пост так, чисто чтобы познакомиться с персонажами.
Нунихренасебе "Ну, так"!
Да не, здоровский такой пост, угу.
Как раз о мощи былых времён напоминает.
-
Всё это было бы романтично, если бы чуть лучше оплачивалось.
Ня!
-
очень хочется плюс поставить
-
“La scala prossima” — только с подсказкой про малороссов и перевелось. А вообще хорошо все, легко, складно.
-
Это точно твоих рук дело? =) Если да то +1. Если нет, то все равно +1)) ибо здорово!
-
Как же здорово написано все-таки =)
-
ох уж этот ОХК.
ох уж эти пропитанные потом и жизнью пыльные рабочие. здорово, да.
-
-
-
Здорово написано :) Картинка - как в черно-белый фильм цветная вставка.
-
Да, оно и правда здорово написано.
-
|
-
так, найти итальянца с действительной визой в «Домен де Больё» было едва ли не сложнее, чем довольного жизнью русского.
Вы, Николай, злорадный человек).
|
-
Хорошие флэшбэки короткие, атмосферные и динамику потасовки не нарушают, а дополняют только. Смачно вышло, одним словом.
|
-
Переход на личности из-за суммы наличности.
|
-
Ах да, я же теперь тоже — бандит.
Инсайт, йоптэ))))
|
-
За чудесный модуль. И еще чтобы ошибку протестировать =)
|
21.11.2041 16:35
Южный Макао, Колоане,
Эстрада де ла АлдеаГористый южный берег острова Колоане был самой малозаселённой частью переполненного народом Макао: на северном острове и в северной части южного лепились друг к другу пятидесятиэтажные небоскрёбы и дома-муравейники, а тут тянулась узкая извилистая дорога по лесистому склону горы над каменистым морским берегом, высилась на вершине горы белоснежная статуя богини моря А-Ма, и стояли на берегу моря небольшие посёлки с охраняемым въездом, частными пляжами и причалами для яхт. В одном из таких посёлков располагалась и вилла, купленная ещё дедом Ленни, а теперь доставшаяся по наследству ему. Ворота гаража, увидев приближающуюся машину хозяина, гостеприимно распахнулись перед Ламборгини, Ленни завёл машину в подземный гараж и прошёл к лифту. Сначала он планировал подняться в свою спальню на третьем этаже, но, проезжая мимо второго, увидел сквозь полупрозрачную дверь лифта, что в гостиной кто-то есть. С не очень хорошим предчувствием на душе Ленни остановил лифт. Предчувствие его не обмануло: за открывшимися дверями лифта Ленни увидел картину, странную даже для его дома, видевшего многое. У стеклянной стены, выходящей на балкон и море за ним, навытяжку стояли атлетического сложения молодой человек и девушка-мулатка. Из одежды на молодом человеке были только очки в толстой пластиковой оправе, часы и накладные груди пятого размера. На мулатке из одежды был только розовый страпон, ремнями закреплённый на бёдрах. Девушки Ленни не знал, а вот молодым человеком, разумеется, был Карл-Фридрих Хамфри. Карл-Фридрих был единственным человеком из круга общения Ленни, чей вид в накладных грудях пятого размера не мог вызвать у Ленни удивления. И потому о Карле-Фридрихе, пожалуй, стоит сказать пару слов подробнее. Пара слов о Карле-Фридрихе Хамфри
Карл-Фридрих Владимир-Леон Мартин-Лютер Хамфри был рождён в 2020-м году в медицинской палатке лагеря “Occupy Wall Street” и сам гордился этим фактом биографии, сравнивая это с рождением Христа в яслях.
Мать Карла-Фридриха происходила из обеспеченной израильской семьи и потому с детства презирала деньги. В молодости она придерживалась крайне левых взглядов, считая, что еврейский народ виноват за преступления своей агрессивной военщины перед половиной Ближнего Востока, в том числе потомками филистимлян и хананеев, и говорила о мирном процессе и одностороннем разоружении с тем же огнём в глазах, с которым, вероятно, ученики Христа проповедовали в синагогах о Царствии Небесном.
Как и апостолы, поддержки среди соплеменников она не нашла и в возрасте восемнадцати лет отправилась нести свет истины в Америку, где присоединилась к протестующим на Уолл-Стрит, число которых заметно выросло после случившегося как раз тогда второго финансового кризиса. Там она некоторое время состояла в лесбийской связи с мускулистой мужеподобной негритянкой и даже собиралась вступить с ней в брак, но встретила отца Карла-Фридриха.
Отец Карла-Фридриха покорил сердце юной израильтянки тем, что арафатка на нём выглядела даже сексуальней, чем на пассионариях из «Исламского Джихада». Кроме арафатки, он носил очки Ray Ban, курчавую шевелюру, бороду, курил трубку, был вегетарианцем, вёл популярный микроблог и убедительно рассуждал о социальной справедливости, 99% процентах обездоленных, глобальном потеплении и борьбе за мир. Он верил, что башни-близнецы были взорваны по приказу Буша, защищал права животных, ненавидел режим и пользовался продуктовыми талонами.
Любовная идиллия в палатке на Уолл-Стрит закончилась вскоре после рождения ребёнка. Отец Карла-Фридриха заявил, что антисоциальная политика правящего режима не оставляет ему возможности поддерживать семью, и уехал в Сан-Франциско, где позднее попал в клинику для наркозависимых. Это поколебало веру матери Карла-Фридриха в идеалы движения “Occupy Wall Street”, и она вернулась в Израиль с маленьким ребёнком на руках.
Позднее она вышла замуж за респектабельного британского еврея, работавшего адвокатом в Лондоне, родила от него ещё пятерых детей и из бунтарки превратилась в хорошую еврейскую маму. Карла-Фридриха за чужого в этой семье не считали и в возрасте десяти лет отправили в престижную частную школу Регби, в тот же класс, куда поступил и Ленни Ким.
Ленни сошёлся с Кей-Эфом (как Хамфри был более известен в кругу Ленни) уже в старших классах на почве общего интереса к левым идеям, естественного и для потомка Ким Ир Сена, и для обладателя имени, составленного из имён великих теоретиков свободы и борцов за неё. Карл-Фридрих уже тогда был открытым геем, но Ленни это не отпугнуло — содомия в британских закрытых частных школах соперничала по распространённости только с употреблением лёгких наркотиков. Не желая выглядеть белой вороной среди одноклассников, Ленни тоже пару раз попробовал с мальчиком, но не был сильно впечатлён. Карл-Фридрих же остался верен однополым отношениям и после школы.
Ленни окончил школу третьим с конца по успеваемости; первое же место в списке неучей с гордостью занимал Кей-Эф Хамфри. Наверное, он мог бы оказаться вторым или даже третьим, но на экзамене по литературе (единственном предмете, к которому он имел хоть какой-то интерес), своё эссе по Уильяму Блейку он начал так:
“William Blake, of course, was a huge cock-sucking faggot.”
Такая характеристика в устах Карла-Фридриха могла считаться комплиментом, тем более что далее Карл-Фридрих развёрнуто пояснял, почему, называя поэта-мистика хуесосом и педрилой, он не имел в виду ничего плохого. К сожалению для Карла-Фридриха, экзаменатор дальше первой фразы читать его эссе не стал.
После школы пути Карла-Фридриха и Ленни разошлись: Ленни уехал учиться в Гонконг, а Карл-Фридрих погрузился с головой в мир лондонской богемы, подрабатывая моделью для фотографов. На некоторое время он сменил крайне левые политические взгляды на крайне правые, побрился налысо, носил подтяжки поверх сексуально облегающих белых маек с кельтскими крестами, в роли арийца снимался в агитационных роликах Британской Национальной Партии (еврейство по матери в этом ему не мешало) и даже сменил имя, выбрав из обширного набора своих имён два, как ему казалось, наиболее арийских — Фридрих-Лютер. Нацизм, однако, ему вскоре наскучил, и Хамфри, сменивший имя на прежнее, принялся колесить по миру. За последние два года он объездил с рюкзаком все континенты, за исключением Антарктиды, везде перебивался случайными заработками и вступал в случайные связи.
В мае 2041-го года Карл-Фридрих высадился в Шанхае, куда приехал в поисках следов своего прадеда, который, по семейной легенде, угнетал китайский народ в этом городе в тридцатые годы прошлого века. Эту семейную легенду ему рассказал отец, которого Карл-Фридрих навещал в наркоклинике. Следов прадеда Карл-Фридрих не нашёл, зато быстро промотал все деньги и, вспомнив, что его школьный друг живёт где-то поблизости, немедленно обратился к нему за помощью.
Ленни жил один на вилле, оставшейся ему от родителей, и, не раздумывая, пригласил Карла-Фридриха к себе. У него Карл-Фридрих и жил последние полгода, работая диджеем на радио и в ночном клубе.
В центре комнаты на штативе была установлена видеокамера, рядом с которой спиной к Ленни и лицом к молодым людям стоял смуглый курчавый юноша в одних шортах. В руках он держал большой лист бумаги. Ещё несколько таких листов лежали у его ног. На стеклянном столике у дивана стояла бутылка коллекционного вина из отцовского погреба, бокалы с окурками внутри и лежала коробка от пиццы с парой оставшихся ломтиков. Рядом лежал полиэтиленовый пакет с рассыпавшимся по стеклу кокаином. Появления Ленни в лифте молодые люди не заметили, и Ленни не спешил выходить, наблюдая за происходящим из кабины лифта. — Меня зовут Карл-Фридрих, — без особого воодушевления в голосе по-английски начала девушка, очевидно, читая с плаката, — Владимир-Леон Мартин … чёрт, что там написано дальше? — девушка остановилась. — Лютер, идиотка! — выпалил Карл-Фридрих. — Непонятно написано! — заявила девушка. — То ли Лютер, то ли литр. — Извините, я с детского сада не писал от руки, — жеманно заявил юноша с плакатом. — Так! — властно заявил Карл-Фридрих. — Всё заново снимаем! Девушка горько вздохнула. Ленни деликатно прокашлялся и вышел из лифта в гостиную. — О! — обернулся в сторону хозяина дома Карл-Фридрих. — Ленни! А я думал, ты только через два дня приедешь! — Нет, Кей-Эф, — заявил Ленни. — Вообще-то я позавчера должен был приехать. — Гляди, какие у меня сиськи! — заявил Карл-Фридрих, поглаживая себя по накладным грудям. — Круто, — без выражения откликнулся Ленни. — Ты можешь их потрогать, — заявил Карл-Фридрих, соблазнительно покачивая грудями. — В следующий раз, — сказал Ленни и обвёл рукой гостиную. — А это… — Я могу даже дать тебе их поносить, — невинно заявил Карл-Фридрих, но, столкнувшись с мрачным взглядом Ленни, решил далее тему не развивать. — А, это? Это наш арт-проект. — Я не ваш арт-проект, — хмуро заявила девушка. — Через пятнадцать минут время выходит, кстати. — Мы продлим ещё на час, — отмахнулся Карл-Фридрих. — Знакомься, это Пабло, — указал он на волоокого юношу у камеры. — Пабло как Пикассо? — спросил Ленни. — Нет, Пабло как Дали, — ответил юноша. Карл-Фридрих заржал. — Он остроумный, да? — спросил Карл-Фридрих, показывая пальцем на своего друга. — Карло, что этот человек делает в твоём доме? — спросил Пабло Карла-Фридриха. — Погоди, — Ленни помотал головой. — Ты, — указал он пальцем на Карла-Фридриха, — сказал ему, что это твой дом? Карл-Фридрих снова заржал. — Неловко получилось, правда? — сказал он, смеясь. — Цао ни ма, — устало повторил Ленни. — Знаешь, Карло, Сюй Юань меня сегодня назвала дегенератом. Я забыл её спросить, как в таком случае называть тебя. А ты кто? — Ленни обратился к девушке. — Я Мелисса, — ответила девушка. — Блядь, блядь, блядь!!! — заорал вдруг Карл-Фридрих, хлопая себя ладонями по бёдрам. — Сколько раз тебе повторять! Мелисса — это я, а ты Карл-Фридрих Владимир-Леон Мартин-Лютер Хамфри! — …Леон Мартин-Лютер Хамфри… — убитым голосом повторила вслед за Карлом-Фридрихом девушка. — Блядь, парни, как с вами тяжело. Некоторые клиенты любят вместе с вагиной поебывать и мозг, но это ж, сука, вообще изнасилование какое-то. — Погоди, — Ленни приложил пальцы к вискам. — Я не понял. В чём заключается арт-проект? — Я тебе объясню, — начал Хамфри, обращаясь к Ленни. — Вот она — Кей-Эф Хамфри, — Хамфри указал на Мелиссу. Мелисса с обречённым видом подняла ладонь в приветственном жесте. — А я проститутка Мелисса, — Хамфри погладил себя по накладным грудям. — И чё? — без выражения спросил Ленни. — И она меня ебёт, — продолжил Хамфри. — И чё? — повторил Ленни. — Ну, — заявил Хамфри. — То есть она — это как бы я, а я — это она. — Я понял, да, — кивнул Ленни. — Ну и чё? — Это о проблемах гендерного самоопределения, — подал голос Пабло. — Ааа… — протянул Ленни. — Ну, смысловых пластов-то там дохуя на самом деле, — заявил Хамфри. — Вообще по-разному это можно понимать. Не так всё это просто, друг мой. — Я вижу, что непросто. А зачем это всё? — поинтересовался Ленни. — Вот охуенный, кстати, вопрос! — язвительно заявила Мелисса. Девушка, не снимая страпона, прошла к дивану, уселась на него и принялась выкладывать дорожку кокаина. — В приличных домах спрашивают разрешения, — через плечо заметил Хамфри. — Это в приличных, — бросила Мелисса. — Мы хотим представить наши видеоинсталляции на шанхайском триеннале, — продолжил Хамфри. — Вот это? — Ленни обвёл инсталляцию взглядом. — Там и другие идеи есть, — заметил Пабло. — Нет, лучше не надо других идей, — покачал головой Ленни, развернулся и пошёл к выходу из гостиной. — Э, ты куда? — крикнул ему вдогонку Хамфри. Ленни, не отвечая, зашёл в лифт и скомандовал кабине опуститься на минус первый этаж, то есть в гараж. Быстрым шагом пройдя к Ламборгини, Ленни распахнул дверь, поморщился на основательно въевшийся уже в салон запах разлитого мартини, выкинул пустую бутылку и достал из-под сиденья свой «Глок-17». С пистолетом в руке Ленни направился обратно к лифту. — Я пришла к художнику Карлу-Фридриху Хамфри! — бодро говорил художник Карл-Фридрих Хамфри, обращаясь к Мелиссе и блядовито покачивая бёдрами. Пабло снова стоял рядом с камерой, держа в руках лист бумаги. — Да, это я, — ответила Мелисса и положила ладонь на накладную грудь Хамфри. — Я, блядь, лучший художник всей Азии, я пиздец что за… — Мелисса осеклась, увидев Ленни, который вышел из лифта и решительно направился в гостиную с пистолетом в руке. — А НУ ПОШЛИ ВСЕ НАХУЙ ОТСЮДА!!! — диким голосом заорал Ленни, поднимая пистолет и поочерёдно направляя оружие на Пабло, Карла-Фридриха и Мелиссу. Пабло выронил лист бумаги и поднял руки вверх. Карл-Фридрих застыл с раскрытым ртом. Мелисса заорала и бросилась к дивану, на котором лежала её одежда. — Я пришёл изгнать вас, как торговцев из храма!!! — сам не зная, зачем, заорал Ленни, бешено вращая глазами. Пабло взвизгнул и бросился к лестнице вниз. Мелисса бросилась за Пабло, сжимая в охапке свою одежду. Карл-Фридрих, недолго думая, последовал за ними. — По какому праву пришёл ты в дом отца моего!!! — орал Ленни, поспешая за молодыми людьми. — Чувак, насилие — не выход!!! — орал Карл-Фридрих, улепётывая вниз по лестнице. — Сделал мой дом вертепом разбойничьим!!! — грозно рычал Ленни, потрясая пистолетом. Выбежав во двор, Ленни увидел, как все трое, в чём были, несутся к воротам. Карл-Фридрих остановился на полпути и обернулся к Ленни. — Чувак, моя одежда! — крикнул он Ленни. — Узри гнев мой! — крикнул в ответ Ленни и пальнул под ноги Хамфри. Пуля, выбив искры, срикошетила от гранитной плитки, которой была покрыта дорожка, ведущая к воротам. Карл-Фридрих подпрыгнул на месте и закричал что-то нечленораздельное, кажется, на иврите. Ивритом Карл-Фридрих пользовался только в исключительных случаях, и Ленни озадаченно подумал, что вообще-то он Карла-Фридриха так и пристрелить мог, и что, наверное, стрелять всё-таки не стоило. — Мать твою, он упоротый!!! — панически заорал Пабло, добежавший уже до ворот и опасливо выглядывающий из-за створки. — Карло, спасайся! Карл-Фридрих метнулся к воротам, спотыкаясь и падая. Ленни заливисто расхохотался. … — Чувак, я понимаю, что ты расстроен, но я не могу в таком виде никуда отсюда уехать, — до Ленни донёсся голос Карла-Фридриха, стоящего за оградой виллы. Ленни сидел в шезлонге у пустого бассейна, потягивал пиво «Циндао», которое нашёл в холодильнике, курил сигарету, задумчиво крутил в руках пистолет и наблюдал за морем, плещущимся в пятидесяти метрах ниже по склону. За оградой послышался шум проезжающего мимо автобуса. — Чувак, это уже третий, — жалобно заявил Карл-Фридрих из-за ограды. — Они на меня смотрят. Ленни заржал. — Если здесь проедет полиция, меня арестуют, — заявил Карл-Фридрих. — И верните, пожалуйста, мою одежду тоже, — послышался голос Пабло. — И камеру, она тоже моя. — Чувак, меня правда арестуют и изнасилуют в тюрьме, — не унимался Карл-Фридрих. — Сними об этом фильм, — Ленни, наконец, снизошёл до того, чтобы ответить. — Камеры нет, — обиженно заявил Пабло. — Блядь, Карло, — Ленни с наслаждением отхлебнул холодного пива и затянулся. После криков и погони по лестнице на Ленни накатила приятная усталость, и сейчас ему ничего не хотелось делать. — Блядь, Кей-Эф, — повторил Ленни. — Ты помнишь Фрэнка Говарда из нашего класса? — Ну помню, — откликнулся Карл-Фридрих из-за стены. — Аристократишка хренов. Он, кажется, сейчас бизнес открыл где-то в Америке. — Ха, бизнес! — хохотнул Ленни. — Он свой стартап в девятнадцать лет запустил, а полгода назад с ним на IPO уже вышел. Двадцать один год парню, это ж свихнуться можно. Так-то вот, Кей-Эф, — назидательно сказал Ленни. — А посмотри на нас с тобой. — Да, на меня сейчас особенно забавно смотреть, — откликнулся Хамфри. — Фрэнки, вообще-то, всегда был уёбком. — Не, Кей-Эф, — покачал головой Ленни, допил пиво и швырнул бутылку в пустой бассейн. Бутылка разлетелась о плитку. — Уёбки — это мы с тобой. — Да уж, не поспоришь, — откликнулся Хамфри. — Ты одежду-то отдай. Мне холодно. — Да иду… — Ленни протяжно рыгнул и нехотя поднялся из шезлонга. … Ленни подошёл к трёхметровой каменной ограде и перекинул через неё ком из одежды Хамфри и Пабло, всей, которую он нашёл в гостиной. — Спасибо, Ленни, сп-пасибо! — послышался голос Хамфри, который от холода уже зубами начал постукивать. — Т-ты настоящий друг! — А камеру? — спросил Пабло. — Я её сейчас тоже принесу и перекину, — ответил Ленни. — Поймаешь? — А, нет, не стоит, — откликнулся Пабло. — Потом Карло её заберёт, хорошо? — Да без проблем, — беззаботно откликнулся Ленни. — Удачи, парни. — Уд-дачи, Ленни, — попрощался с ним Карл-Фридрих. — Я б-ближе к вечеру приеду, окей? Я у П-пабло не могу остаться. — У меня родители, — сказал Пабло. — А денег на гостиницу у меня нет, — жалобно сказал Карл-Фридрих. — Да конечно, приезжай, — сказал Ленни. — Только без сисек, блядь, своих! — заорал он, шлёпая по гранитной дорожке от ворот к дому. Наконец-то можно отдохнуть, подумал Ленни, возвращаясь в дом и доставая из холодильника ещё одну бутылку пива. Наконец-то я дома, и никто мне не мешает. Пока — отдыхать, ничего не делать, валяться на диване и смотреть мультики по телевизору. А потом — поглядим.
-
— Ну, смысловых пластов-то там дохуя на самом деле, — заявил Хамфри.
И не говори).
-
-
Круто ведь. Одно беспокоит - а что если северокорейские спецслужбы мониторят и-нет на предмет крамолы и хулы в адрес чучхе и правящей фамилии? Может быть, уже мчит в казанб КНДРовский пативен, а за одно - и ко мне в украину, я ведь тоже в своих поста отметился.
-
Блин, я это только щас случайно прочитал, но г-споди, это круто)))
-
-
Этому стоить быть на главной.
-
|
Эвандер оставил водителю сразу десятку — пускай подождёт у входа, им ещё назад ехать. Он вышел из машины и поднялся по ступенькам особняка. Билли поспешал за ним, зажав под мышками школьную грифельную доску и треногу. Cегодня Эвандер проводил лекцию по нумерологии.
Слушателей было немного. В отличие от вводных, на которые приходило много народа, на специальные лекции собирались лишь посвящённые, с которыми Эвандер виделся уже не впервые. Кошельков на таких лекциях было меньше, зато все кошельки уже были свои, прирученные, послушно раскрывающиеся при виде Билли с серебряным подносом.
Во-первых, были хозяева дома — пожилая пара, мистер и миссис Лоусоны, англичане, прячущие многолетние семейные тайны и какие-то непонятные делишки по строительной части под обычной маской добродушия и гостеприимства. Миссис Лоусон вязала свитера своему мужу, который тот ввиду местной жары носить не мог, но показывал гостям, и гостям ничего не оставалось делать, кроме как хвалить довольно неумелую вязку. Кроме свитеров, гостям показывали фарфоровые статуэтки, картины, фотографии в рамках, кубки и разные другие регалии мистера Лоусона — хлам, скопившейся в особняке за целую жизнь, вещественные доказательства прошлого, по которым умелый детектив смог бы составить цельную биографию супружеской четы. Помимо прочего, среди старого барахла попадались и символы с двуглавым орлом, над головами которого парила лучезарная дельта.: мистер Лоусон был подмастерьем бирмингемской масонской ложи ещё с двадцатых годов, и сейчас, на седьмом десятке лет вновь проснувшаяся в нём страсть к тайным знаниям толкала его платить Эвандеру деньги за новые и новые лекции. Судя по пустому взгляду супругов, с которым оккультист уже был знаком, они мало что понимали в том, что им рассказывал Эвандер, и были скорее очарованы просто звучными названиями оккультных терминов, ритуалами и тайными знаками.
Присутствовала на лекции и дочь Лоусонов, двадцатилетняя Мэри. Её Эвандер видел во второй раз и подумал, что вряд ли от неё будет какой-либо прок: к тайным знаниям страсти у неё не было, на предыдущей лекции она откровенно скучала и уж точно не была источником щедрых пожертвований. Тем не менее, Мэри была хороша собой, и это некоторым образом примиряло Эвандера с её незаинтересованным отношением. Глядя на неё, маг и чародей сам собой принимал загадочный и таинственный вид, а про себя думал: «эх, был бы я помоложе…»
Ещё одной слушательницей была дама средних лет из Канады, миссис Хьюз. У неё на войне убили мужа и сына, и теперь она находила себе утешение теософией. Миссис Хьюз Эвандеру нравилась — не как женщина, а как прилежная ученица: в её глазах было столько доверчивой простоты и безоговорочной веры, что, казалось, заяви Эвандер сейчас, что земля плоская и покоится на трёх китах, — и миссис Хьюз разве что спросит, далеко ли Калькутта от края мира (близко, миссис Хьюз, почти у самого края). Миссис Хьюз не только посещала каждую лекцию Эвандера, но и регулярно снабжала его деньгами, и это ещё более располагало Эвандера к бедной вдове. Он испытывал к ней снисходительную нежность, подобную нежности к домашнему животному. Пару лекций назад Эвандер с глубокомысленным видом подарил миссис Хьюз купленную по случаю книжку Боэция с собственноручным посвящением, и сейчас бы не удивился, если бы узнал, что миссис Хьюз так её и носит в сумочке, не расставаясь с ней на минуту и не дочитав дальше титульного листа.
Здесь был и Стивен, тридцатилетний служащий одного из калькуттских банков. Этот, в отличие от большинства слушателей, был с университетским образованием, и сам Эвандер, не имевший за плечами не то что университета, а и колледжа, побаивался, что Стивен может подловить его на какой-нибудь логической нестыковке, которых, как сам Эвандер знал, в его лекциях, как и вообще в учении, было пруд пруди. К счастью, Стивен, похоже, не отличался критическим мышлением и всё, о чём рассказывал Эвандер, то ли принимал на веру, а то ли пропускал мимо ушей. Скорее всего, ему просто было очень скучно в Калькутте. Стивен сидел в кресле-качалке, заложив ногу на ногу, курил трубку и рассеяно поглядывал то на Эвандера, то на Мэри.
Следующим среди слушателей был старый знакомый Эвандера, суперинтендант калькуттской полиции Маккензи. С ним Эвандер познакомился на первой своей лекции в Калькутте, когда после окончания к нему подошёл крепкий усатый господин и доверительным шёпотом поинтересовался, что лектор думает о «Протоколах сионских мудрецов». Из последовавшего разговора Эвандер понял, что суперинтендант пребывает в уверенности, что миром правит тайная ложа, поисками которой он, видимо, и занимался — не для того, чтобы разоблачить или уничтожить, а, скорее, чтобы самому к ней присоединиться. Эвандер не стал разочаровывать полисмена и туманно сообщил, что в «Протоколах» содержится множество тайных намёков, понять которые доступно лишь посвящённым, и добавил несколько слов на гаэльском, начатки которого знал от родителей. Маккензи гаэльского не понял, но доверием к соплеменнику проникся и ответом остался удовлетворён. С тех пор он старательно посещал все лекции Эвандера, видимо, надеясь в конце своего обучения раскрыть загадки юдофобского текста.
Ещё на лекции присутствовал мистер Такрал, толстый, обрюзгший сикх с ноздреватой и потной кожей. Несмотря на тюрбан и кинжал на поясе, Такрал был человеком европейского воспитания, закончил Сорбонну и до войны, как Эвандер знал, слыл у себя на родине в Пенджабе большим поклонником Муссолини. То ли из-за этого, то ли из-за каких-то других причин, но Пенджаб он был вынужден покинуть и сейчас обретался здесь, в Калькутте. Платежеспособность его была так себе, да и большим интересом к тайным наукам он не отличался. Чёрт его знает, зачем он ходил на лекции. В индийские души Эвандер не лез, разумно опасаясь за здоровье своей.
И последним участником лекции был большой чёрный пёс Бобби. Денег от него, к сожалению, ждать не доводилось, но, проходя по тёмному коридору в гостиную, где должна была состояться лекция, Эвандер не удержался, чтобы потрепать пса по холке. У него был похожий пёс дома, в Новой Зеландии. Чёрт возьми, насколько же давно это было, и доведётся ли когда-нибудь ещё вернуться на холодные равнины Саутленда, взглянуть с блаффских скал на бушующий внизу Южный океан? В липком, потном, обволакивающем мороке Калькутты даже не верилось, что эти суровые места действительно существуют.
А существуют ли? — задумался вдруг Эвандер, шагая по коридору. Может, ничего этого и не было никогда: Новая Зеландия — всего лишь название, случайная клякса на карте; прохлада, ветер, свежесть океанского бриза — обман чувств и памяти, галлюцинация, сумеречный малярийный бред. Обман, Майя. Ничего нет, есть только болотное марево дельты Ганга, трущобы, липкие простыни по ночам и тяжёлая работа по обману простаков, внушению им глупых и бессмысленных вещей, в которые и сам-то не веришь. Майя укутывает тебя слоями ватных одеял, а ты накидываешь такие же одеяла на других людей и ещё радуешься, что сам-то — не под ними, сам-то понимаешь, как устроена жизнь, и всё равно задыхаешься под тяжёлыми мягкими перинами в спёртом смрадном воздухе. Голландская печка. А знаешь ли ты, Билли, что у нас в детстве называли голландской печкой? Тьфу ты, дьявол, и что только в голову лезет. Собраться, принять загадочный вид. Сейчас начнётся лекция.
И лекция началась.
Эвандер рисовал на доске мелом числа. проводил между ними линии, соединял их, пририсовывал к числам буквы еврейского алфавита и китайские иероглифы. Особое внимание он уделил священному числу иллюминатов 23. Прошло уже больше половины сорок шестого года, а в следующем это число не будет и вполовину так популярно, как сейчас, а потому сливки с него нужно собирать, пока не поздно. Затем пошло описание принципа пятеричности. «Число пять символизирует человека, здоровье и любовь, а также квинтэссенцию, действующую на материю. Это число включает в себя четыре оконечности тела плюс голову, которая их контролирует, а также четыре стороны света вместе с центром. Hieros gamos (священный брак) обозначался числом пять, так как он представлял собой союз принципа неба (три) с принципом Великой матери (два). Геометрически пять является пентаграммой или пятиконечной звездой. Оно соответствует пятиугольной симметрии, общей характеристике органической природы, золотому сечению, как замечено пифагорейцами, и пяти чувствам, представляющим пять "форм" материи», — по памяти цитировал Эвандер. Вспоминалось легко и без усилий: нумерология была в моде и в довоенной Англии, где ему довелось начинать работать, и в военном Китае, и в послевоенной Индии. Воистину, числа вечны, с ними не пропадёшь.
Всплывали в памяти и тут же материализовывались на доске и простенькие каббалистические трюки — 32 упоминания имени Бога в Торе как 32 пути к Творению «Двадцать три, двадцать три!» — тут же воскликнула миссис Лоусон, вспомнив число иллюминатов, и Эвандер многозначительно кивнул, мол, правильно. Идём дальше. «Древо познания» в числах будет 233, «Эдемский сад» — 144. Разделим одно на другое и получим — 1,618, а это, господа, не что иное, как последовательность Фибоначчи — вот такая спираль, господа, вот так!
Последовательность Фибоначчи воодушевлённого отклика в умах слушателей не нашла. Даже Саймон, от которого Эвандер с некоторой опаской ждал познаний в этой области, в математике, кажется, смыслил не больше Эвандера. Такрал и вовсе заскучал, утомлённый незнакомыми ему понятиями и словами. По-настоящему интересно, кажется, было только миссис Хьюз да псу Бобби, которые с одинаковым выражением, чуть склонив головы, следили за каждым словом Эвандера. Остальные внимали науке нумерологии с настороженным почтением, не стараясь углубляться в её зияющие глубины слишком далеко. Это поддерживало ореол таинственности и Эвандера вполне устраивало.
Потихоньку нужно было заканчивать. Билли, как обычно, обнёс всех подносом, а Эвандер в туманных выражениях рассказал о дальнейшем пути по дороге совершенствования духа. Дорога обещалась длинная, со множеством лекций по пути.
— Скажите, Эвандер, а как всё-таки реально действуют вот эти тайные числа? — подошёл к Эвандеру после окончания лекции, когда все уже расходились, суперинтендант Маккензи.
— Если это можно было бы так просто объяснить, в этом не было бы тайны, — уклончиво ответил Эвандер.
— Но можно, например, при помощи числа утопить линкор? — не сдавался Маккензи.
— Наверное, можно, — пожал плечами Эвандер. — Но вряд ли человек или, скорее, сущность, получившая в своё распоряжение такую силу, станет использовать её на то, чтобы топить линкоры.
— Я вот что подумал, пока вы говорили, — продолжал Маккензи, — ведь каббала — еврейская наука?
С тихим отчаяньем Эвандер понял, что Маккензи оседлал любимого конька. А к концу лекции, как назло, опять разболелась голова и, чёрт побери, отчаянно хотелось выпить.
— Не могло ли быть так, что Гитлер завладел какими-то нумерологическими тайнами и решил истребить всех евреев именно потому, чтобы остаться единственным посвящённым в них? — говорил Маккензи.
— Не думаю, что сам Гитлер, но кто-то за его спиной вполне мог что-то знать, — послушно согласился Эвандер. — Но каббалистические тайны давно уже не являются достоянием одного лишь еврейского народа. Они открыты многим, и нужно лишь стремиться к их постижению.
По недовольному лицу Маккензи Эвандер понял, что дал маху.
— Всё-таки у евреев есть что-то, что нам не дано понять, — убеждённо заявил Маккензи, и Эвандер решил не спорить.
— В любом случае, если бы Гитлер знал тетраграмматон, мы бы все сейчас учили немецкий, — с улыбкой заявил Эвандер.
— Японский, — поправил его Маккензи. — Индия отошла бы Японии.
— Да-да, — согласился Эвандер и в этот момент точно решился купить на вечер бутылку виски.
-
Ну ведь прекрасная же подборка персонажей. Такие групповые портреты от ОХК я помню еще по незабвенному "Шанхаю". Пост более чем заслуживающий.
|
На американской армейской раскладушке сидел, держась за бок, немолодой уже мужчина в майке-алкоголичке и трусах, с трёхдневной щетиной.
— О-ой, — протяжно простонал он.
— О-ой, — в тон ему откликнулся юноша в нейлоновой рубашке и шортах, на карачках переползший по полу с одного места на другое, без видимого смысла.
— Ох, — прокряхтел мужчина.
— У-у-уф, — заскулил юноша.
Некоторое время прошло в нечленораздельных вздохах. Натешившиеся китайцы из-за стены, наверное, могли подумать, что лаовай со своим китайским служкой занимаются какой-то особо извращённой формой содомии, медленной, болезненной и жалостной.
— Немолод я уже, чтобы меня бить, — наконец подал голос Эвандер.
— Ох, — простонал Билли, у которого причин жаловаться на возраст не было.
— Бывало и хуже, впрочем, — рассудительно сказал Эвандер.
— Бывало, — тяжело согласился Билли.
— А сколько у нас денег, Билли? — понизив голос, спросил Эвандер. Здесь нужно следить о том, что и как говоришь, — из-за стены всё слышно.
— Пара сотен, наверное, — ответил Билли, и, совсем уж сбился на шёпот, — мне проверить тайник?
— Не надо, — махнул рукой Эвандер. — И так ясно, что тысячи до завтра мы не соберём.
— А что делать? — вскинулся Билли. — Может, убежим?
— Ку-уда? — протяжно вздохнул Эвандер. — Назад в Китай, что ли? Так там война.
— Можно в Европу или в Америку, — пожал узкими плечами Билли. Ну конечно, это его золотая мечта — уехать в Америку.
— В Европе всё разрушено, а в Америке своих масонов хватает, — махнул рукой Эвандер. — Нет, Билли, бежать от всякого пинка — это низко и пошло.
— Тогда что? Может, занять у кого?
— Нет, — покачал головой Эвандер. — Отдадим ему завтра, он нас доить начнёт. Через неделю будем в долгах и у него, и у того, у кого ты займёшь, и вообще у половины Бенгалии.
— Тогда что?
— Придумаем, — фаталистски отмахнулся Эвандер и со стоном растянулся на раскладушке. — Вот что, Билли. Пора собираться. Приготовь мне ванну внизу и, о-о-ой, — Эвандер схватился за поясницу, — закажи таксомотор на нужное время.
— Может, на рикше лучше? — хмыкнул Билли.
— Чтобы приехать все в грязи? Нет, поедем на таксомоторе. Давай-давай, — Эвандер хлопнул пару раз в ладоши, — вперёд! Время не ждёт!
Присутствие духа и бодрость потихоньку возвращались.
— Замок сломали, гады, — в пустоту пожаловался Билли, выходя из комнаты. Эвандер поднялся на раскладушке, оглядывая рядок книг на полочке. Блаватская, Олькотт, Джинараджадаса, Лебитдер, Джадж и куча брошюрок, на плохой бумаге, с узкими полями и расплывающимся шрифтом — по теургии, каббале, мартинизму, — чего здесь только не было. Эти книги занимали полный чемодан и изрядно отягощали багаж путешественников, но были нужны как воздух. «Это орудие нашего труда, — говорил Эвандер ноющему под тяжестью чемодана Билли, — Без этих книг мы никто.»
Нужно было готовиться к лекции, но из головы не лез чёртов китаец. И чего ему не сиделось в Шанхае? Говорят, генералиссимус сейчас решил придушить Зелёную банду, вот многие и побежали. А может, бегут, потому что не верят, что Чан Кайши сумеет справиться с Мао. Эвандеру как-то до войны довелось проводить спиритический сеанс с министром финансов Китайской Республики (тот почему-то вызывал дух Томаса Эдисона), и оккультист тоже не слишком-то верил в возможности Гоминьдана победить в этой войне. Люди — дерьмо, коррумпированные, глупые, суеверные. Стоп.
Суеверные. Правильно, все китайцы суеверны, а бандиты, миллионеры и политики — вдвойне. Ду Юэшэн, босс шанхайской мафии, как Эвандер помнил из своего личного с ним знакомства, носил на спине высушенную голову обезьяны и сверял свой каждый шаг с гороскопом, а Бу Линь… Эвандер не очень хорошо знал его по своей шанхайской жизни, но полагал, что и у этого голова была забита всевозможными суевериями и страхами, а уж тем более в этой чужой стране, со своими богами, демонами и мистическими силами, в которые он, как настоящий язычник, не может не верить. И вот на этом мы будем играть. В конце концов, играть на страхах и глупости других людей — это единственное, что мы умеем, но это мы умеем делать хорошо.
Через пятнадцать минут Эвандер стоял перед разбитым зеркалом в своей спальне. Из зеркала на него смотрел уже не помятый и небритый мужик в грязной майке, а посвежевший, гладко выбритый мужчина с тонкими чёрными усиками в безукоризненном костюме. Эвандер сбрызнул себя одеколоном и снова глянул в зеркало, репетируя отработанный демонический взгляд.
— Сейчас! — донёсся крик Билли из соседней комнаты. — Мистер Лав! Машина уже подъехала!
— Иду! — отозвался Лав и прокашлялся. — Иду, — повторил он таинственным баритоном и взял из щербатой тарелки серебряный перстень с египетским иероглифом, надел его на указательный палец и подхватил трость, сверху донизу испещрённую загадочными тибетскими знаками.
-
Внезапно, юмор. С учетом общей сюжетной закваски - неожиданно, но без борща и стильно, поэтому вполне уместно. Круто же
-
-
Отличный пост же. Помимо простого читательского удовольствия (жалостливая содомия,это да) - за отличный вывод и реакцию на китайского вымогателя.
|
-
Да нет, так-то ничего, так-то и жить можно.
Это да).
|
-
Или чтобы уж подстрелили? — скользнула в голове какая-то не своя мысль.
Бедняжка).
|
-
Классная была перестрелка все-таки. Такой бой в крыму все в дыму, как оно по идее и бывает. Вид из глаз.
Здорово).
|
Ричи
Домашние телефоны, как и ожидал Ричи, оказались у младшего лейтенанта Линя, сержанта Цая и — совсем неожидано — у констебля Пэн Мина. Засев в кабинете, Ричи принялся названивать им всем.
До лейтенанта Линя удалось дозвониться сразу же. Трубку взяла женщина, судя по голосу — жена или девушка лейтенанта, позвала Линя к телефону и тот, выслушав требование появиться в участке, ответил, что прийти сможет часам к двум, так как живёт далеко, за районом Цзыкавэй, в китайской части города, от которой ему до Центрального минимум два часа пилить. Бедняга, видимо, так каждый день и тратит два часа на дорогу до работы, а потом два часа домой, это же в сумме получается не меньше, чем у какого-нибудь Дэвида Копперфилда на мойке бутылок. Но ничего, скрыл недовольство в голосе и согласился приехать; видимо, понимает, что дело стряслось нешуточное. Записать карандашом на листке: 2 пополудни, мл. лейт. Линь Юнюань.
Потом позвонил сержанту Цаю. Там к трубке подошёл какой-то старикан, сказал (по-китайски, конечно) с жутким выговором, который Ричи едва понял, что Цая дома нет и будет он только к вечеру. Ричи, как мог, постарался старику втолковать, чтобы Цай быстро ехал на работу, как придёт. Старик произнёс в трубку несколько утвердительных междометий и даже сказал по-английски «оукхэй, оукхэй», но уверенности в том, что он таки передаст сержанту, что велено, у Ричи не было.
Наконец, позвонил констеблю Пэну. Там, судя по всему, была не то какая-то дешёвая китайская гостиница, не то общежитие, и Ричи пришлось слушать треск китайских голосов в коридоре (где, видимо, был установлен телефон) минут с пять. Один всё кричал: «Мне надо позвонить в Нанкин! Освободите линию!», но потом к телефону подошёл констебль Пэн и, ещё не взяв трубку, прикрикнул на голосящего китайца, после чего тот заткнулся. Услышав о необходимости прибыть в отделение, Пэн сначала пытался отвертеться, ссылаясь на больного ребёнка, которого невозможно оставить одного, но после того, как Ричи пообещал ему, что при самом неблагоприятном развитии событий (которое Ричи вполне может устроить) ребёнку придётся остаться одному лет эдак на пять-семь, констебль сник и обещал быть в отделении к часу дня.
Разделавшись с китайцами из ночной смены, Ричи поспешил в изолятор, где нашёл своего знакомого сержанта Ю. Тот, конечно, уже знал о происшествиях прошлой ночи и выглядел неподдельно озадаченным и огорчённым, особенно тем, что Цао Хуэя, к которому сержант Ю уже даже как-то привязался, расколоть так и не удалось, и тот унёс все свои секреты в могилу.
— Да что я вам могу сказать, господин инспектор, — восклицал сержант Ю, сидя вместе с Ричи в допросной и разводя массивными руками — до того, как вы их забрали, у меня, считай, на виду были голубчики. Я, конечно, за всеми охранниками изолятора проследить не мог, они же как, мимо клеток проходят, могут и словом-другим с задержанными перекинуться. Тут не уследишь, — сержант затянулся «Кэмелом». — А как вы сказали задержанных вывозить, тут уж я пошёл Цао Хуэя готовить к перевозке. Он ведь совсем уставший был, лежал на нарах, стонал только, даже не просил ничего, не кричал. Тут уж, конечно, кто и подойти мог. А после того, как увезли, я уж и вовсе сказать ничего не могу, потому что я что: я чаю выпил и пошёл спать. У меня кушетка тут есть. Там комната одна, на втором этаже, её японскому отделу выделили, а японцев всё равно у нас в штате мало, так она пустая стоит, зато кушетка там и шкаф. Я там и сплю. Ну, то есть, не пропадать же помещению.
-
..но после того, как Ричи пообещал ему, что при самом неблагоприятном развитии событий (которое Ричи вполне может устроить) ребёнку придётся остаться одному лет эдак на пять-семь, констебль сник и обещал быть в отделении к часу дня.
браво.
|
-
И все же хорош ОХК, хоть и редок.
|
|
-
Перечитваю вот.
Зарождение Иванкевич-стайла же).
|
Остин:Времени до двенадцати было ещё два часа, и, чтобы не сидеть попусту, Остин решил заняться организацией завтрашней пресс-конференции. Дело это было ему незнакомым, и на то, чтобы договориться об использовании конференц-зала, а потом ещё поставить в известность газеты, ушёл почти час. Закончив с этим, Остин уже собирался вернуться к делам более привычным, но тут в кабинет по каким-то делам заглянул Купер, который этим уже занимался. — А радиостанции? — поинтересовался австралиец, — на радио ты позвонил? На радио Остин не звонил. Он вообще не имел понятия, какие у китайцев тут в Шанхае есть радиостанции. Какие-то были, но шанхайлэндеры их всё равно не слушали, предпочитая ловить на коротких волнах BBC Empire Service или американские передачи. Пришлось звать Чжана, чтобы этим занялся он. Когда закончили, пора было уже отправляться на Бунд. 26.10.1935, 11:57
Шанхай, Международный сеттльмент,
Бунд, у Общественного сквера
Рикша остановился на дальнем конце Бунда, не доезжая до железного Гарден-бридж, пересекающего узкую Сучжоу-крик. Здесь, на стрелке Сучжоу-крик и Хуанпу, был разбит первый в Шанхае общественный сквер, через который можно было пройти к памятнику, который стоял у главного входа в сквер со стороны Бунда. Подойти к памятнику через сквер предложил Чжан; это было разумной идеей, так как, в отличие от голого Бунда, в сквере можно было легко устроиться так, чтобы, не привлекая внимания, наблюдать за памятником. Но, может быть, помимо практических, у Чжана были и иные соображения, чтобы предложить этот путь, — ещё семь лет назад вход в сквер Чжану был бы запрещён, и он, конечно, как и другие шанхайцы прекрасно помнили фразу «Собакам и китайцам вход воспрещён»… хотя такой фразы на воротах сквера никогда не было. Остин сам этого не застал, но сослуживцы, жившие в Шанхае дольше его, рассказывали, что на доске с правилами, которая висела у главного входа, всё было сформулировано гораздо корректней — в одном из пунктов говорилось, что парк закрыт для собак и велосипедистов, а в другом — что вход в него открыт только для иностранных жителей, на чьи деньги сквер, собственно, и был разбит, ещё в девятнадцатом веке. Казалось бы — в Английский или Французский спортивный клуб тоже пускают только членов, и никто не мешал тем же самым китайцам разбить свой парк, в который не пускали бы заморских дьяволов, но вот — обижались. Продолжали обижаться и тогда, когда правила эти вовсе перестали выполняться, и никто уже не делал различия, кому можно здесь гулять, а кому нет, поэтому и пришлось в конце концов эту злосчастную доску снять и пустить китайцев в сквер уже на законных основаниях. И сейчас по парку, наслаждаясь погожим осенним выходным деньком, ходили и шанхайлэндеры, и китайцы, на аллее стояли продавцы каштанов и сахарной ваты, заложив руки за спину, важно прохаживался констебль-китаец, а по газонам бегали дети. Чжан, отделившийся от Остина на входе в парк, купил кулёк каштанов и присел на скамейку, на которой уже сидела европейского вида барышня в солнцезащитных очках с фотоаппаратом. Девушка недовольно скосилась на Чжана и отодвинулась на край скамейки, ожидая, видимо, что китаец полезет знакомиться, но Чжан, удобно откинувшись на спинку, лишь флегматично жевал каштаны, бросая шелуху под ноги, и поглядывал по сторонам, щурясь от солнца. А Остин направился к главному выходу. Информатора он увидел тут же — совсем молодой, лет семнадцать, худощавый паренёк-китаец в вельветовой куртке с кепкой в руках стоял у памятника, нервно оглядываясь по сторонам. Бросив под ноги окурок, он тут же полез за новой папиросой, вытащил губами из пачки, достал коробок спичек и принялся чиркать, сумев зажечь только третью.
-
Как обычно, очень интересно.
|
Давно уже Милошу ничего хорошего не снилось, всё ерунда какая-то из этой, местной жизни, а чаще и вовсе ничего — после полпинты бурбона Милош проваливался в тяжёлое забытье, чтобы проснуться наутро со смурной головой, сухостью и тягучей горькой слюной во рту, которую хотелось поскорее сплюнуть, затёкшей от долгого лежания на боку рукой и шеей, небольным, но беспокоящим покалыванием в печени, и мерзким ощущением давно не менявшейся грязной одежды на грязном теле. Так было и сейчас.
Вроде и не пил, а побаливает печёнка, думал Милош, задумчиво сидя у костра с тарелкой и потирая правый бок. Вроде и не старый ещё, а уже болит. Доконает как-нибудь, если так дальше жить. А как ещё жить-то? Пить бросить, что ли? Смешно даже.
Алабама сидел праздный, подкручивал колки у скрипки, прилаживался к ней, иногда пару раз проводя смычком.
- Эээ, Польша, а на чем там у вас играют? Как везде? - спросил он рассеянно.
— Да… — так же рассеянно протянул Милош в ответ и озадаченно подумал, что и не помнит особо, на чём там, дома, играли. Помнил орган в костёле, но это же другое совсем. Цыган и евреев помнил, но там как раз то же самое и было. А вот, вспомнил ещё, сосед Томек, в детстве глубоком ещё, играл на губной гармошке. Но губные гармошки и тут тоже были. Так что да, как везде. — Песни другие, — ответил Милош скрипачу, доскребая с тарелки остатки жрачки. — А так всё как везде.
- Правильно, правильно! - заметил он, увидев, как Патрик молится. - И за меня помолись! И за Польшу вон. Уж не знаю, сколько человек он там подстрелил, но пожар устроил - почти как в Чикаго в семьдесят первом! А шороху, шороху навел!
Милош только буркнул себе что-то под нос, уставившись в землю. Вспоминать о вчерашнем не хотелось. А этому вот, Картечине, всё неймётся, всё ему забавы. Довеселится он так как-нибудь со своим весельем.
Собрались, поехали. Ну, значит, вперёд. Раз нужно гнать как сумасшедшие, значит, будем гнать. Прорвёмся как-нибудь. Верно, прорвёмся же, Радом?
-
Вроде и не пил, а побаливает печёнка, думал Милош, задумчиво сидя у костра с тарелкой и потирая правый бок. Вроде и не старый ещё, а уже болит. Доконает как-нибудь, если так дальше жить. А как ещё жить-то? Пить бросить, что ли? Смешно даже.
Все это доставляет по самому высшему разряду).
|
А ты, Польша? - кивнул он Милошу, получившему свою порцию бобов с консервированным мясом. - Ты какой самый красивый город видел за свою жизнь?
Милош призадумался, прожёвывая жрачку. Уж чего-чего, а городов-то он на своём веку повидал, от Варшавы до Сан-Франциско носило его вот уж тринадцать лет как: и в красивых он бывал городах, со средневековыми замками и мраморными статуями, и в современных, с широкими улицами и многоэтажными домами, но о красоте места не приходилось задумываться ни там, ни там. Вспомнилось из детской книжки, старой-старой, ещё в какой-то не то что прошлой, а позапрошлой жизни читанной — «Наиславнейшие из европейских столиц есть города Париж, Лондон и Вена», и иллюстрации, на которых был собор Парижской Богоматери. Когда Милош с братом попал в Париж, и они увидели собор, он вспомнил эту книжку, но из-за того, что желудок сводило от голода, а ступни были стёрты в кровь разваливающимися штиблетами с чужой ноги, Милош, глядя на готические арки и фигуры, не почувствовал ничего, кроме тупого озлобления, потому что рядом охали от восхищения добропорядочные сытые буржуа, которые находили наглость благоухать кёльнской водой и чувствовать себя прекрасно, когда рядом с ними умирали с голоду два нищих поляка и ещё куча нищих французов. В этот момент Милош понял идеологию французского анархизма лучше, чем это мог бы объяснить любой Прудон. Казик глядел на буржуа, рассматривающих фигуры, с той же ненавистью и, видимо, чувствовал то же, что и Милош. Вероятно, Казик всё-таки примкнул к анархистам. Возможно, его расстреляли в семьдесят первом. Тогда в Париже многих расстреляли. Милош знал это из газет.
А Милош к анархистам не примкнул — он уехал за океан, где надеялся найти страну, в которой можно заработать деньги своими руками. Возможно, сегодня у него это, десять-то лет спустя, даже получилось. И уж по крайней мере у него было набито брюхо, и пускай самое красивое здание на сто миль вокруг — чахлый таунхолл с безыскусной медной статуей местного основателя городка, всё лучше этой гнилой Европы. В общем, к архитектуре Милош был нечуток.
Как бы это выразить по-английски?
— Париж, Вена… — пожал плечами Милош. — На Париже два года жил. Город красивый, только работы нет. На Европе вообще… — после «вообще» подходящих слов в голову не лезло, и Милош лишь махнул рукой, считая, что и так понятно. — Потому сюда и все едут.
-
Ну просто мимими как клево))).
-
Выразительно. Баланс между мыслями и словами чёткий такой получился.
-
Отлично! Не только экскурс по Европе, но и герой, который за ним стоит и который непрост и неоднозначен. Мне нравится.
|
26.10.1935 8:30
Шанхай, Международный сеттльмент,
Фучжоу-роад, здание Центрального управления Муниципальной полиции
Ричи и Хиггс подъезжали на велорикше к серой бетонной громаде Центрального по неширокой улице, застроенной европейского вида пяти-семиэтажными зданиями — с кирпичными стенами, гранитной облицовкой подъездов, высокими витринами магазинов с английскими названиями — это был почти Лондон, если бы не переплетения проводов над головой, горловые крики мелких торговцев едой с бачками на коромыслах, тележками с закреплёнными сверху зонтами и блестящими медными баллонами с соевым молоком за спиной, протянутой от баллона трубкой с краником и стаканом на шее. На перекрёстке к рикше, завидев европейские лица, бросились два попрошайки в лохмотьях — один без ног, на дребазжащей тележке, с деревянными чушками в руках, которыми он отталкивался от земли, и другой — слепой, в лохмотьях, со спутанными длинными седыми волосами. Рикша что-то яростно заорал на нищих и подал вправо, чтобы не переехать безногого, и сам чуть не вписался в борт чёрного «Форда», едущего параллельно рикше. «Форд» резко вильнул и протестующе загудел, а рикша заорал в ответ, грозя машине кулаком. Нищие, провожая рикшу, тоже что-то закричали вразнобой.
Примерно из таких криков и непрерывных гудков машин, а ещё из зазывных возгласов торговцев, весёлой китайской музыки из окна кафе со столиками на тротуаре, из дребезжания трамвая и складывался тот шум, благодаря которому Шанхай нельзя было перепутать с Англией, даже в по-европейски обставленной квартире инспектора Ричи, где младший инспектор Хиггс провёл ночь, и уж тем более нельзя было перепутать из коляски велорикши, в которой Хиггс с инспектором Ричи ехал на работу и глядел во все глаза по сторонам.
А Ричи по сторонам глядеть смысла не было: Ричи жил в Шанхае уже седьмой год и привык уже ко всему, что этот город мог предложить, — от соевого молока до опиума, от рикш до японских крейсеров и от весёлой трескотни китайской музыки из шипящего патефона в ресторане до треска выстрелов на тёмном перекрёстке района Янцзыпу. И поэтому Ричи головой, как Хиггс, по сторонам не крутил, и одним только боковым зрением заметил, как мимо в направлении Центрального проехал бежевый «крайслер», а за ним — пэдди-вэн Мунципиальной полиции. Бежевый «крайслер» — один в один с тем, на котором вчера вечером появился Остин, получив его в подарок (!) от Ду Юэшэна (!!!). Что это, Остин, с утра, и уже кого-то поймал? Ну-ка, ну-ка.
Рикша остановился у ворот Центрального, которые как раз закрывались, пропустив внутрь машины. Ричи кинул рикше медную монету в десять кэшэй (рикша возмущённо всплеснул руками и закричал что-то по поводу того, что за перевоз двоих и платить нужно в два раза больше обычного, но Ричи, бывалый шанхайлэндер, только махнул рукой) и крикнул дежурному в кабине не закрывать ворота.
Ричи с Хиггсом прошли внутрь двора-колодца Центрального, со всех сторон окружённого семиэтажными бетонными стенами и увидели, как из пэдди-вэна один за другим, понукаемые китайским констеблем, выпрыгивают совсем молоденькие, лет по восемнадцать всем, китайцы — некрасивая девушка в очках, субтильного сложения долговязый парень в измазанном в грязи чаншане, следом за ним — другой в очках и полосатом пиджаке на джемпер с высоким воротом, следом за ним ещё одна девушка в простом чёрном платье и двумя длинными, до лопаток, косичками. Последним из фургона, щурясь от света, появился худосочный парень в пуловере на белую рубашку с завязками. А рядом, наблюдая, у «Крайслера» стоял старший инспектор Остин Рейнольдс.
— Господин Ле Ни! — подходя, услышали Ричи и Хиггс голос молодого человека в пуловере, которого Хиггс, разумеется, не понимал, поскольку тот говорил по-китайски. — Я советую немедленно дать мне возможность связаться с адвокатом нашего студенческого союза. Промедление в этом будет расценено как очередное проявление полицейского беспредела, которое, конечно, выплывет наружу. Излишне будет вам говорить, что ни я, ни мои товарищи не будут давать никаких показаний до появления здесь адвоката.
Судя по тону и пафосу слов молодого человека, готовил эту свою речь он ещё в фургоне.
-
А Ричи по сторонам глядеть смысла не было: Ричи жил в Шанхае уже седьмой год и привык уже ко всему, что этот город мог предложить, — от соевого молока до опиума, от рикш до японских крейсеров и от весёлой трескотни китайской музыки из шипящего патефона в ресторане до треска выстрелов на тёмном перекрёстке района Янцзыпу.
Шикарен, как и обычно).
|
-
Бедный японец, как ему, наверное, стыдно за Джулию))).
|
-
Живые они у тебя, твои нан-плэйбыл-чарактеры. Прям, вот, настоящие, дышащие, с жаром горячих сердец и тонким, порой, чувством юмора.
Наверное, одна из причин, по которым модуль твой - мощь могущественная.
-
|
Что-то пошло не так, что-то там у этих дураков пошло не так, напоролись, как вчера Картечина на этих дуболомов, не дождались, пока Милош запалит конюшню. Милошевой вины в том, конечно, не было — он вроде нигде не задерживался и особо не медлил*, но… а, чёрт, будь что будет, уже плевать! Понеслась!
Милош воровато оглянулся по сторонам и, достав тряпку из кармана, принялся обматывать тряпку вокруг найденной палки. Закрутил, завязал на концах узлом, чтобы не свалилась. Потом достал керосин, сорвал крышку с бутылки и принялся торопливо трясти над тряпкой. Потом ещё раз, пригнувшись, оглянулся по сторонам. Неуместная мысль пришла в голову вдруг — как он сейчас выглядит со стороны? Воровато озирающийся по сторонам придурок в жёлтом сликере, на скорую руку мастерящий факел, чтобы подпалить конюшню — с ума сойти, дошёл же до жизни такой! Чёрт, чёрт, чёрт, хватит забивать себе голову, быстрее, быстрее! Руки, руки вытереть от керосина, сейчас же сам себя подпалю!
Закончив поливать тряпку керосином, Милош отложил факел подле себя и, тщательно вытерев о сликер ладони от керосина, полез в карман за спичками. Только б не заметили, только б не заметили, ооо, Матерь Божья! Сейчас заметят, и как!… Чиркнул, зажёг спичку. Держа факел на расстоянии вытянутой руки, поднёс горящую спичку. Оооо, Матерь Божья, я ж поджигатель натуральный. Факел вспыхнул. Сердце колотило, как добрая дюжина шахтёрских кирок. Курва, курва, курва! Только б не заметили! Только б какому-нибудь Кроули не вздумалось идти сейчас по улице! Ма-а-а-атерь Божья.
Милош ещё раз оглянулся и отошёл от стены конюшни на несколько шагов. А затем, размахнувшись, закинул пылающий факел прямо на покрытую щепой крышу.
-
Курва, курва, курва!
:)) За знание жизненных реалий польских эмигрантов.
-
Живой, хоть и тормозит игрок) Нет, правда, очень живой. Наверно из всех пц мне Милоша больше всех жалко. И правда непривычно ему всё это, и не на месте он тут. А жизнь-подлянка заставила. Вот так всегда.
-
-
Конюшню сжечь - не полбанки выпить.
|
-
эдакие хунвэйбины от гоминьдана?
-
Вот это поворот! Не всё-то коту масленица))
-
Вот бисово племя!
Уж если в корне зло пресечь -
Собрать бы книги все да сжечь. (с)
|
Милош ехал дальше, особо ни с кем не разговаривая. Очумелое состояние, в котором он выехал из этого срань-тауна, понемногу отпускало, не колотило уже в висках так, и оглядываться поминутно назад тоже уже не тянуло каждую минуту — не было никого позади, только тянулась пыльная дорога. Это, помимо прочего, означало ещё и то, что Милош отставал, но Милоша это мало волновало. Милош думал о смерти.
«Хватит или нет у меня силы воли пустить пулю в висок?» — флегматично размышлял поляк. Милош видел один раз человека, пустившего пулю в висок: это было в Орегоне, на прииске, за карточным столом. Парень по имени Джеффри проиграл весь свой золотой песок и, заочно, малолетнюю сестру из Небраски, а потом, когда выигравший, дюжий парень откуда-то с востока, встал из-за стола и повернулся к Джеффри боком, потягиваясь, разминая руки, а остальные стояли вокруг и сочувственно молчали, Джеффри вдруг потянулся к кобуре, вытащил револьвер и пальнул себе в висок. Никто не то что помешать ему, никто и испугаться не успел. Золото у Джеффри забрали, а вот что стало с сестрой, Милош не знал (она же в Небраске была в это время).
Вот так, наверное, лучше всего — кончать с жизнью во внезапном порыве отвращения и презрения к себе, без раздумий и сожаления о судьбе, и жаль, что не у каждого хватит… как же назвать это качество, позволяющее без раздумья наставить револьвер себе в висок и спустить курок — уж явно не мужество, не решительность — порывистость, может быть? Да, не у каждого хватит порывистости совершить довольно замысловатое движение — потянуться к кобуре, вытащить револьвер, поднять к виску, взвести курок (если не взведён), нажать спусковой крючок — без единой мысли и единой секунды сожаления о расставании с этим миром, каким угодно жестоким, но всё же менее пугающим, чем пустота небытия и уж тем более ад. А если допустить эту мысль себе в голову, то тут уже всё — остановится палец на крючке и будешь так и сидеть с револьвером у виска с минуту, а затем опустишь его, повесив голову, снова поднимешь было, зная уже, что не получится ничего, и снова опустишь, и так и будешь сидеть. Это-то чувство Милош знал уже по своему опыту.
Вот в газете было, год назад, что ли, о каком-то сильнодействующем яде, который, попав не то что внутрь, а даже на кожу в объёме табачной понюшки через минуту приводит к параличу сердца. Вот такой бы носить с собой в табакерке — куда как легче в порыве отчаянья сунуть в табакерку палец — а там уж, жалей-не жалей, отряхивай-не отряхивай палец, а ничего сделать не получится. Или не проще это будет сделать, чем пустить пулю в висок, так же замрёт, как каменная, рука, открывая крышку? Не знал этого Милош, не было у него этого яда. Да и вообще, может быть, наврали всё газетчики, и не было такого яда в природе. Чёрт его знает.
Предаваясь таким гамлетовским мыслям, Милош ехал за спутниками.
-
-
Король умер, да здравствует король.
-
Вот так, наверное, лучше всего — кончать с жизнью во внезапном порыве отвращения и презрения к себе, без раздумий и сожаления о судьбе, и жаль, что не у каждого хватит…
Николай, мне за вас страшно!)
|
|
Милош скакал, очумело озираясь по сторонам.
Ну всё, конец, — думал Милош. — Всему теперь конец, раньше-то только одной ногой заступал за грань закона, а теперь — теперь-то там с ушами, по самую макушку вляпался!
Вперёд, Радом, вперёд, скачи, чтобы не догнали, давай, давай!
Вляпался-вляпался, как давно не бывало. Убил человека — того, у конюшни. Выстрелил ему прямо в живот, тот и грохнулся на коленки. Ох дева Мария, матерь Божья, я ж человека угрохал. Я в него пальнул, а он прямо и упал и полз потом куда-то, — так прокручивал про себя недавние воспоминания Милош, оглядываясь поминутно — не нагоняют ли.
Нет, ну не в первый раз, конечно, — говорил себе Милош. — Вот под Малогощем, тоже рубанул косой русскому, бородатому, в шапке, по плечу, тот закричал, упал на снег, винтовку выронил. Но ведь как давно это было-то. Как сейчас помнится, белое поле, чёрная полоска леса вдалеке, серое небо. Не знаю, убил ли, нет, впрочем. Наверное, нет, там шинель суконная, толстая. А потом и самого подстрелили. Следующим летом ещё, на обоз напали, тоже стрелял из кустов, помню, и колючая ветка впивалась в подбородок, и голова как чумная, и уши заложены как ватой. Но ведь это шестнадцать лет мне было, да и вокруг все свои были, брат был рядом, а сейчас даже Ковальского нет.
Точно Милош знал, что, был бы Ковальский рядом, тот бы зыркнул на него из-под шляпы да рявкнул бы: «Не ссы!», так Милош бы и успокоился сразу. А тут одни американцы вокруг.
Доскакали до места сбора. Собрались все тут, обсуждают чего-то, сухари какие-то грызут. А у Милоша всё в голове перемешалось, перебуторилось, да в горле пересохло. От нервов всё, от нервов. Снял Милош с коня навьюченную фляжку, открыл, приложился да чуть на ладонь налил и провёл по небритому лицу. Всё полегчало. Потом пожрём, потом. Хотел было спросить у Патрика, как его винчестер, но тот уже на свою кобылу сел да поскакал. Ну и нам, значит, отставать не следует.
-
Николай берет не числом постов, а уменьем их писать).
-
+ за душевного персонажа.
Ну и конечно из меркантильных соображений тоже, здорово контрастирует с циничными стрелками, которые отстреливают горожан для улучшения аппетита.
|
-
и, наконец, показался уже знакомый двухэтажный кирпичный дом на тихой и тёмной здесь Цзянси-роад.
Home, sweet home!
|
-
Внезапно! А я-то ждала шпиона )
|
Остин прошёл по пустым коридорам и поднялся на седьмой этаж, где располагался Особый отдел. Здесь, как и в Иностранном отделе, было пусто: общего зала у особистов не было, и весь отдел представлял собой длинный коридор с обитыми чёрной кожей дверьми по обеим сторонам.
«Старший инспектор П.М. Таунсенд» — прочитал Остин надпись на одной из табличек. Из-за двери доносились приглушённые голоса:
— Господа, ночь будет длинная, нужно заварить кофе, — по голосу Остин узнал Таунсенда.
— Поль, дайте мне, — услышал Остин другой голос, незнакомый и говорящий с французским акцентом. — Вы англичанин, а англичане ни черта не смыслят в кофе.
Остин постучался.
— Это Рейнольдс, — сообщил Таунсенд своим гостям. — Да, входите, Рейнольдс!
Остин открыл дверь. За дверью был тонущий в полумраке просторный кабинет с двумя окнами (у Остина было одно). У боковой стены кабинета стоял покрытый зелёным сукном стол с двумя телефонными аппаратами и лампой под абажуром. На столе стоял только письменный прибор, часы и перекидной календарь: никаких бумаг и папок навалено на сукно не было. Пол перед столом был покрыт персидским ковром. Вокруг ковра стояли кожаный диван и пара кресел. В противоположной столу боковой стене кабинета была дверь. Окна были закрыты тяжёлыми бархатными шторами. На стене висела картина в романтическом стиле со штормовым океаном и борющимся с волнами бригом. Освещал кабинет только торшер, стоящий в углу, лампа на столе, да свет из двери бокового помещения.
В кабинете было трое. Таунсенд в рубашке и жилетке стоял посередине ковра с сигаретой в одной руке и стеклянной пепельницей в другой. На диване, закинув ногу на ногу, сидел незнакомый Остину рыжий европеец средних лет в смокинге. Остин припомнил, что эту заметно выделяющуюся в китайском обществе рыжую шевелюру он видел на приёме у Ду, но внимания на то, что делал и с кем разговаривал этот незнакомый ему человек, не обратил. У рабочего стола Таунсенда, опираясь задом о столешницу, стоял молодой полноватый и круглолицый китаец, с которым Рейнольдс уже был знаком, недолго и коротко, правда, — это был Ларри Сыма, помощник китайского члена Муниципального совета Цзяна. Его вместе с Цзяном Рейнольдс тоже видел на приёме у Ду Юэшэна.
— Поль, где у тебя там кофе? — послышался тот же голос со французским акцентом из смежного помещения. — А, нашёл.
— Добрый вечер, старший инспектор, — Таунсенд отставил пепельницу на стол, бросил туда окурок и сделал приглашающий жест. — Проходите, прошу. Знакомьтесь, это атташе британского посольства Джеймс Сандерс.
Сандерс встал с дивана и протянул Остину руку.
— Рад познакомиться с вами, — сказал он и сел обратно на диван.
— Это, — Таунсенд показал в сторону Ларри Сыма, — мистер Сыма из Муниципального совета.
— Мы знакомы, — вежливо улыбнувшись, Ларри поклонился Остину.
— А Эмиль варит кофе, — Таунсенд кивнул на дверь в боковой стене.
— Да, я вас, мистер Рейнольдс, видел на приёме, — донёсся из смежного помещения голос француза. — Простите, я поздороваюсь с вами через несколько минут.
— Это Эмиль де Сен-Круа из францу… — Таунсенд осёкся на полуслове, поскольку один из аппаратов на его столе пронзительно зазвенел. — Ларри, Ларри! — обратился Таунсенд к китайцу, энергично замахав рукой, — сними трубку!
Ларри снял трубку.
— Да, — сказал он по-английски, но тут же перешёл на китайский, — кто? Сколько их? Ясно. Спасибо. Ещё что-то узнаешь, сразу звони. Я понимаю. — Ларри положил трубку.
— Рябой Хуан* благополучно добрался до своего дома и сейчас собирает своих людей к себе, — обратился Ларри к присутствующим по-английски. — Пока у его дома** с десяток машин.
— Ну, это ещё ничего, — флегматично пожал плечами Сандерс.
— Ничего, — хмыкнул Ларри. — Сейчас соберёт несколько сотен бойцов, и куда они пойдут?
— Никуда они сейчас не пойдут, — поморщился Таунсенд. — Они там все в штаны наложили от страха и пока просто не понимают, что происходит. Да, Рейнольдс, вы же ещё не в курсе. С Ду Юэшэном всё в порядке. В него стрелял снайпер в тот момент, когда он вместе с ещё несколькими людьми вышел на балкон. Стреляли с одного из зданий на другой стороне рут Думер, но Ду как-то повезло, и пуля его не задела. Снайпер, кажется, успел уйти, но подробностей никаких мы пока не знаем. Ду, конечно, в бешенстве. Такая наглость.
— Вы забыли сказать самое главное, Таунсенд, — подал голос Сандерс.
— Да, — покачал головой Таунсенд. — Самое странное и неприятное для нас в этой истории — то, что Ду выходил на балкон вместе с мистером Джеррардом.
-
Среднее звено собралось выпустить пар за кофе.
|
-
oops, somebody gonna get hurt.
|
23.10.1935, 7:54
Шанхай, Международный сеттльмент,
Сингапур-роад, дом Чао ТаяДжейн Морган и Чао Тай были необычной парой. Всё у них было не как у людей. Начать хотя бы с того, что Чао Тай был китайцем, а Джейн Морган англичанкой. Смешанных браков в космополитичном Шанхае, конечно, хватает, но в основном иностранцы предпочитают заводить себе китаянок, а вот чтобы наоборот – это редко. Тому много причин – и то, что в Шанхай из Европы и Америки приезжает больше мужчин, чем женщин, и то, что шанхайлэндеры обычно куда богаче местных, ну и бремя белого человека и пренебрежительное отношение к китайцам тоже, конечно. Вторым необычным обстоятельством было то, что Джейн Морган была старше Чао Тая: ненамного, около года всего лишь, ерунда, казалось бы – ерунда-то ерунда, но не здесь, в Китае, где к подобным вещам относятся как к нарушению естественного порядка вещей, может быть, неопасному и безвредному, но всё же странному и противному извращению, чему-то вроде гомосексуализма. Но и этого мало: Джейн Морган не только была старше Чао Тая, но и зарабатывала больше его, пусть и тоже ненамного, но и этого достаточно, чтобы уязвить мужское самолюбие, а уж тем более – у китайца, выросшего в глубоко иерархичном обществе, где подобный факт мгновенно ставит тебя на одну ступеньку ниже той, по отношению к кому ты должен стоять на пять и десять ступенек выше, кого тебе необходимо оберегать и о ком заботиться, но также и кем управлять и кому приказывать, если необходимо. Ещё одной странностью было то, что Чао Тай был популярным в Шанхае актёром пекинской оперы, а Джейн Морган – бизнес-леди, управляющей собственной школой английского. Всё должно было быть наоборот, это англичанин-бизнесмен должен заводить себе любовницу актрису-китаянку младше себя хотя бы на год, и вот была бы Джейн Морган мужчиной, а Чао Тай – женщиной, как бы хорошо, понятно и красиво всё складывалось, а так – чёрт-те что. Самым же странным во всей этой истории было то, что подобные неестественные и, казалось бы, неустойчивые отношения продолжались уже 11 лет, но и продолжались-то – как: без детей, без брака, без совместной жизни даже, каждый в своём доме, Джейн в особнячке во Французской концессии, Чао Тай в домике на Сингапур-роад, у самой границы Сеттльмента. В 1924-м году такие отношения были естественными и, наверное, единственно возможными для выросшей в пуританской Англии девушки, только-только закончившей колледж и приехавшей в раздираемую гражданской войной страну учить туземцев языку белых людей. В 1929-м уже могло показаться, что это затягивается и пора бы если не пожениться, то хотя бы кому-то собрать вещи и попробовать пожить вместе, например, хотя бы в том домике, в котором Джейн только-только организовала свою школу и устроила себе квартиру наверху. В 1935-м это стало ещё одной странностью этой во всех отношениях удивительной пары, вызванной то ли боязнью что-то менять в жизни, то ли опасениями устать друг от друга, а то ли нежеланием расставаться с молодостью и сопутствующей ей свободой. А ведь молодость проходит: четыре года назад Чао Тай начал носить очки – они ему идут, конечно, придают интеллигентности, но всё же, он уже далеко не тот двадцатиоднолетний паренёк, поющий что-то высоким пронзительным голосом в гриме и пёстром платье перед входом в сад Юйюань в Китайском городе (в театры его ещё не пускали). Нет, тело осталось подтянутым, жилистым, выносливым: актёру амплуа ушэн, играющему в основном воинов и героев, нужно выделывать на сцене акробатические трюки, но тут другое – и черты лица, и серьёзность взрослого мужчины, и дорогой костюм, и партийный билет Гоминьдана, и очки. Но Чао Тай-то что, он и в сорок лет ещё будет считаться молодым, и в пятьдесят будет таким же крепким и сильным, а вот Джейн уже тридцать три, и пока ещё кожа гладка и упруга, но уже скоро появятся морщинки вокруг глаз и на лбу, как ни разглаживай, а первые седые волоски уже начали пробиваться в тёмных густых волосах – так рано, ужас, кошмар. А ещё у Джейн нет детей и, надо думать, и не появятся – если только вне брака, ну что же, ещё одной странностью больше, но и об этом пока ещё даже не заговаривали, а часики-то тикают. Сегодня Джейн ночевала у Чао Тая, первый раз за несколько дней: сначала Чао Тай уехал на пару дней с труппой в Нинбо на маленькие гастроли, вернулся только двадцатого, а дальше всё дела какие-то мелкие и сиюминутные, там репетиции, здесь занятия, ещё к стоматологу и дверь починить, ещё вечер в ресторане с труппой, никак пропускать нельзя, ещё выяснить, что сталось с мистером Ларкином, преподавателем – пропал без следа, оказалось, сломал ногу, позвонить не счёл нужным, ещё разобраться со старым родительским домом в Китайском городе – завелись крысы, соседи ругаются, ещё подменить мистера Ларкина, ещё раз подменить мистера Ларкина, попросить мисс Хендерсон подменить мистера Ларкина, ещё подписать новый контракт на гастроли в Японии в следующем году, ещё составить новые договоры на обучение, постричься и кошку к ветеринару, and thence homeward, then dined and so to bed, как писал Пипс. Но вот вчера – выкроили вечер, Чао Тай позвонил, оказалось, у обоих свободное время, через полчаса посигналил с улицы, вышла, поехали в кинотеатр «Нанкин» на Эдуарда VII , посмотрели фильм «39 ступеней» какого-то Хичкока ( ссылка), потом в ресторан, поужинали наконец вместе, и уж разъезжаться по домам теперь было бы совсем глупо. Сегодня их разбудил звонок телефона: Чао Таю постоянно кто-то звонил, всё работа да знакомые какие-то, половину из которых Джейн и в лицо не видела, мало ли у актёров знакомых, у них работа такая, вот и телефон он держал в спальне, на тумбочке рядом с кроватью, удобно. Только сейчас что-то совсем уж рано позвонили, вообще совести нет.
-
и вот была бы Джейн Морган мужчиной, а Чао Тай – женщиной, как бы хорошо, понятно и красиво всё складывалось, а так – чёрт-те что.
Шикарный пост, все-таки.
Уже третий раз его перечитывая, и а тут и плюсомет перезарядился.
-
Что-то готовился к интервью, разогревался, и вдруг захотелось так смачно плюс влепить, как раз давно не лепил тебе их что-то. А все конспирология проклятая. Может ну её уже? Впрочем...
...И вот сел я тогда перечитывать самые-самые корни веток всяких Шанхайских. Историй, хех.
С заботой везде написано, с любовью. Прям со старта. И все же эта, наверно, самая душевная. Ну и про детектива частного еще. Хотя эта все равно душевней. Талант же.
-
-
Вах! Так увлёк постом, что я свою станцию метро проехала)
+1 =)
Очень здорово!
-
|
Джулия, Дзиро
20:32
— Не стоит за мной заходить, — услышала девушка голос русского, отвечающего на вопрос японца. — Давайте договоримся встретиться у «Амбассадора» в шесть вечера. Пойдёмте, господа, — сказал он, увидев, что Джулия закончила говорить с Гао и направляется к ним. — Уже поздно.
Оставив Гао в редакции, журналистка и двое её гостей вышли на улицу, где японца дожидалось такси. Рядом с такси на тротуаре лежал давешний иностранец, вокруг которого кружком стояли пятеро китайцев в одинаковых чаншанах — видимо, сотрудники расположенного через дорогу казино «Фриско». Похоже, что лаовая только что закончили бить — он лежал у поребрика, подтянув к животу ноги и закрывая руками голову, и постанывал. Водитель такси, положив руки на открытую дверцу машины, с интересом наблюдал за происходящим.
— Не сдохнет? — участливо поинтересовался у своих друзей китаец, доставая из кармана сигарету и зажигалку. — Лаовай всё-таки.
— Не-е-е, — протянул другой, тоже с сигаретой. — Оклемается… — и несильно пнул лаовая ботинком по рёбрам. Лаовай застонал.
— Пошли, — обратился к друзьям третий, бывший, похоже, у них за главного.
— Пошли, — согласился парень с сигаретой и смачно сплюнул на порванный плащ лаовая.
Не то, чтобы такое случалось перед подъездом редакции «Шанхай Таймс» каждый день, но нельзя сказать, что это был первый раз, когда Джулия Лян видела подобную сцену, — всё-таки соседство с Кровавым переулком давало себя знать, и драки, пьяные дебоши и даже стрельба в таком месте были делом частым — особенно по пятницам. Тем более, что французская полиция в Кровавый переулок не совалась, да и Муниципальная, под чьим веденьем находилась эта сторона авеню Эдуарда VII, тоже предпочитала назначать своим патрульным констеблям другие маршруты для обходов.
Алекс со своей коробкой в руке остановился перед избитым иностранцем, наблюдая за избившими его китайцами, удаляющимися через дорогу обратно к казино.
— Надо бы помочь, — сказал он, кивнув на ожидающее Танаку и Джулию такси. — Здесь Лестерская больница недалеко.
Мартин:
— Ого, они что, немцы? — удивлённо спросил Селину Фаундбаскет после того, как старые знакомые обменялись приветствиями по-немецки.
— Да я вообще уже перестаю что-нибудь понимать! — раздражённо пожала плечами Селина и замахала в воздухе бокалом. — Сломанная рука, немцы в Китае… Кто-нибудь, заберите уже у меня этот бокал и дайте ещё шампанского!
— Мартин, я… — обратился было к Мартину Штерн, но обернулся на голосящую Селину. — Мисс Джонсон! Мисс Джонсон! — запричитал он громким шёпотом, — пожалуйста, потише! Здесь не Штаты, здесь нужно чуть-чуть… — Штерн сделал сложное движение рукой в воздухе, означающее, видимо, «чуть-чуть деликатнее».
— Чёртовы церемонии, — фыркнула Селина и сунула бокал Штерну. — Тогда вы возьмите этот бокал, чёрт побери! Он меня уже раздражает, как и вы, впрочем.
— Хорошо, хорошо! — энергично закивал Штерн и взял бокал. — Только, Бога ради, ведите себя чуть-чуть сдержанней!
— Я сама невозмутимость, — хмуро ответила Селина и отвернулась к Фаундбаскету.
— Фуф… — облегчённо выдохнул Штерн и продолжил по-немецки, затараторив в своей обычной еврейской манере, которую Мартин знал ещё по школе, — Мартин, я сразу отвечаю на твои вопросы: первое — да, я до сих пор в Шанхае и как-то умудрился остаться живым; второе — да, я сейчас работаю на Ду Юэшэна переводчиком, возможно, живой я именно поэтому; третье сейчас я слежу за этой дамой хотя у меня не очень получается и четвёртое я тоже рад нашей встрече а как ты сюда попал?
-
Всё-таки ты мастер, то есть я хотел сказать Мастер, именно с большой буквы. Я-то думал, что этот эпизод со спешащим куда-то лаоваем - он тогда для колорита исключительно был введен, ну и заодно чтобы мы с такси что-то решили, что делать будем. А ты глубже пошёл, целую трагедию вывел, небольшую такую, в рамках Города Греха, но всё же трагедию. И как знать, может даже совсем судьба у этого человека сломалась, если вдруг на последние деньги обокрали его заодно, а может и наоборот - по заслугам получил, ежели натворил чего там. В любом случае есть ощущение такое, что коснулся невзначай нпц, а за ним - целая история была, не просто образ и приём мастерский, а нечто большее.
|
|
Джулия, ДзироВ течение длинной речи японца Гао сидел с блокнотом и карандашом в руках и делал какие-то пометки. Японец закончил говорить, и установилась тишина, а Гао всё так же сидел с блокнотом в руке, выводя в нём что-то. - Я думаю, господин Гао позже скажет своё мнение, - после паузы сказала она.— А? — Гао растерянно поднял взгляд на Джулию. — Да-да, конечно. Я вас прекрасно понимаю, господин Танака, — журналист обернулся к японцу и с самым сочувственным видом кивнул. — Это очень важный вопрос. Господин главный редактор, - она поклонилась так, чтобы поклон не адресовался никому персонально, но в то же время так, чтобы можно было подумать, что она кланяется Гао, - поручил мне собрать как можно больше материала на тему террористического акта и всего, что с ним связано. — Безусловно, — важно кивнул Гао. — Никто не справится с этой задачей лучше вас. Продолжайте, мисс Лян. Мартин:20:10Китаец с фонариком направил луч на удостоверение, которое протягивал Фаундбаскет. — Ньюсвик, — прочитал китаец. — Проходи к дому, — сказал он по-английски Фаундбаскету. Моя фамилия Донахью. Френк Донахью, должен быть рядом с "Фаундбаскет". Прошу вас, поторопитесь!— Посвети-ка, — сказал китаец с планшетом своему помощнику. — До… до… как, ещё раз, Донахью? А, Делахью? Фрэнк Делахью? Ваше удостоверение, пожалуйста. Лицо китайца, склонившегося над планшетом, осветил луч фар автомобиля, свернувшего к воротам виллы. Мартин, прищурившись от яркого света, тоже обернулся. За его спиной стоял серебристый «Астон-Мартин», на водительском сиденье которого сидел упитанный китаец в форменной фуражке. Китаец с планшетом оглянулся на машину. — Ваше удостоверение? — ещё раз спросил он Мартина. Водитель «Астон-Мартина» нетерпеливо нажал на клаксон. — Пропустите уже его! Это мой коллега! — по-английски крикнул Фаундбаскет, обернувшийся и остановившийся на дорожке, ведущей к ярко освещённому главному входу виллы. Китаец обернулся на Фаундбаскета, а затем снова на машину. Вид его был весьма озадаченным. — Ну ладно, проходи, — сказал он Мартину. — На входе всё равно обыщут. И Мартин прошёл за ворота виллы. Фаундбаскета он нагнал на полпути к дому. — Десять минут девятого уже, сволочи, — сказал Фаундбаскет, торопливо шагая по выстланной гравием дорожке через бамбуковый сад. — Будем надеяться, что хотя бы Селина добралась вовремя. Селина — это моя коллега, — пояснил американец Мартину, сойдя с дорожки, чтобы пропустить «Астон-Мартин». — Она немного экстравагантная дама, хоть и, хм, не настолько, как ваш русский при… при…, — Фаундбаскет осёкся и громко чихнул. — Приятель, я хотел сказать. Чёрт, я, кажется, простудился. Не хватало ещё подхватить жёлтой лихорадки и сдохнуть здесь. Или малярии. У вас ведь здесь распространена малярия? Я видел больных малярией на Цейлоне. Жуткое зрелище. Журналисты добрались до портика перед входом, у которого гостей встретили швейцар в богатой ливрее и молодой китаец в чёрном френче, который склонился над «Астон-Мартином», объясняя водителю, куда отогнать машину. На приближающихся пешком под дождём журналистов оба они глядели с удивлением. Швейцар открыл дверь, и гости попали в богато украшенный вестибюль, залитый светом люстры под потолком. Мартин отдал гардеробщику верхнюю одежду, а Фаундбаскет только шляпу (американец был в модном тёмно-синем костюме с белыми брюками. Костюм его успел порядком намокнуть под шанхайским дождём, а ботинки и низ брюк измазаны в сучжоуской грязи) и были обысканы двумя китайцами. Их заинтересовала перевязанная рука Фаундбаскета, но, пару раз тронув её и убедившись, что вопит от боли американец вполне натурально, китайцы решили не придираться. Закончив с обыском, гостям показали путь наверх по лестнице, и Мартин с Фаундбаскетом прошли на второй этаж, где ещё один китаец, мордоворот в чёрном чаншане с зализанными назад волосами, с формальным полупоклоном указал им раскрытой ладонью на коридор, ведущий к зале, где проходил приём. Гости проследовали по указанному направлению. Зал, выдержанный в эклектическом стиле, сочетающий резные китайские орнаменты по ореховым панелям, которыми были отделаны стены, и модерновые люстры, заливающие зал тёплым жёлтым светом, был заполнен народом — как азиатами, так и белыми, кто сидящими за столиками и на диванчиках, кто собиравшимися группками и общавшимися между собой. По залу ходили официанты с подносами с бокалами шампанского. Несмотря на прохладную погоду, открыты были двери просторных балконов, нависающих над бамбуковым садом. Никакого Ду Юэшэна в округе видно не было, равно как никто не спешил и подбегать к Фаундбаскету с Мартином, ведя их на встречу с королём шанхайской мафии. — Эй, Баскет! — вдруг послышался женский голос из-за спины. Гости обернулись и увидели низкорослую и не очень привлекательную мулатку лет тридцати-сорока в вечернем платье. Пальцы рук дамы были украшены множеством аляповатых по-цыгански выглядящих перстней, а в ушах висели серьги, диаметр которых вполне позволял использовать их и как браслеты, которые, кстати, тоже украшали запястья дамы. В затянутой перчаткой руке дама держала пустой бокал. — Селина! — с облегчением воскликнул американец. — Какого чёрта ты попал в эту сраную аварию? — агрессивно начала журналистка, подходя к гостям. — Я… — начал было Фаундбаскет, но в этот момент Селина приветственно хлопнула его ладонью по плечу сломанной руки, которую он держал под пиджаком. Фаундбаскет взвыл и скрючился, схватившись за руку. Стоявшие вокруг азиаты в костюмах и чаншанах с удивлением оглянулись. — Оу, дуй бу чи, дуй бу чи*, — Селина обвела взглядом окружающих и развела руками. — Я тоже очень рад тебя видеть, Селина… — сжав зубы от боли, процедил Фаундбаскет. — Ты что, Баскет, руку, что ли, сломал? — бесцеремонно поинтересовалась Селина, с интересом наблюдая за корчащимся в муках коллегой. — А на что ещё это похоже?… — выдавил Фаундбаскет. — А это кто с тобой? — Селина указала рукой с бокалом на Мартина. — И где Фрэнки? — Это наш новый Фрэнки, — морщась от боли, ответил Фаундбаскет. — Его зовут Мартин Херингслэйк, он помог мне добраться до города.
-
— Эй, Баскет! — вдруг послышался женский голос из-за спины. Гости обернулись и увидели низкорослую и не очень привлекательную мулатку лет тридцати-сорока в вечернем платье
Йопт, опять она! Самый стремный персонаж в этой игре). Когда же её гангстеры пристрелят?)))
-
Хороший, добротный пост. Рад, что не забрасываешь модуль
|
- Хорошо, я всё понял. Если у вас есть ещё какие-либо соображения по поводу того, где Чжэнь Люй мог устроить тайник, то я слушаю. Быть может, где-то на прежнем месте работы? По прежнему месту жительства? Если оно у него было...
— Мы не знаем о том, кем и где работал евнух всё это время, — развёл руками Уно.
- Кстати, у вас есть возможности проверить местные похоронные службы или записи муниципалитета? Факт смерти нашего несчастного евнуха всё же желательно установить точно.
— Хорошо, — кивнул Уно. — Это может быть полезным. Но на это потребуется несколько дней.
Распрощавшись на этом со связным, Сабуро поднялся к себе в номер.
Бэйпин (бывш. Пекин), Запретный город,
близ Дворца долголетия,
-3°С, ветер, снег.Проснувшись утром, Сабуро выглянул за окно. За окном было всё так же серо, как и вчера, — снегопад и не думал прекращаться, и проспект Чанъань, на который выходило окно номера Сабуро, был весь заметён, и на обочинах уже выросли громады сугробов. Сабуро оделся, спустился вниз, позавтракал, вышел на улицу и впрыгнул на ходу в трамвай, и так же на ходу спрыгнул из него перед самыми воротами Тяньаньмэнь. Ворота Небесного спокойствия (Тяньаньмэнь) входом в Запретный город ещё не являлись, а были лишь одними из вереницы массивных привратных башен, протянувшихся на север от южных ворот города через многочисленные стены до самого Зала Великой гармонии, где располагался трон Сына Неба. Должно быть, чиновник из далёкой провинции, приехавший на доклад к императору, проходя одну за другой массивные каменные башни, кожей должен был чувствовать величие и незыблемость императорской власти, и равно своё в сравнении с ней ничтожество. Пройдя ворота Небесного спокойствия, а за ними ещё одни, Сабуро вышел в широкий заваленный снегом каменный двор. Людей здесь почти не было: дремал в будке кассир да охранник стоял у массивных ворот (называющихся Полуденными, 午門). Сабуро подошёл к будке и купил билет и карту Запретного города. Охранник открыл тяжёлую скрипящую створку ворот. Это были центральные ворота башни, и Сабуро знал, что в императорское время этими воротами мог пользоваться лишь сам Сын Неба и, раз в три года, в качестве величайшей милости, двое чиновников, занявших первое и второе места на императорских экзаменах. А сейчас, чтобы пройти через эти ворота, Сабуро требовалось только показать охраннику билет на посещение «Музея старого дворца», как теперь назывался Запретный город. Билет стоил три китайских доллара. И снова за воротами был окружённый каменными стенами двор с мраморными мостиками через извилистый ручей, пересекающий двор. Ручей был подо льдом, двор был завален снегом, через который дворники проложили дорожки для посетителей. Сабуро пересёк и этот двор и прошёл через ворота в следующий. Это был широкий двор без единого деревца, окружённый каменными стенами, покрытыми облезающей красной краской. А в северном конце двора стояло трёхярусное отделанное мрамором возвышение, на котором высился главный дворец Запретного города, тронный зал императора. Это место было знакомо Сабуро. Нет, разумеется, он никогда не бывал здесь, но многажды видел этот двор на старых фотографиях, изображающих победоносную японскую армию, в 1900-м году в составе союзной армии восьми великих держав наголову разгромившую разложившуюся китайскую армию и невежественных постанцев-ихэцюаней и прошедшую по этой площади победным парадом: Но сейчас здесь было тихо и пусто. Немногочисленные посетители дворца поднимались по ступеням к входу тронного зала и заглядывали внутрь, перегибаясь через толстый бархатный шнур, закрывающий проход. Толстые шапки снега лежали на солнечных часах, подаренных итальянскими иезуитами ещё императорам династии Мин, в огромных медных чанах для сбора дождевой воды, на каменных фигурах львов, фениксов, черепах и журавлей и на загнутых скатах крыш залов и галерей. И никому не было дела до японца в сером пальто, который, сверившись с картой, пошёл не к тронному залу, а по порядком уже занесённой снегом тропинке к одним из боковых ворот. Дальше начиналась непарадная часть Запретного города, то место, где жили многочисленные наложницы императора и евнухи — конечно, среди них и пресловутый Чжэнь Люй. Здесь не было широких площадей, а только маленькие зажатые между высокими красными стенами дворики с парой деревьев и колодцем, павильоны, галереи и стены, стены и стены. Немного поплутав по пустым каменным переулкам, Сабуро прошёл через небольшие ворота с двухстворчатой дверью и увидел приземистое одноэтажное здание, которое, может быть, смотрелось бы богато вне стен Запретного города, но здесь терялось в окружении куда более величественных дворцов. Наддверная табличка на китайском и маньчжурском гласила: «Дворец долголетия».  На переднем плане. Перед входом во дворец стояли высокие медные курительницы для благовоний и фигуры черепахи и журавля. Эти животные в Китае считались символами долголетия и плодородия, и Сабуро мог предположить, что в императорское время здесь жили наложницы императора. Но, как и в других дворах, через которые проходил Сабуро, здесь было пусто, и только цепочка уже подзанесённых снегом следов, протянувшаяся за двор, свидетельствовала о том, что Цю Цзюнь всё-таки явился на встречу. Оглянувшись по сторонам и никого не увидев, Сабуро пошёл по следам. Завернув за угол дворца, японец услышал свист у себя над головой и, оглянувшись, увидел молодого китайца в ватнике и ушанке, стоящего на самом краю загнутой крыши с полной снегом совковой лопатой в руке. — Эй! — весело крикнул китаец, и Сабуро увидел, что в челюсти у него одни металлические зубы. — Чё как, не заблудилися тама?
-
Всё-таки крайне атмосферная сцена, как и сама ветка вообще. До чего зима всё-таки сильна этой светлой грустью пустоты. Хотя и не светлая она здесь даже. Перечитал и загрустил, хм. В первый раз как-то не рассмотрел этого. А сейчас вот накатило.
|
21.11.2041 14:45
Гуанчжоу, улица Тяньхэ-лу
Ленни и Сюй Юань вышли из вращающихся дверей торгового центра. На ногах Сюй Юань были новые босоножки, а в руках — ещё с пять-шесть пакетов с брендовыми вещами. Ленни шёл без пакетов, с самым беззаботным видом заложив руки в карманы брюк. — Возьми хотя бы один! — умоляющим тоном попросила Сюй Юань. — И не подумаю, — весело ответил Ленни. — Я говорил тебе — не надо столько набирать вещей, всё сама потащишь! Ещё как мы их будем складывать в салон? У меня не грузовик, между прочим. Кстати говоря… — Ленни обернулся, только чтобы увидеть, как Сюй Юань свернула в стеклянную дверь круглосуточного магазина FamilyMart: — Чего тебе там ещё понадобилось? — окликнул он девушку, но та уже скрылась в дверях. Пожав плечами, Ленни направился за ней. — Я хочу купить суши в дорогу, — сказала Сюй Юань. — Пару часов ехать осталось, — хмыкнул Ленни. — Я всё равно проголодаюсь, — упрямо сказала Сюй Юань. — Ну как хочешь, — пожал плечами Ленни и отвернулся к стойке с журналами. Обернувшись, наконец, он увидел Сюй Юань, стоявшую у кассы с коробкой суши и бутылкой мартини. — Так, а это зачем? — Ленни указал на мартини. — Мне же надо будет чем-то запивать суши! — с вызовом сказала Сюй Юань. — Ну, купи колы, — сказал Ленни. — Ещё ты мне будешь указывать, что я за свои деньги буду покупать! — взвилась Сюй Юань. Продавщица настороженно глядела на клиентов, не зная, пробивать ей бутылку или нет. Ленни хмыкнул и отвернулся назад к стойке с журналами. Сюй Юань гневно зыркнула ему в спину и протянула бутылку продавщице. 21.11.2041 15:24
Шоссе S43,
между городами Гуанчжоу и ЧжуншаньЛамборгини неслась по эстакаде, протянутой на высоте двадцати метров над полями и многочисленными в этом месте протоками дельты Жемчужной реки. «Чжуншань — 32 км, Чжухай, Аомэнь — 63 км» — пронёсся мимо очередной указатель. Сюй Юань держала коробку суши на картонном пакете, лежащем у неё на коленях. Рядом с ней на сиденье лежала неоткрытая бутылка мартини. Сюй Юань и Ленни молчали. — Ну давай, — не выдержал, наконец, Ленни. — Что давай? — мрачно спросила Сюй Юань. — Ну, начинай бухать, — сказал Ленни. Сюй Юань молчала. — Ну давай, давай, — продолжал Ленни. — Ты ж уже часов пятнадцать не пила. Или на рекорд идёшь? Сутки без алкоголя — новое личное достижение? — Знаешь, что? — прошипела Сюй Юань. — Ну, что? — без выражения ответил Ленни. В ответ Сюй Юань скрутила пробку с бутылки и, запрокинув голову, приложилась к горлышку. Сделав несколько глотков, девушка закашлялась и отпустила бутылку. — Вот, узнаю свою девочку, — удовлетворённо кивнул Ленни. — Легче стало? — Да, легче! Легче!!! — злобно крикнула Сюй Юань. — Ну и не кричи тогда, — спокойно ответил Ленни. — Если тебе мало будет, мы ещё возьмём догнаться, хорошо? — Почему ты такой урод? — дрожащим от злости голосом сказала Сюй Юань. — Почему ты такой сраный баохуафу? Зачем я вообще с тобой связалась? — Действительно, — хмыкнул Ленни. — Слушай, у меня есть идея. Помнишь, мы прошлой ночью попали в полицию? Хотя нет, ты не помнишь. Ну тогда просто поверь мне, что там был такой сержант Ю. Красивый парень, между прочим, мускулистый. Наверняка член комсомола или уже партии. Живёт, наверное, в квартире в ипотеке, ну это ничего, лет двадцать пять всего платить осталось. Давай сейчас назад поедем, я тебя с ним познакомлю, ты за него замуж выйдешь, родишь ему ребёнка, как положено? Он тебя тоже на машине катать будет. У него что-нибудь патриотическое наверняка, Chery, может быть, или BYD. Сюй Юань с ненавистью глядела на Ленни и молчала. — А, хотя нет, постой, — с деланной разочарованностью покачал головой Ленни, — сержант Ю на тебе ведь не захочет жениться, вот в чём засада. А знаешь, почему? Потому что никому не нужна жена, за которой придётся каждый день вытирать блевотину! Сюй Юань зашипела и бросилась на Ленни, вцепившись ногтями ему в лицо. Ламборгини резко мотнуло в сторону, так, что машина чуть не врезалась в борт грузовика, гружёного стройматериалами. Грузовик протестующе загудел. Пакеты с покупками, коробка суши и открытая бутылка мартини попадали на пол. Ленни, отбиваясь одной рукой от Сюй Юань, другой рукой пытался удержать управление. К счастью, на обочине дороги показался карман для остановки. Ленни направил машину в карман и, заскрипев тормозами, остановился. Отпустив руль, Ленни схватил Сюй Юань за запястье, а другой рукой отвесил ей пощёчину. Сюй Юань закричала и, схватившись за щеку, отползла по сиденью подальше от Ленни. — Сраная шаби! — заорал Ленни, дотрагиваясь до царапины на своей щеке. — Второй раз за два дня чуть не угробила нас обоих! Чёртова истеричка! Алкоголичка, истеричка, дура и шлюха! — заорал он, грозно наклонившись к Сюй Юань. — Да, и шлюха тоже! Что я, не знаю, что ли, чем ты там занималась с этим австралийцем, пока я по Пекину нарезал круги? Он хоть выпить тебе купил?! Сюй Юань молчала, испуганно глядя на Ленни. — Ну и хрен с тобой, — сказал Ленни, шумно выдохнул и откинулся на сиденье. Некоторое время оба они молчали. — Не было ничего, — дрожащим голосом прошептала Сюй Юань, — я в номере всю ночь сидела. — Да мне насрать, — сказал Ленни, закрывая глаза. Опять установилось молчание. — А знаешь, что, — собравшись с мыслями, сказала Сюй Юань. Говорила она тихо, но твёрдо. — Я сейчас серьёзно скажу. Я знаю, ты меня считаешь дурой, но это я серьёзно говорю. Я, может, дура, алкоголичка, истеричка, а ты дегенерат. Ты просто вырожденец. Люди начинают без гроша в кармане и становятся миллионерами или учёными, а у тебя столько возможностей в жизни, а ты ни черта ничем не занимаешься, только знай себе катаешься на своей крутой тачке, чувствуешь себя самым крутым, тратишь деньги направо и налево — без цели вообще, без смысла в жизни! — Ну да, — подумав, кивнул Ленни. — Примерно так, всё верно. — И ты считаешь, это правильно? Вместо ответа Ленни обернулся к Сюй Юань и внимательно посмотрел девушке в глаза. — Юань, — сказал он. — Как ты думаешь, почему я тебя ещё не бросил? Я же сто раз говорил, что не люблю тебя. Ты что думаешь, мало девочек хотят покататься на Ламборгини? — Ну и почему? — спросила Сюй Юань. — Да потому, что тебе, как и мне, скоро конец, — сказал Ленни. Сюй Юань молчала. — Ну посмотри, — продолжил Ленни, — тебе двадцать лет, а ты пьёшь каждый день. — Не каждый, — глухо сказала Сюй Юань. — Через день-то точно пьёшь, — отмахнулся Ленни. — Ты думаешь, что до тридцати дотянешь? Нет, можешь дотянуть, конечно, но в таком виде, что, — Ленни усмехнулся, — лучше не стоит. Ты чего, серьёзно веришь, что у тебя будут нормальные дети, нормальная семья? Да ничего этого не будет, ты сдохнешь. — Это лечится, — глухо сказала Сюй Юань. — Ну да, лечится, — кивнул Ленни. — Можешь прямо сегодня записаться к врачу. Полежишь в больнице, походишь на собрания всяких алкоголиков. Вылечишься, через пару лет станешь полноправным членом общества. Тогда и сержант Ю тебя замуж возьмёт. Но я же тебя знаю: если бы ты могла записаться, ты бы давно записалась. А ты ведь до смерти боишься жизни, просто по факту боишься жить, рожать, стареть, поэтому и пьёшь. Я тебя тогда потому в клубе и заметил, что ты танцевала так… дико и озлобленно, как будто хотела умереть прямо там. А когда умереть не получилось, пошла к стойке и начала пить. Сюй Юань молчала. По салону распространялся сладкий запах разлитого мартини. — Я чувствую с тобой родство душ, вот почему мы всё ещё вместе, — сказал Ленни. — Знаешь, как больной лейкемией и больной СПИДом. — А что у тебя болит? — спросила Сюй Юань. — Ну вот, — вздохнул Ленни и положил руки на руль. — Давно собирался сказать, всё боялся. А ты такую первоклассную истерику устроила, что даже не страшно теперь. Катарсис, все дела. Вот хорошо у тебя такие вещи получаются. — Говори, — попросила Сюй Юань. — В общем, у меня все счета в минусе, — сказал Ленни. — Никакой я ни хрена не миллионер больше. Ну, формально говоря, всё ещё миллионер — дом там родительский, все дела. Если его продать, тачку вот продать, со счетов остатки соскрести, все долги, может, и покроются, ещё на ипотеку хватит и BYD. — Ленни вздохнул. — Но я решил, что это недостойно пра-правнука Ким Ир Сена.Там ещё кое-что осталось, так что, если тратить как сейчас, то ещё на какое-то время хватит. Полгода, может быть, год. — У тебя ж десятки миллионов были, — ошарашенно сказала Сюй Юань. — Ну были, — протянул Ленни. — Они же тоже не бесконечные были. Один вот «Тэпходон-3», — Ленни постукал по рулю, — в три миллиона грина обошёлся. — А родственники твои? — спросила Сюй Юань. Ленни махнул рукой. — Папа с мамой у меня родственники были, — сказал он. — А это так, товарищи. — Хорошо, и что дальше? — спросила Сюй Юань. — Полгода, а потом? — Во-первых, может быть, я раньше разобьюсь, — сказал Ленни, — с твоей бесценной помощью. Ну а если доживу до момента, когда счета заблокируют, ну что тогда? Сяду в машину, полный газ, и на встречку в фуру. Или с моста. Знаешь, как у меня родители погибли? Сюй Юань кивнула. — Тут рядом, кстати, — сказал Ленни. — На этой дороге, только чуть подальше. — А я вот всегда думала, почему ты по сорок третьей ездишь, по тридцать второй же удобнее, — задумчиво сказала Сюй Юань. Ленни молча кивнул. Сюй Юань нагнулась и подобрала с пола бутылку. В ней ещё оставалась половина. Сюй Юань протянула бутылку Ленни. Ленни приложился к горлышку. — Фу, липкая вся бутылка, — поморщился Ленни, передавая бутылку Сюй Юань. — У тебя влажные салфетки есть? — Сейчас посмотрю, — сказала Сюй Юань и полезла в сумочку.
-
Вторая часть поста - очень, прям, сильно. Круто.
|
— Посмотрим, — буркнул Ленни в ответ на предложение сменить свой «Тэпхэдон-3» на новую машину. До этого Ленни менял машины только после того, как предыдущий номер «Тэпходона» заканчивал свой путь где-нибудь у бетонной стены со смятым капотом и сработавшими подушками безопасности. И вообще-то была у Ленни причина не хотеть менять машину на другую, хоть сколько угодно хорошую, и об этой причине не знал ни 1488, ни Сюй Юань, и даже Ленни сам себе боялся напоминать. Поехали уже, - сиплым шепотом произнесла Сюй Юань. Ленни прикрыл глаза и пару секунд сидел молча. «Сказать ей завтра или нет? — думал он. — Посмотрим.» — Поехали, — таким же шёпотом, наконец, ответил он и завёл мотор. 21.11.2041 9:23
Национальная автострада 107 Пекин-Шэньчжэнь,
Провинция Гуандун, между городами Ляньчжоу и Цинъюань,
Забегаловка «Юнхэ Даван»Ночная смена закусочной «Великий князь Юнхэ» закончила свою вахту двадцать минут назад, но девушки-официантки не спешили расходиться по домам, увлечённо рассказывая прибывшим на утреннюю смену коллегам о произошедшем прошлой ночью. Посетителей сейчас в закусочной было совсем мало, и все официантки столпились вокруг стойки, слушая рассказ своей коллеги: — И тут этот чокнутый как заорёт на неё, ой, да таки-и-ими словами, я даже вслух произнести их не могу! Раскрывает дверь этой своей машины и достаёт оттуда… — девушка выдержала паузу, — пистолет! — Что, прямо пистолет? — округлила глаза другая официантка. — Может, игрушечный? — недоверчиво поинтересовалась третья. — Я по новостям видела, кто-то ограбил магазин в Гуанси с игрушечным пистолетом. — Может, это они как раз? — встряла вторая. — Точно, я всегда говорила, что честным трудом на такую машину никогда не заработать, — убеждённо сказала менеджер смены, толстая тётка лет сорока. — Ну, теперь-то они, голубчики, попались, теперь-то… — менеджер осеклась и застыла с раскрытым ртом, увидев что-то в окно. Официантки обернулись, только чтобы увидеть, как на парковку влетел и, взвизгнув тормозами, остановился у двери закусочной чёрный Ламборгини. Дверь машины раскрылась, и до официанток донёсся голос девушки, на повышенных тонах что-то выговаривавшей виденному ими вчера ночью молодому человеку во френче, который открыл дверь машины. Очки он сменил на тёмные, но даже ими было не скрыть его помятого, хмурого и невыспавшегося вида. — Да иди ты к чёрту! — сердито крикнул молодой человек, толкнул стеклянную дверь забегаловки и подошёл к стойке. Официантки, замолчав, глядели на молодого человека с опаской. — Нюши*, — обратился молодой человек к менеджеру смены. — Мы вчера ночью здесь ужинали, и моя спутница оставила тут сумочку. Вы её не видели? — Сумочку? Да-да, конечно, — тётка-менеджер была настолько ошарашена возвращением ночного гостя, что даже забыла расстроиться по поводу того, что гости вернулись за сумочкой от Patricia Heringslake, на которую она уже сама положила глаз. Тётка извлекла сумочку из-под стойки и передала её молодому человеку. — И будьте добры ещё, — молодой человек показал на экраны с картинками блюд над стойкой, — вот те баоцзы за девять юаней, вон те, да, шесть штук, два пудинга из манго и два стакана соевого молока, погорячей, если можно. С собой заверните. — Ютяо к молоку брать не будете? — с опаской спросила менеджер, машинально вбивая заказ в компьютер. — Нет, не рискну, — помотал головой молодой человек. — Не подумайте, нюши, они вкусные, но… у некоторых они провоцируют непредсказуемую реакцию. --- Ленни сел в машину и передал Сюй Юань пакет с едой и сумочку. — А туфли? — замогильным голосом изрекла Сюй Юань. — Что туфли? — хмуро переспросил Ленни. — Где мои туфли? — Я не знаю, где твои туфли, — хмыкнул Ленни. — Откуда я знаю, где ты их бросила? — А я откуда знаю?! — взвилась Сюй Юань. — Я была пьяная! Откуда мне знать, где я бросила туфли? — Действительно, что это я задаю такие вопросы. Откуда тебе это знать, — пожал плечами Ленни и потянулся к зажиганию. — Нет! — закричала Сюй Юань. — Я без своих туфлей отсюда не уеду! Не уеду! Не уеду! Не уеду! … Ламборгини стояла на крайнем к выезду с парковки месте. Сюй Юань с баоцзы в одной руке и стаканом соевого молока в другой сидела с ногами (обутыми в гостиничные тапочки) на месте водителя и через открытую дверь наблюдала, как Ленни шарится за отбойником в поисках туфлей, продираясь через колючие кусты. Официантки забегаловки «Великий князь Юнхэ» столпились у входа в заведение, наблюдая за зрелищем. — Слушай! — Ленни с умоляющим видом обернулся к машине и крикнул Сюй Юань. — До Гуанчжоу восемьдесят километров. Заедем в какой-нибудь магазин и купим тебе какие-нибудь туфли! — Я тебе тысячу раз говорила! — закричала в ответ Сюй Юань. — Мне не подходят «какие-нибудь» туфли, мне нужны мои туфли! У меня нестандартная форма ступни! — Да ты у нас вообще нестандартная девушка! — раздражённо крикнул Ленни и скрылся за отбойником. … — Я нашёл пивную банку! — крикнул Ленни, поднимая над головой свою находку. — В ней муравьи. — Молодец! — крикнула Сюй Юань с набитым ртом и показала большой палец. — Продолжай искать! — Вылези и помоги мне! — крикнул Ленни. — Не могу, асфальт холодный! — капризно заявила Сюй Юань. — Ты вчера по этому асфальту чуть до Гонконга не убежала! — крикнул Ленни. — Я была пьяная! — крикнула Сюй Юань. … — Можно я съем твои баоцзы? — крикнула Сюй Юань. — Нет! — крикнул Ленни. — Спасибо! — крикнула Сюй Юань и полезла в пакет с едой. — В горле пересохло! — с набитым ртом обратилась девушка к Ленни, который копался за отбойником. — Можно я выпью твоё соевое молоко? — С двух стаканов обоссышься! — крикнул Ленни. — Действительно, — согласилась Сюй Юань, сняла крышку со стакана Ленни и принялась тонкой струйкой выливать соевое молоко на асфальт. — Что ты делаешь? — крикнул Ленни. — Извини, случайно получилось! — крикнула Сюй Юань и театрально выронила стакан на асфальт. — Ой, он упал! Ленни только скорбно покачал головой. … — Ты сумочку проверила? — крикнул Ленни, вылезая из кустов и отдирая от рукава френча репей. — Проверь, что они из неё ничего не украли! — Ты что, думаешь, я совсем дура? — с вызовом крикнула Сюй Юань. — Да! — коротко ответил Ленни. — Конечно, я всё проверила! — крикнула Сюй Юань и, уличив момент, когда Ленни снова пропадёт в кустах, полезла в сумочку. — Моя пилочка для ногтей! — вдруг крикнула она. — Они украли мою пилочку для ногтей! — Погоди! — послышался голос Ленни из кустов. — Ты хочешь сказать, что они не стащили твой телефон, они не стащили твои банковские карты, они стащили пилочку для ногтей?! — Но её тут нет! — крикнула Сюй Юань. — Всё-таки ты совсем дура, — констатировал Ленни. — Если я такая дура, может, ты, умник, объяснишь мне её отсутствие? — крикнула Сюй Юань. — Мне её, может, тоже поискать? — спросил Ленни в ответ. — Если нетрудно! — крикнула Сюй Юань. — Нашёл! Нашёл! — донёсся до Сюй Юань радостный крик Ленни. — Пилочку?! — с надеждой крикнула девушка. — Туфлю! — довольно крикнул Ленни, вылезая из кустов улыбающимся до ушей и с туфлёй, сплющенной в блин колёсами грузовика. — Отлично! — Сюй Юань радостно хлопнула в ладоши. — Вторую можешь не искать! Я только что придумала — мы заедем в Гуанчжоу и купим шлёпанцы!
-
гости вернулись за сумочкой от Patricia Heringslake
Да-да-да. Оценил :)
-
Вдохновение - штука такая))). Олсо, вспоминается О. Генри "Персик"
|
xx.xx.2041 0:52
Национальная автострада 107 Пекин-Шэньчжэнь,
Провинция Гуандун, между городами Ляньчжоу и Цинъюань,
Забегаловка «Юнхэ Даван»Забегаловка большой китайской сети фастфуда с национальным колоритом «Великий князь Юнхэ» располагалась при заправочной станции Petro China, на которой обычно останавливались междугородние автобусы. Вот и сейчас на заправке стоял спальный* «Хайгер» с номерами провинции Хэнань, следующий из Ухани в Шэньчжэнь. Пассажиры автобуса кто разминал ноги на большой пустой парковке перед забегаловкой, кто курил в отведённом месте, а кто выстроился в очередь у стойки забегаловки. И ещё несколько человек стояли на парковке, разглядывая невиданную до того машину. — «Фалали», — уважительно качая головой, сказал пожилой китаец в бесформенной белой кепке стоявшему рядом парню в поношенных джинсах и с рюкзаком за спиной. Парень боялся оставлять рюкзак в автобусе. Его могли в любой момент стащить, а у него там был ноутбук и все документы. Он только что закончил университет у себя в Ухани и сейчас ехал в Шэньчжэнь на собеседование на должность программиста. — Не-е-е, — тоном знатока возразил парень, — это не «Фалали». Это «Ланьбоцзини». — О-о-о, — протянул старик и закачал головой ещё интенсивнее. — А чья это? — Вон, — парень украдкой показал на забегаловку, где за стеклянной стеной за столиком сидели двое — молодой парень в массивных очках и застёгнутом на все пуговицы френче и девушка-китаянка с длинными прямыми волосами в коротком чёрном платье и тёмных очках на пол-лица. --- Ким Хюн Чин задумчиво скосился в окно. — Как они заебали пялиться на мою машину, — сказал он просто чтобы сказать что-нибудь. Сюй Юань не отреагировала. По пути из Чанши она уже выпила чуть ли не полбутылки виски и с трудом держалась на ногах. Неудивительно, что кусок в горло ей не лез, поэтому еда (рисовая каша чжоу и полоска теста ютяо, завёрнутая в блин с яйцом) лежала на её подносе почти нетронутой. Сюй Юань подняла взгляд на Кима, но ничего не сказала. — Если ты не хочешь есть, я съем твоё ютяо сам, — сказал Ким и потянулся к подносу девушки. Ким Хюн Чин тоже был не очень трезв, но алкоголь обычно только распалял его аппетит. — Не трогай мою еду! — заорала вдруг Сюй Юань и ударила Кима по руке. Сидящие за соседними столиками пассажиры автобуса Ухань-Шэньчжэнь оглянулись. — Тогда скорее ешь, — раздражённо сказал Ким и с шумом высосал через соломинку остатки соевого молока из своего стакана. — Я буду есть, когда захочу, — пьяно сказала Сюй Юань. — Я буду есть, когда захочу, — передразнил её Ким. За столиком снова установилось молчание. Сюй Юань взяла ложку, зачерпнула ей каши, но, не донеся до рта, опустила ложку назад в миску. — Так, — деловито заявил Ким. — Либо ты сейчас ешь, либо я отбираю у тебя соевое молоко. — Не смей трогать моё соевое молоко! — угрожающим тоном зашипела Сюй Юань. — Ты ещё командовать мной будешь! — раздражённо бросил Ким и схватил стакан девушки. Но Сюй Юань тут же вцепилась в стакан с другой стороны и потянула на себя. — Дай мне соевое молоко, я ведь люблю соевое молоко! — процедил сквозь зубы Ким, постепенно перетягивая стакан на свою сторону. — Мне насрать, что ты любишь! — истерично крикнула Сюй Юань и вцепилась зубами в пальцы Кима. Ким заорал и разжал пальцы. Стакан упал на столик, крышка его открылась, и соевое молоко растеклось по всей поверхности стола, залив еду и капая на колени Сюй Юань. Официантка, протиравшая пустые столики, остановилась в замешательстве с тряпкой в руках, боясь подходить к чокнутым мажорам. — Цао! Цао! Цао ни…! — заорал Ким, вскочив из-за стола и тряся рукой. — Ты, саньба, мне до крови палец прокусила! Цао! Какая же ты ёбаная цзянхо!!! — Подожди-ка, — тихо сказала Сюй Юань. Ровный тон её голоса не предвещал ничего хорошего. — Значит, я ёбаная цзянхо? — Ты! — крикнул Ким. — Ты трижды ёбаная цзянхо! Гань ни, саньба! Ааа, цао, до кости же! Пока Ким Хюн Чин матерился, Сюй Юань принялась сосредоточенно копалаться в своей сумочке, а затем достала оттуда что-то и встала из-за стола. Ким продолжал ругаться. Сюй Юань, не говоря ни слова, скорыми и нечёткими шагами направилась к выходу из забегаловки. — Вот и вали отсюда, ёбаная цзинюй! — крикнул ей вслед Ким и уселся обратно за столик. — Что, что вы на меня пялитесь? — оглянулся он по сторонам, всплеснув руками. Официантка за стойкой сняла трубку телефона. Официантка с тряпкой продолжала с опаской смотреть на бушующего гостя, опасаясь подходить ближе. Ким Хюн Чин откинулся на спинку дивана, закрыл глаза, взяв укушенный палец в рот. По правде сказать, его слегка мутило. «У неё укус как у бездомной собаки, — думал Ким, посасывая палец. — Теперь придётся делать прививку от бешенства». А Сюй Юань тем временем, двигаясь противолодочным зигзагом, подошла к «Ламборгини». В её кулаке зловеще поблескивала пилка для ногтей. Старик в бесформенной кепке и парень с рюкзаком за спиной так и разинули рот от удивления, увидев, как девушка, схватив пилку обеими руками, с противным скрежетом проводит ей по борту машины, оставляя длинную царапину. — Сяоцзе**, — ошарашенно пролепетал старик, но Сюй Юань и не подумала останавливаться, пока не довела царапину до переднего крыла. А затем отбросила пилку в сторону и, пошатываясь, направилась прочь к выходу на автостраду. Метров через двадцать она остановилась, сняла туфли, взяла их в руку и пошла дальше босиком. — Эй, Юань, — разлепил наконец глаза Ким. — Юань? — позвал он, оглядываясь по сторонам. В забегаловке девушки не было. Ким встал из-за стола и направился к выходу. Фигура Сюй Юань ещё виднелась в отдалении. Она шла по парковке к выходу на автостраду. Ким поднял руку и хотел было крикнуть ей остановиться, как тут заметил длинную царапину по всему кузову машины. — Цао!!! — по пустой парковке разнёсся вопль правнука Ким Чен Ира. — Ёбаная шаби!!! Ким кинулся к машине, распахнул дверь, полез под сиденье и достал из-под него пистолет. Старик в кепке и парень с рюкзаком испуганно отшатнулись. Ким направил оружие в сторону удаляющейся Сюй Юань и в бешенстве заорал: — Шаби, тебе пиздец!!! Один сантиметр краски на этой машине стоит больше, чем вся твоя ёбаная жизнь!!! Иди сюда, цзинюй, я тебя прямо здесь пристрелю! Сюй Юань, не оглядываясь, высоко подняла руку с вытянутым средним пальцем. — Полиция! — крикнул вдруг парень с рюкзаком, указывая на въезд на заправку. На въезде появились три машины с включёнными сиренами и проблесковыми маячками. — Гань ни ма, — тихо сказал Ким и прыгнул в машину, а через несколько мгновений Ламборгини уже рванула с места, но, проехав сотню метров, затормозила рядом с Сюй Юань, которая шлёпала рядом с отбойником. Щёки девушки все были в потёках туши. — Прыгай!!! — заорал Ким, раскрывая дверь. — Ты баохуафу! — сквозь слёзы вскрикнула Сюй Юань и залезла в машину, бросив туфли на дороге. — За нами три полицейские машины, — объявил Ким, вдавливая педаль газа. Ламборгини неслась по идеально ровной автостраде, одной из многих, прорезавших по всем направлениям Китай и своей протяжённостью, качеством и уровнем технического оснащения заставляющих американские хайвеи и немецкие автобаны выглядеть жалкими просёлочными дорогами. «Цинъюань — Выезд 1 через 1,5 километра. Гуанчжоу 79 км, Шэньчжэнь 239 км» — пронёсся над головой большой зелёный указатель. Сейчас по автостраде на юг ехали в основном большегрузные фуры, которых Ламборгини, разогнавшийся уже выше двухсот километров в час, лёгко оставлял за собой. Где-то за спиной остались и полицейские машины, которые не могли угнаться за гиперкаром. — Мы ведь ушли от них? — с надеждой спросила Сюй Юань. — Ты что, ебанулась? — раздражённо бросил Ким. — Нам перекроют путь на первом посту. — А что делать? — испуганно спросила Сюй Юань. — Просто помолчи! — рявкнул Ким. Сюй Юань замолкла, глядя в боковое окно на пролетающие мимо фонари и сливающиеся в одну шумозащитные гофрированные секции, установленные по бокам автострады. Поверх края шумозащиты виднелись тёмные контуры гор. Машина пролетела по виадуку, протянутому над долиной, и въехала в длинный тоннель. — Ты меня любишь? — тихо спросила Сюй Юань. — Ты что, ебанулась? — раздражённо повторил Ким. Некоторое время Ким и Сюй Юань молчали. Тоннель закончился, и вдалеке показались огни какого-то города, лепящегося на склонах гор. — Там моя сумочка… — вдруг всхлипнула девушка. — Что? — непонимающе спросил Ким. — Сумочка-а-а… — по щекам Сюй Юань снова полились слёзы, — моя сумочка там оста-а-алась… — Вот ты дура! — с чувством сказал Ким. — Моя сумочка та-а-ам… — плакала Сюй Юань. — Я её в Гонконге купи-и-ила… там телефо-о-он… какой же ты ванбадань! Ванбадань, шагуа, шагуа-а-а!!! — истерично завопила она, обернувшись к Киму и колотя того в бок кулаками. От ударов девушки Ким чуть не потерял управление машиной, и Ламборгини резко вильнула в сторону, едва не вписавшись в отбойник. — Мы разобьёмся сейчас из-за тебя!!! — заорал Ким. — Ничтожество! — капризно заявила Сюй Юань, ещё несколько раз чувствительно ткнула Кима в бок, а затем согнулась, уронив голову на колени, и начала шарить под сиденьем. — А я нашла ви-и-иски, — всё ещё хлюпая носом, протянула она, подняв с пола бутылку «Джека Дэниэлса», на дне которой ещё плескалось виски. Девушка отвинтила пробку и приложилась к бутылке. — Т-ты не будешь? — протянула она бутылку Киму. На этот раз Ким даже ругаться не стал, только помотав головой. — А, ну тогда я доп-пью, — сказала Сюй Юань и в пару глубоких глотков прикончила бутылку. Вдалеке показались огни полицейских машин, перекрывших дорогу. Ким плавно затормозил машину. — Всё, приехали, — объявил он. — М-меня сейчас в-вырвет, — нечётко ворочая языком, заявила Сюй Юань, выронив пустую бутылку под ноги. Ламборгини остановился перед полицейскими машинами, за кузовами и раскрытыми дверьми которых расположились полицейские с оружием в руках. Ким распахнул дверь и с поднятыми руками вышел наружу. — Мы сдаёмся, — громко объявил Ким. — Выйди из машины, не заблюй мне салон! — обернулся он к девушке. Несколько полицейских вышли из-за машин, осторожно приближаясь к нарушителям порядка. — Без глупостей! — крикнул один из полицейских. Один из полицейских подошёл к Сюй Юань, которая, с трудом сдерживая рвотные позывы, выбралась из машины и, покачнувшись и взмахнув в воздухе рукой, упала на колени. — Сяоцзе, вам плохо? — спросил сержант дорожной полиции, опускаясь на колени рядом с девушкой. Сюй Юань посмотрела на него мутным взглядом, а потом её вырвало прямо на брюки полицейского. Видя это, Ким Хюн Чин громко заржал, запрокинув голову, — а в следующий момент он уже лежал с заломленными руками на капоте. --- xx.xx.2041 1:34
Провинция Гуандун, город Цинъюань
Отделение полиции района Цинсинь  Район Цинсинь города Цинъюань — Я гражданин Корейской Народно-Демократической Республики, — повторил Ким Хюн Чин, сидя на стуле в коридоре отделения. Сюй Юань спала на диване в прихожей. Китайские полицейские с интересом разглядывали паспорт с северокорейским гербом на обложке: — А по-китайски неплохо говоришь, — заявил один из полицейских, судя по металлическому бейджику на груди — сержант Ю. — Я наполовину китаец, — хмуро ответил Ким. — Дайте мне сделать телефонный звонок. Вы обязаны позволить мне связаться с консульством. — Парень, — лейтенант Хуан, бывший здесь за главного, опустился на соседний стул и положил Киму руку на плечо. — Тебя поймали пьяным за рулём, ты угрожал людям пистолетом, ты гнал под триста километров в час… — Выше двухсот не разгонялся, — буркнул Ким. — …и ты ещё нам будешь объяснять, что мы обязаны? Ты понимаешь, как ты попал, мальчик? — Фамилию мою в паспорте посмотри, — Ким обернулся к сержанту Ю, который держал его паспорт. Сержант Ю вопросительно взглянул на лейтенанта. Лейтенант кивнул. — У тебя там по-корейски всё, — ответил сержант Ю, листая паспорт. — Вид на жительство открой, — сказал Ким. — Семнадцатая страница. — Ого, Аомэнь, — присвистнул сержант Ю, разглядывая вид на жительство Особого административного района Аомэнь (Макао). — Ну то-то вон он на какой тачке, — прокомментировал другой, заглядывающий в паспорт через плечо коллеги. — А народ в его стране траву жрёт, — покачал головой сержант Ю. — Так, ну и какая у него фамилия? — перебил их лейтенант, сидящий рядом с Кимом. — Цзинь, — ответил полицейский. — Ну и что? — спросил лейтенант. — У половины корейцев фамилия Цзинь. — Ну а ты про других Цзиней из Аомэня слышал? — с вызовом спросил Ким. — Может, про отца моего слышал, который Ким Чен Ыну племянником приходился? — Чего нам до твоего Ким Чен Ына? — агрессивно подался вперёд сержант Ю, демонстративно захлопнув паспорт Кима. — Там ты, может, и король, а раз живёшь здесь, то и отвечать будешь по нашим законам! Сядешь лет на пять, я тебе отвечаю! — Погоди, Сяою, — выставил ладонь лейтенант, останавливая подчинённого. — Отведи-ка парня в камеру пока, а я кой-кому позвоню. Через пятнадцать минут Ким Хюн Чину позволили выйти в коридор и сделать телефонный звонок. Гонконгский номер своего двоюрдного деда Ким Юн Чхуля, старшего брата лидера КНДР, Ким помнил наизусть. Вообще-то двуличного мерзавца Ким Юн Чхуля парень не любил, подозревая, что именно он подстроил аварию, в которой погибли его родители, — но если кто-то и мог сейчас выручить Кима, так это Ким Юн Чхуль. «Ох, слава Небу», — мысленно возблагодарил судьбу Ким, когда гудки в трубке сменил шамкающий старческий голос: — Вэй?*** — Глубокоуважаемый двоюрдный дед, — начал Ким Хюн Чин по-корейски. Вообще-то, как это обычно бывает с детьми и внуками эмигрантов, на языке, который должен был ему быть родным, Ким говорил куда менее свободно, чем по-китайски и английски, да и Ким Юн Чхуль, проживший две трети жизни в Гонконге, изъяснялся по-китайски не хуже его, но в данной ситуации для весомости требовалось говорить по-корейски — тем более, что и сержант Ю сидел рядом, — это сын вашего покойного племянника Ким Хюн Чин. Нижайше прошу простить за поздний звонок, но ситуация не терпит отлагательств. Дело в том, что я попал в неприятную ситуацию, и мне не к кому больше обратиться. Я возвращался на машине из Пекина, и меня остановили в провинции Гуандун, совсем близко от Гуанчжоу. Превышение скорости, понимаете… хотя не только скорости… мне не к кому больше обратиться. — Буээээ… — послышалось из прихожей. «Тазик, тазик принесите!» — донёсся до Кима голос какого-то из полицейских.
-
Мощь. И матерящиеся йуные азиаты это так няшно^^
-
стабильно не перестаешь удивлять. крутой.
-
Прекрасное знание тематики и культуры...
-
-
Отлично, я бы даже сказал, офигенно. Все есть и китайский колорит и северокорейский душок и мальчик-мажор. Браво.
П.С. Кстати, впервые в жизни увидел Порш именно так - заправка при трассе, стоянка возле фастфуд-забегаловки. Правда в Австрии.
А вот знакомство с Ламборгини было более веселым. Увидел в Сан-Марино, просто стоящим под каким-то домом, прямо на дороге. Хотел было сфотографировать, но мялся какое-то время - стеснялся. Тут смотрю - какие-то мужики идут, явно к машине. Думаю - "Хозяева". е стал смущать, отошел. А они подобрались и один другого на фоне ламбика стали щелкать. Тоже русские оказались :)
-
— Ты меня любишь? — тихо спросила Сюй Юань.
— Ты что, ебанулась? — раздражённо повторил Ким.
ромаааантика)
-
|
Мартин25.10.1935 20:04
Шанхай, Французская концессия
Лилун* Хуахайфан близ авеню Жоффр,
квартира Бориса Мерзлякина— Вот! Вот! — потрясая пальцем на здоровой руке, заявил Мартину Фаундбаскет, поспешая вслед за коллегой по мокрому тротуару авеню Жоффр, — вот почему у нас в Штатах многие не любят китайцев! Можно одеться в западные костюмы, говорить по-английски без акцента, но вот эту мерзостную сущность из них не вытравить! Спасибо хоть, до города довезли, — Фаундбаскет оглянулся по сторонам на европейского вида здания: — Нанкин с его стенами по сравнению с Шанхаем выглядит деревней, я уж не говорю об этой дыре под названием Кантон, — продолжал разглагольствовать американец, — кое в чём Шанхай мог бы даже потягаться с Гонконгом. Там слишком чувствуется Британия, а британский консерватизм и засилие аристократии тормозит развитие, и поэтому нового Нью-Йорка или Чикаго не выйдет ни из Лондона, ни из Гонконга. А вот из Шанхая может получиться. Мартин заметил ресторан поблизости и поспешил к нему, пока они с Фаундбаскетом окончательно не вымокли под дождём. Ресторан, как на подбор, тоже оказался русским (на авеню Жоффр вообще жило много русских), под названием «Медведь»**. Медведь, разумеется, посетителей и встречал — в виде чучела в русской старорежимной фуражке с красным околышем, стоявшего в вестибюле со сводчатыми потолками, расписанными фресками под Билибина. — Ого, тут тоже есть русские, — прокомментировал убранство ресторана Фаундбаскет, оглядываясь по сторонам, — я нагляделся на них в Югославии. Мартин прошёл к стойке администратора, попросил телефон и набрал номер Бориса. Борис ответил не сразу, а когда ответил, Мартин сразу понял, что в этот пятничный вечер русский занимается тем, чем русские обычно занимаются в пятницу вечером. — Алё, Оленька, — Мартин услышал голос Бориса, говорящего по-русски, и ему даже показалось, что из трубки дохнуло чесноком и перегаром. — А? Хус дат? — Борис перешёл на английский, — Мартин? Ло-онг тайм но си, Мартин! Вазап? Филм? Кодак? Айв гат а шитлоад оф ит эт май плейс, ай нид ит но мор. Куз айм бро-о-ок, детс вай! Ю кэн тэйк эври факин тинг инклудинг алл оф май кэмерас, эксепт фор май фатерс ван, ай нид нафиг анимор, эксепт фор зе фатерс кэмера, ай стилл нид ит, бекоз ай вонт то би бёриед тугезер вит ит. Эмбрейсинг ит лайк май дирест да… Ват? Маски*** зе мани, май фрикин лайф из фрикин овер энивей. Е, ю кэн кам овер нау. Ю диднт хэв то колл, ю кэн кам овэр эни тайм… эксепт фор вэн айм факинг Ольга, со экшелли ю дид хэв ту колл. Ду ю ноу Ольга? Шис зе свитест… До дома Бориса ещё нужно было добраться, поэтому, не дослушав рассказ пьяного и разорившегося русского фотографа, Мартин бросил трубку, и, оставив пару мао**** на стойке, поспешил к выходу, у которого (как обычно у ресторанов в такое время) дежурил велорикша. Через пару минут Мартин и Фаундбаскет стояли у подъезда непрезентабельного кирпичного дома, находящегося в глубине одного из шанхайских лилунов, выходящих на авеню Жоффр. — Экзотично! — воодушевлённо прокомментировал Фаундбаскет, задирающий голову на длинные стержни для сушки белья, высовывающиеся из окон и доходящие чуть ли не до стены противоположного дома в узком переулке. Поднял голову и Мартин. Единственное окно, где на стержнях висело бельё, вымокая под усиливающимся дождём, было тёмное окно Бориса на третьем этаже. Вероятно, Борису было не до белья. Мартин и Фаундбаскет поднялись по узкой тёмной деревянной лестнице, прошли по коридору, аккуратно обогнув пятилетнего белобрысого ребёнка, который играл с машинкой рядом с открытой дверью одной из квартир (из квартиры доносились русские голоса и пахло стряпнёй), и, наконец, остановились у двери Бориса. Мартин нажал кнопку звонка. Звонок не работал. Мартин постучал. — Иду, иду, — донеслось по-русски из-за двери. Послышались звуки открываемых замков, и дверь раскрылась на ширину цепочки. В тёмном проёме показалось заросшее рыжей щетиной лицо Бориса. — А, итс ю, — сказал Борис, захлопнул дверь и открыл уже полностью. За дверью была тёмная прихожая, заваленная фотохламом (в углу стоял старый сломанный фотоувеличитель. Насколько Мартин помнил, он всегда тут стоял). — Ю кэн невер би ту кэрфул зес дэйс, — загадочно сказал Борис, извлёк из-за спины руку с револьвером и сунул оружие в карман засаленного ватного халата с драконами. — Ком, ком, ком, майн либер фройнд, — Не обратив никакого внимания на Фаундбаскета, Борис повернулся и пошёл в комнату своего жилища, служившую ему спальней, кабинетом, столовой и вообще чем угодно. Сейчас на столе рядом с диваном стояла глиняная бутылка китайской гаоляновой водки, стакан, пепельница, полная окурков, сковорода с недоеденной яичницей и фотография девушки в рамке.— Ю ноу, — заявил Борис, сгребая с полок шкафа кассеты с плёнкой, — ши коллс ми а джёрк. Ши коллс ми а лузер. Велл, ай мей би а лузер, бат ду ай лук лайк а джёрк? хелл ноу! — Борис обернулся к Мартину и сунул ему с десяток нераспечатанных кассет. — Бат! — Борис поднял указательный палец и сунул правую руку в карман халата. — Иф ю донт дринк виз ми нау, юр май мортал энеми. Энд ю ту, вац ёр нэйм! — вытянув шею, крикнул он Фаундбаскету.
-
Почему-то русско-английская речь здесь меня просто порвала)
И все остальное, как всегда, великолепно!
-
Про русских на авню Жоффр наслышаны, как же как же.
Борис ультраколоритен. Что поделаешь - надо пить!
-
Иф ю донт дринк виз ми нау, юр май мортал энеми.
|
|
22.10.35 19:48
Шанхай, Международный сеттльмент,
Тибет-роад, квартира Беатрис Бельфер и Эмили По*
Через два дня после памятной вечеринки Беатрис и Эмили съехали из уютного особнячка Джона По в квартиру на шестом этаже дома в неоклассическом стиле, окна которой выходили на поля шанхайского крикет- и гольф-клубов, публичный парк и, чуть подальше, дорожку для скачек.
Квартира была небольшой, но удобной: уютная спальня с окном во двор, в которую поставили две кровати вместо бывшей там одной двуспальной, просторная гостиная с окном на парк в человеческий рост и во всю стену - с хорошей мебелью в ореховых тонах, фотографиями сельского Китая на стене и даже фортепиано (не самой лучшей марки, зато хорошо настроенным), кабинет с письменным столом, креслом и шкафами (что делать с ним, девочки ещё не придумали), кухня, ванная и прихожая. Обошлось недёшево, но Джон По не соврал и помог, оплатив квартиру на два месяца вперёд (дальше сами, - заявил джазмен.)
Обжиться за пять дней девушки как следует ещё не успели, но кошку уже завели, в первый же день взяв у соседей Джона По рыжего гладкошёрстого котёнка. Вечеринку тоже ещё не успели закатить, но гости в эти первые дни, тем не менее, заходили часто, под предлогом посмотреть квартиру, помочь с обустройством, и засиживались допоздна: в первую очередь, конечно, карикатурист Джимми Чен, невысокий, худой, небрежно, но хорошо одевающийся, язвительный и иногда до хамства резкий и несдержанный интеллектуал, ярый антиимпериалист и социал-демократ. Джимми родился и вырос в Америке, но, чувствуя себя скорее китайцем, чем американцем, переехал в Шанхай семь лет назад после колледжа и стал известен своими острыми рисунками для "Шанхай Таймс" и "Шанхай Морнинг Пост". Джимми был полной противоположностью тихой, спокойной, мягкой, принципиально не желающей ничего знать о политике Эмили - и ведь нашла она в нём что-то, и сидели вечерами в гостиной, о чём-то тихо разговаривая по-китайски, и гуляли по ночам. Сейчас Джимми работал над иллюстрациями для английского перевода "Записок о кошачьем городе" Лао Шэ - едкого политического памфлета в форме фантастического рассказа о цивилизации людей-кошек на Марсе, до боли напоминающей современный Китай, и подолгу сидел в гостиной у окна с блокнотом и трубкой, вперемешку делая наброски иллюстраций, зарисовки улицы под окном и скетчевые, в два десятка штрихов, портреты гостей, и самих Беатрис и Эмили, Эмили в первую очередь, конечно.
Заходил и Ларри Сыма (Сыма Лин), образованный, ухоженный, вежливый, серьёзный и спокойный полноватый молодой человек с редкой двухсложной фамилией, потомок невообразимо древнего рода, знаменитого своими великими историками, полководцами и даже императорами (правда, очень давними, ещё когда Рим стоял), и ещё бесчисленным количеством чиновников-землевладельцев, чиновников-поэтов, чиновников-царедворцев, чиновников-философов, чиновников-учёных и просто чиновников. Разумеется, с такой родословной где же ещё было работать Ларри, как не в Шанхайском муниципальном совете - помощником китайского члена Совета. Ларри всерьёз рассчитывал лет через десять, когда ему будет за тридцать пять, занять кресло советника самому, а потом - чем чёрт не шутит! - году этак к шестидесятому стать первым в истории главой Совета-китайцем, и занять скромное, но достойное место в летописи своего рода, разумеется, за спинами своих древних предков, лишь чуть-чуть выглядывая из-за рукава халата великого Сыма Цяня.
Ларри был давним знакомцем и приятелем Джимми, но вместе с тем и заклятым идеологическим оппонентом: Ларри был сторонником поддержания автономии Сеттльмента и осторожного её расширения, Джимми же был патриотом и выступал за объединение страны под Тремя принципами Сунь Ятсена, утверждая, что Шанхай может стать той дверью в цивилизованный мир, через которую весь Китай сможет выйти из тьмы своей средневековой отсталости. Если не уследить и вовремя не свернуть разговор на музыку или литературу, позволив Ларри и Джимми заговорить о политике, то дальше их было не остановить, и всё неизбежно заканчивалось тем, что Джимми, возбуждённо жестикулируя трубкой, переходил на личности и изощрённо оскорблял Ларри, а Ларри хмуро предлагал ему выйти на лестницу, и вечер бывал безнадёжно испорчен.
Впрочем, за Ларри и Джимми следить не приходилось, когда в гостиной сидел Джефф Пайпер - саксофонист в биг-бэнде, выступающем в "Амбассадор баллрум", - этот угольно-чёрный уроженец Нового Орлеана не давал никому рта раскрыть и свой не закрывал, постоянно травя какие-то шутки, байки и истории, половина которых касалась того, как он живёт в Шанхае вот уже три года, не зная ни слова по-китайски (он утверждал, что даже как будет "привет" или "спасибо" не знает, во что, впрочем, никто не верил) и попадает потому в различные передряги. На бумаге его истории, наверное, ни у кого бы не вызвали и тени улыбки, но Джефф рассказывал их с таким увлечением и энергией и так заразительно скалил белоснежные зубы, что все волей-неволей сгибались от хохота, когда он завершал свой рассказ очередным "И тут старик этот мне и показывает, плати, мол, братец, а я же не понимаю, сколько! И как он мне врежет палкой по башке, я прям на задницу упал!"
Единственный, кто не сильно хохотал над шутками Джеффа, был Осип Григорович, человек без родины, зато с тремя матерями, одной в Боснии, другой в Эдинбурге, третьей – неясно где, загадочная и странная личность неопределённого около-тридцатилетнего возраста, не имеющий национальности, религии, гражданства, формального образования, работы и ударения в фамилии, непонятно откуда получающий скромные деньги, говорящий на семи языках свободный литератор, не написавший ни одного романа или рассказа, всегда одевающийся в тёмные пиджаки и брюки от разных костюмов, прибывший в Шанхай из Франции полгода назад по пути в метафизическую ссылку на Огненную Землю, куда он сам себя отправил, но взбунтовался и, совершив побег, остался здесь, выражающийся всегда замысловато и туманно, то рублеными, а то сложноподчинёнными предложениями, пересыпанными цитатами и аллюзиями на неизвестные никому книги, часто пьяный, очень тихий и грустный, в первую очередь от осознания своего безусловного интеллектуального превосходства. Непонятно, что Григорович находил у Джона По, а затем и у Беатрис с Эмили – скорее всего, он просто заполнял зияющую пустоту бытия джазом, алкоголем и никотином, что-то ведь надо бросить ей в пасть, когда она на тебя так голодно смотрит. Никто никогда не звал Григоровича в гости и вообще никто не знал, где он живёт, но он приходил сам и странным образом всегда оказывался к месту, и никто его не выгонял. Как правило, Григорович сидел где-нибудь в углу, только по случаям вмешиваясь в беседу, и медленно переводил тусклый взгляд с Эмили на Беатрис и обратно на Эмили, видимо, по очереди в каждую из них влюбляясь и оттого становясь ещё более печальным.
На Лизу Григорович смотреть избегал, видимо, опасаясь её, и та на него тоже не смотрела: связано ли это было с её сексуальными пристрастиями, о которых ходили противоречивые слухи, или с естественным презрением, которое профессиональный интеллигент без родины и ударения вызывал у практичной и деловой дамы, управляющей биг-бэнда – не так уж это было и важно. Лиза Херингслэйк (правильно по-немецки Херингслаке, но так её никто не называл, зато называли Хе Ли, по-китайски) была элегантной, сухой и подтянутой богемной женщиной с чёрными волнистыми волосами одного с Григоровичем и Джимми возраста, коренным шанхайлэндером, родившейся здесь ещё до революции и потому идеально говорившей по-китайски и понимавшей китайский менталитет, что было очень важно. При всём облике фем-фаталь, который Лиза старательно напускала на себя, на практике она была порядочной женщиной, доброй по-деловому, с выгодой для себя и окружающих. Именно Лиза больше всех помогла Беатрис устроиться на новом месте, предоставив машину для вещей и наорав на хозяина, когда он вздумал затягивать со сменой кроватей в спальне, и этому была причина и выгода для самой Лизы: та резонно полагала, что перспективной певице нужно всячески помогать и содействовать, чтобы та ненароком не перебежала в бальный зал Канидрома или в другое конкурирующее заведение. В гости она заходила тоже по-деловому: проживая в соседнем доме (как и полагается фем-фаталь, совсем одна в дорогой и изящной квартире), она часто забегала проверить, всё ли в порядке и точно ли Беатрис будет сегодня вечером на сцене, или дать Беатрис на подпись всякие деловые бумажки, но после уговоров оставалась на час-другой и сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и манерно покуривала тонкую сигаретку в длинном мундштуке.
-
Искал улики в старых постах и наткнулся на это. При всём облике фем-фаталь, который Лиза старательно напускала на себя, на практике она была порядочной женщиной, доброй по-деловому, с выгодой для себя и окружающих. Именно Лиза больше всех помогла Беатрис устроиться на новом месте, предоставив машину для вещей и наорав на хозяина, когда он вздумал затягивать со сменой кроватей в спальне, и этому была причина и выгода для самой Лизы: та резонно полагала, что перспективной певице нужно всячески помогать и содействовать, чтобы та ненароком не перебежала в бальный зал Канидрома или в другое конкурирующее заведение. В гости она заходила тоже по-деловому: проживая в соседнем доме (как и полагается фем-фаталь, совсем одна в дорогой и изящной квартире), она часто забегала проверить, всё ли в порядке и точно ли Беатрис будет сегодня вечером на сцене, или дать Беатрис на подпись всякие деловые бумажки, но после уговоров оставалась на час-другой и сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и манерно покуривала тонкую сигаретку в длинном мундштуке. Все-таки, какая женщина! Надо было Ричи её клеить. Прекрасная вышла бы пара. Джентльменистый упоротый детектив-расист и светско-деловая львица))). мммм...
|
— Хм, безопаснее… — задумчиво протянул Ли Дун.
— Я надеюсь, отец, что Чжао может рассчитывать на Вашу помощь в трудоустройстве после получения диплома? — подал голос Ли Сю.
Чжао Инь обратила внимание — он второй раз подряд назвал её не по имени, а формально, по фамилии. А вот к отцу он обращался с почтительным «Вы».
— Посмотрим… — не очень уверенно сказал Ли Дун.
— Мой старший брат весьма консервативен в вопросах подбора персонала, — улыбнувшись, сказал Ли Фэн. — Но нам в банке приходится придерживаться самых современных западных принципов. Как бы мы ни любили наши традиции, а конкуренция с Западом сильна, и на перевязанных ступнях нам за англичанами не угнаться.
За столом засмеялись.
— В нашем юридическом отделе работают и женщины, — продолжил Ли Фэн, — и, возможно, там найдётся место и вам.
— Об этом пока рано говорить, — поморщился Ли Сю.
— Действительно, — вмешался в разговор Тао «Мячик» Чжуси. — Чжао сяоцзе, а вы знакомы с доктором Цзинем? Он ведь тоже из вашего университета.
Фамилия Цзинь была относительно распространённой, и Чжао Инь попыталась припомнить, не знает ли она какого-нибудь доктора с этой фамилией. Не припоминалось.
— Зачем ты говоришь глупости, Чжуси, — ворчливо заявил Ли Дун. — Откуда Чжао сяоцзе знать Цзинь Го? Так ведь, доктор?
— Я действительно не имею чести быть знакомым с Чжао сяоцзе, — послышался голос от дальнего края стола. Чжао Инь обернулась. Там, почти на самом удалённом от Ли Дуна месте, сидел лысоватый интеллигентный господин лет пятидесяти в чаншане и с очками на носу. Безукоризненно правильной манерой речи и благообразным внешним видом, контрастирующим с общей значительностью остальных присутствующих за столом мужчин, он действительно походил на университетского профессора, но его Чжао Инь не знала. — Полагаю, что к счастью, ведь Чжао сяоцзе учится не на медицинском факультете, и единственным случаем познакомиться со мной для неё было бы попасть в клинику.
Ли Дун засмеялся. Улыбнулись и другие гости.
— Я и не знал, что у Вас новый личный доктор, отец, — сказал Ли Сю.
— Нет, — отмахнулся Ли Дун. — Пэн всё ещё на месте. Он сейчас уехал к родным в Ганьсу. Пэн отлично делает массаж, это правда…
— Да-да, я помню, как в детстве он мне чуть не сломал позвоночник своими железными пальцами, — засмеялся Ли Сю. — Простите, отец, я Вас перебил.
— Да, хм, — продолжил Ли Дун, — Пэн отлично делает массаж и готовит укрепляющие отвары, но с возрастом у человека появляются и иные проблемы.
— Ничего серьёзного, я надеюсь? — озабоченно спросил Ли Сю.
— Ничего, о чём стоило бы волноваться тебе, — ответил Ли Дун.
— Доктор Цзинь, — поднял взгляд от доски с пельменями Ли Нинли, — а как дела у господина Вана?
Чжао Инь заметила, что Ли Дун кинул на старшего сына неприязненный взгляд. Ли Нинли тоже это заметил и стушевался, опустив взгляд назад к доске с пельменями.
— Он передаёт семейству Ли пожелание исполнения десяти тысяч желаний в наступающем году, — любезно откликнулся Цзинь Го.
— А что за господин Ван? — поинтересовался Тао Чжуси.
— Общий знакомый, — нехотя ответил Ли Дун. — Он порекомендовал мне обратиться к доктору Цзиню.
— Просто я думал, что речь о Ван Гане, — улыбаясь, заметил Тао Чжуси.
— Не напоминай мне об этом своём Ван Гане, — отмахнулся Ли Дун. — Зачем ты только держишь у себя эту бестолочь?
— Ну, во-первых, не такой уж он и бестолочь, — ответил Тао Чжуси, — а во-вторых, вы же понимаете, что я многим обязан господину Гу…
— И в знак благодарности держишь близ себя его шпиона, — ядовито сказал Ли Нинли. На этот раз Ли Дун одобрительно усмехнулся.
— Именно так, — спокойно подтвердил Тао Чжуси.
— У всех свои методы, Нинли, у всех свои методы, — ласково обратился Ли Дун к старшему сыну.
-
а конкуренция с Западом сильна, и на перевязанных ступнях нам за англичанами не угнаться.
Изящно!
|
-
Картинка доставила безмерно). Так оно все и было). И паром исходящие фонари, и мокрая тяжелая шляпа и чернильно-черная ночь.
-
Машина, девушка, ночь, мокрые улицы Шанхая. Такой выразительный нуар!
|
-
В самом молле рестораны и закусочные, конечно, были, но наверняка большинство столиков в этот пятничный вечер были заняты — несмотря на трагедии, одна за другой прогремевшие в последние дни, Шанхай и не думал застывать в почтительном траурном молчании, а, казалось, наоборот, подобно пирующим во время чумы, стремился весь выложиться в дикой вакханалии безудержного веселья.
Будем веселы пока мы молоды!
|
-
На самом деле все эти беседы очень здорово получились. И вовсе они не нудные были. Очень атомсферные!
Особенно, конечно, вот это:
второй отдел сейчас упорно десантирует в Шанхай бригаду за бригадой своих головорезов, и они одна за другой упорно лажают, больше-то они ничего не умеют, после чего генерал Дай меняет одних дураков на других, и всё повторяется заново. Безумный цирк творится сейчас во Втором отделе, безумный цирк, инспектор.
|
Вздремнуть, ещё немножечко поспать… сколько же я вчера выпил? Стакан? Стакан точно был, но, кажется, я его только пригубил, а что было потом?
ААА!!!! МЕНЯ ПОХИТИЛИ!!! МЕНЯ, ТОМАСА КЭТА, ПОХИТИЛИ!!!
Том пружиной подпрыгнул на лежанке, испуганно озираясь по сторонам. Похитили, похитили, похитили, но кто же, кто?! Неожиданная мысль молотом ударила в голову, серпом резанула по… нервам — коммунисты! Всё захолодело внутри, как подумал Томас Кэт, либертарианец и американский патриот, что похищен красными!
Поймали, заперли, схватили кинозвезду! Сейчас посадят на самолёт и отвезут в Москву! А там, в мрачных казематах Союзмультфильма, угрожая водяными пистолетами, заправленными страшным «сиропом» (рецепт которого комми тоже наверняка украли), большевики заставят его рассказывать на камеру, что он, Томас Кэт, добровольно бежал в СССР, предпочтя звериному оскалу капитализма беззаботную жизнь в рабоче-крестьянском раю! А потом дадут в лапы тачку и отправят в какой-нибудь заснеженный гулаг, вместе с репрессированными русскими мультяшками возить туда-сюда щебень! Ооо, Сталин на это способен!
Том в отчаянье бросился на подушку, закрыв лапами голову, будто в любой момент ожидая появления страшного красного комиссара.
Или нет? — лучиком надежды промелькнула мысль. Нет, нет, его наверняка похитила Тудлс Галор! Этой двуличной кошке наверняка недостаточно половины состояния, которую она намеревалась отсудить у Тома. Нет, она хочет всего и сразу, и потому задумала избавиться от мужа! Она наняла каких-нибудь недобитых хорьков, чтобы те окунули Тома в «сироп» и сделали Тудлс законной наследницей всех миллионов мистера Кэта!
Том с облегчением перевернулся на спину, раскинув лапы по подушкам. Фуф, ну слава Богу, что так, а он-то испугался коммунистов.
-
-
-
-
-
-
-
Потрясающе. Даже без знания контекста читается.
-
-
Страшный красный коммисар? Эт мысль (%
-
Персонаж нравится вообще, но этот пост - особенно ^^
-
"Мрачные казематы Союзмультфильма" просто убили)
|
-
Напряжённая вышла сцена, хм, неожиданная и напряженная. Но ведь простых заданий не бывает, верно?)
|
За два часа до того:— «Доктор Джекил и мистер Маус», сцена пять, дубль девять. Мотор! Съёмка! — ассистент режиссёра пристукнул чёрно-белой «хлопушкой». Том с видимым удовольствием лакал молоко из блюдца. Вдруг откуда-то сверху в блюдце опустилась трубочка, через которую молоко начало быстро уходить. Том от удивления округлил глаза. Камера отъехала, открыв Джерри, стоявшего на макушке у Тома: Том потянулся за поленом из корзины, стоявшей у его задних лап, достал полено… …и трахнул изо всей силы себя по голове! На голове Тома вырастала огромная шишка, на вершине которой, грациозно балансируя на одной лапке и улыбаясь, стоял Джерри: Но уже через мгновение Джерри подпрыгнул и, закрутив лапами в воздухе, бросился прочь от Тома. — Стоп! Снято! — крикнул режиссёр Уильям Ханна. Том, потирая лапой ушибленное место, двинулся к режиссёру. Подбежавший ассистент накинул коту на плечи пушистый халат. — Билл! — с места в карьер обратился к режиссёру Том, хмуро глядя на него снизу вверх. — Почему она опять на площадке? — развернувшись, Том указал когтем на Тудлс Галор, которая, изящно прислонившись к стенке, стояла в затенённом уголке и наблюдала за съёмками, томно поднося к губам сигарету в длинном мундштуке. — Она хотела тебя видеть, — ответил Ханна, возвращаясь к креслу с надписью «РЕЖИССЁР» на спинке. — Меня хочет видеть вся Америка, и что? — ворчливо заявил Том. — Давайте теперь пускать на площадку всех проходимцев. Сигару мне! — закричал Том, замахав лапой в воздухе, и тут же к нему подскочил ассистент с мультяшной сигарой в руках. — Зажги мой огонь, детка, — тоненьким голоском пропела сигара. Попыхивая дымом и сложив лапы на груди, Том, насупившись, прошёл мимо софитов и решительно направился к Туддлс. Та с полным безразличием смотрела на мужа из-под полуопущенных ресниц. — Ну? — враждебно спросил Том. Туддлс выдержала паузу, а затем медленно извлекла кончиками накрашенных коготков из сумочки конверт и протянула его Тому. — Что там? — не меняя тона, спросил Том, не спеша принимать конверт. — Открой и увидишь, — нежно промурлыкала Туддлс. Том выдернул конверт из пальцев Туддлс, нервно разорвал и стал вчитываться в письмо, напечатанное на фирменном бланке адвокатской фирмы «Гольдфарб и партнёры». По мере того, как он читал дальше, усы, уши и шерсть на макушке Тома поднимались выше . Туддлс внимательно наблюдала, наслаждаясь эффектом. Вдруг Том в одно мгновение скомкал лист бумаги и, разъярённый, вытянулся в струнку, грозно наклонившись вперёд и направив указательный палец на Туддлс: — Чёрт бы побрал тебя и твоих еврейских адвокатов! Ты у меня попляшешь, Туддлс! Не видать тебе моих денег, как Оскара Марлен Дитрих! Туддлс смотрела на мужа с великолепным презрением. — Не заставляй меня терять остатки уважения к тебе, Том. Умей проигрывать достойно. — Пошла отсюда! — заорал Том, от злости подпрыгнув на месте. — Убирайся вон! Охрана! Охрана! Бегемот-охранник, во мгновение ока подоспевший к месту спора, потянулся к Туддлс. — Лапы! — Туддлс окинула охранника ледяным взглядом. — Я сама уйду. Пока, Томми, — манерно помахала она мужу лапкой, уже удаляясь. — Увидимся на заседании. Том, вне себя от бешенства, стоял с вздыбленной шерстью посреди площадки. — Что, Том, неудачный день? — раздался вдруг знакомый писклявый голос над ухом. Том оглянулся. Джерри стоял у него на плече и с интересом заглядывал Тому в морду. — А ну вали отсюда! — раздражённо крикнул Том партнёру и резко прихлопнул лапами, стараясь схватить Джерри. Не тут-то было! Джерри шустро перескочил Тому на макушку, откровенно потешаясь над котом. — Слезь с меня! — рявкнул Том и замотал головой, стряхивая Джерри. Но Джерри, вместо того, чтобы падать вниз, крепко уцепился за усы Тома и быстро завязал их в бантик, и только после этого отцепился и, упав прямо на сигару Тома, сев на неё верхом. Сигара, изогнувшись, как мустанг, выпрыгнула из зубов Тома и поскакала по полу. Джерри, как заправский ковбой, спрыгнул с сигары. Съёмочная группа, с интересом наблюдавшая, зааплодировала Джерри. — С бантиком вышло неплохо, Джеральд, — деловито заявил Ханна, показав на связанные усы Тома. — Можем вставить в какую-нибудь из сцен. — С меня хватит! — раздражённо махнул лапами Том. — Я не могу работать в таких условиях! — Наша примадонна обиделась? — пискляво поинтересовался Джерри. — Иди к чёрту, Маус! — крикнул Том, развернулся и пошёл к выходу из студии. — На сегодня с меня хватит! — Том, Том! — поднялся с кресла Ханна, поспешая за котом. — У нас сегодня ещё… — Билл, отстань, — устало буркнул Том. — Завтра, завтра… всё завтра. Что за чёртов день! --- Через час Том уже был в “Ink’n’Paint” и хмуро сидел за своим любимым столиком в углу. Сегодня его не веселили ни выступления на сцене, ни обычная тёплая атмосфера в зале. Ничего сегодня не веселило Томаса Кэта. — Двойной виски, — бросил он подошедшему пингвину. — И добавь валерьянки, капель пять. — Телефон, сэр, — подошёл к Тому другой пингвин с аппаратом на блестящем подносе. — К чёрту телефон, — сказал Том, откидываясь на спинку кресла. — К чёрту, к чёрту! — раздражённо крикнул он остановившемуся в нерешительности официанту. — К чёрту телефон, к чёрту адвокатов, к чёрту съёмки, к чёрту Эм-Джи-Эм, к чёрту всё. Неси скорей валерьянку. Хотя бы на вечер забыться ото всех этих проблем с бесконечно тянущимися и высасывающими всю краску судами. Как же тяжело быть звездой.
-
мимими.
особенно это:
— Зажги мой огонь, детка, — тоненьким голоском пропела сигара.
крутотища крутотенская.
-
-
-
У верблюда два горба потому, что жизнь - борьба (с)
Нуар воплощенный. Браво!
-
Ну, тезку-то не отплюсовать - грех. Тем более - МОЩЬ такую
-
Согласен с последним тезисом (%
-
-
торможу чего-то. Классный же пост!
|
|
В левом окне кругом разворачивающегося на перекрёстке форда промелькнули огни приближающегося навстречу грузовика, водитель которого, ошалев от маневра Ричи, ударил по тормозам и вдавил клаксон. Машины преследователей вылетели на перекрёсток вслед за Ричи и, тоже развернувшись и заскрипев тормозами, остановились. Хлопнули двери машин, до Ричи донеслись какие-то крики по-китайски — он опять ничего не разобрал.
Ричи выпрыгнул из машины и приподнялся над капотом форда, но не успел поднять револьвера, как увидел, как поднимает на него дуло томми-гана бандит (серый пиджак, плоская кепка на голове), выглядывающий из-за покатой кормы ближней к Ричи машины. Ричи инстинктивно пригнулся, и короткая очередь прошла по верху, выбив цепочку щербин в красной кирпичной стене трёхэтажного особнячка. Одна пуля звонко срикошетила от железной таблички "Cowaco Rd — 路克和克" на углу здания.
А вслед за этим раздалась длинная автоматная очередь, а за ней ещё одна и ещё. Сместившись в сторону, чтобы не дать бандиту в кепке ещё одного шанса, и взглянув на пэдди-вэн через окна в салоне, Ричи увидел, как тёмный кузов фургона одна за другой прошивают цепочки пуль. Вдруг задняя дверца пэдди-вэна распахнулась, и кто-то кубарем выкатился из машины прямо на ступеньки полуподвальной едальни и на четвереньках бросился внутрь.
---
Майкл не успел ничего понять.
Ещё мгновение назад он сидел, переводя взгляд с китайца-констебля, с сигаретой в зубах поднявшегося к открытому окошку, на заключённых в наручниках, как откуда-то сзади прогремела автоматная очередь, и фургон резко повело куда-то в сторону. Куривший констебль схватился за край окна, но не удержался и повалился на бок, прямо в проход между сиденьями.
— Держитесь! — крикнул Майкл, и что-то заорал по-китайски другой констебль, и, не успели они все схватиться за что попало, как пэдди-вэн, опасно накренившись, с грохотом врезался во что-то, да так, что Майкла приложило головой о железную стенку фургона. Схватившись левой рукой за лоб, другой рукой Майкл полез было в одолженную у китайцев кобуру с револьвером, но тут же получил новый удар — кто-то из подследственных вскочил, размахнулся обеими закованными в наручники руками и ударил Майкла по голове. Майкл повалился обратно на сиденье и вцепился обеими руками в навалившегося на него китайца. За спиной хлопнул пистолет, но кто в кого стрелял, Майкл не видел, а видел перед собой только оскаленное смуглое лицо того самого парня, которого инспектор Ричи с сержантом Ю тащили из изолятора под руки. Китаец с нечленораздельным рыком навалился на Майкла, вцепившись обеими руками англичанину в шею, прямо в подаренный Элли клетчатый шарф. Майкл хрипел, в глазах у него потемнело. Он почувствовал, как кто-то лезет в кобуру на его поясе. Майкл отчаянно лягнул ногой, попал во что-то мягкое, но невидимый второй противник прижал к полу его ногу и снова полез в кобуру. Майкл, хрипя, задёргался всем телом, пытаясь вцепиться пальцами в глаза навалившемуся на него китайцу.
И в этот момент корпус фургона прошила автоматная очередь, и китаец, разжав хватку на горле, захрипел и повалился на Майкла. Разлетелась осколками и погасла лампочка под потолком, кто-то что-то кричал, а очередь всё не смолкала, прошивая корпус фургона.
«Жить, жить, жить, только жить, теперь только жить!» — единственная мысль пульсировала в голове Майкла, когда он, оттолкнув китайца от себя, повалился с сиденья на пол, трясущейся рукой потянулся к ручке двери и распахнул её. За дверью, совсем близко, была покрытая штукатуркой стена здания, полуподвальные окна, ступеньки вниз, дверной проём, закрытый красным наборным занавесом.
Майкл, ничего не соображая, бросился наружу, упал, больно ударившись о какие-то железки на тротуаре, и на четвереньках метнулся к двери в подвал, кубарем скатившись по ступенькам в ярко освещённый зал, заставленный простыми деревянными столами с блюдами и мисками. На полу, прячась под столами, сидели китайцы — мужчины в долгополых чаншанах и рабочих куртках, женщины в простых хлопчатобумажных платьях, дети с чубчиками на выбритых лбах. Все хватались за головы и друг за друга и испуганно кричали. Закричал и Майкл, не поднимаясь с пола и дрожащей рукой расстёгивая кобуру:
— Полиция! Полиция! — испуганно заорал он по-английски, сам не понимая, зачем.
-
чудесный пост! вид с двух ракурсов, экшон, настоящая, "живая", реалистичная реакция на происходящее. клёво.
|
-
Воистину неожиданный поворот событий. Нет, признаться, я ожидал чего-то вроде "его нет дома" или "он попал в беду", но чтобы умер... Будем посмотреть, впрочем.
|
-
Первый раз я очень-очень пожалел, что один игрок может поставить за один пост всего один плюс.
|
— Хайцзюньбур! Хайцзюньбур даолэ! — хрипло закричал кондуктор и задёргал подвешенную к большому колокольчику у потолка верёвку. Погружённый в раздумья, Сабуро сначала не понял, что сказал кондуктор, и только через мгновение сообразил — «хайцзюньбу» по-китайски 海軍部, министерство военно-морского флота. Давно нет уж у китайцев никакого военно-морского флота, а министерство, глядь-ка, осталось. Только нет больше императора, и некому закупать в Европе броненосцы, поэтому и лежит на ступенях перед широкими воротами министерства толстый слой снега, и закрыты деревянные ворота на тяжёлую цепь. И только два непривычно огромных каменных льва стоят по сторонам, здоровые — вместе с пьедесталом в высоту таковы, что Сабуро, даже если бы подпрыгнул, не сумел бы сбить шапку снега на гриве льва. Здоровые животные. Империя, помпа. Но Сабуро прыгать и не собирался. Заложа руки в карманы пальто и хрустя ботинками по припорошившему замёрзшую грязь снежку, Сабуро двинулся по улице мимо министерства, поглядывая по сторонам на вывески и флаги, свешивающиеся со стен домов. Не прошло и пяти минут, как Сабуро приметил жёлтый флаг с иероглифом «чай» и поспешил к лавке. За тяжёлой одностворчатой дверью было темно. В нос Сабуро ударил тёплый спёртый воздух — похоже, что, экономя на отоплении, хозяева не спешили проветривать помещение. К двери был прикреплён толстый красный шнур с несколькими медными колокольчиками, зазвеневшими, когда японец открыл дверь. — Иду! Иду! — раздался голос из помещения. — О Небо! Отец, посетитель! Глаза Сабуро потихоньку привыкали к темноте, и тот различил тёмные стеллажи со связками чайных брикетов и завёрнутых в бумагу блинов, тускло блестевшие в темноте большие железные баки для зелёного и красного чая, ряд стеклянных банок на полке и низкий чайный столик со всеми принадлежностями для чая: чайником, чашкой гайвань, пиалками, доской и деревянным стаканчиком с инструментами: Рядом со столиком стояла железная жаровня на треноге. В такую клали раскалённые докрасна кирпичи, которые затем согревали помещение. Здесь кирпич, похоже, давно остыл. — Князь Яньло меня забери! Отец, ставь чайник! И принеси новый кирпич! — будто угадав мысли Сабуро, воскликнул тот же голос. Послышалось остервенелое чирканье спичкой, и в темноте загорелся огонёк керосиновой лампы. Лампу держал высокий бритый налысо парень в шубе нараспашку. Под шубой он был одет в ватные штаны, шерстяной свитер, а вокруг шеи был замотан шарф крупной вязки. Парень подкрутил фитиль, увеличив пламя, и, расплывшись в широкой гостеприимной улыбке, низко поклонился Сабуро. — Несу, несу! — раздался голос откуда-то сзади, — ах ты дьявол! Драная собака! За стеной раздался грохот кастрюль, возмущённый лай и поскуливание. — Кхм! — желая перевести внимание гостя на себя, прокашлялся молодой человек, услужливо заглядывая Сабуро в глаза. — Чего господин изволит? У нас есть зелёный чай, красный чай, жёлтый чай, белый чай, чай улун, чай пуэр, чай кудин… — Дьявол тебя побери, Чан Кайши! — донёсся голос отца юноши из-за стены. — Дай мне достать кирпич! Я кормил тебя сегодня! Парень осёкся на полуслове и комично оглянулся по сторонам. — Отец! — нервно взвизгнул парень. — Я просил не называть так собаку! — Но её так зовут! — возразил отец из-за стены. — Нет, её зовут Сяосяо! — умоляюще взглянув на японца, крикнул парень. — Нет, она откликается на Чан Кайши, — упрямо возразил отец. — Сидеть, Чан Кайши! Голос! Собака пару раз тявкнула. — Прошу… прошу меня простить… — запричитал молодой человек, согнувшись в низком поклоне, керосиновой лампой в полумраке показывая Сабуро на стул у столика и одновременно поближе пододвигая к стулу остывшую жаровню. — Отец не в своём уме. Он… он повредился. Он назвал собаку Чан Кайши. Главное, если бы это ещё был кобель, а это ведь сука! — В том всё и дело, — грозно заявил отец из-за стены. — Кобеля бы я не назвал Чан Кайши. Для пса это было бы оскорблением! — У нас есть чай, — заявил парень, поднимая чайник. — Какого вам угодно? — У кобеля, в отличие от Чан Кайши, есть яйца! — заорал отец из-за стены. Парень недовольно скрючился и взглянул на Сабуро совсем уж жалко, с видом «ну только, пожалуйста, не уходите сейчас».
-
-
-
— Дьявол тебя побери, Чан Кайши! — донёсся голос отца юноши из-за стены. — Дай мне достать кирпич! Я кормил тебя сегодня!
Парень осёкся на полуслове и комично оглянулся по сторонам.
— Отец! — нервно взвизгнул парень. — Я просил не называть так собаку!
— Но её так зовут! — возразил отец из-за стены.
— Нет, её зовут Сяосяо! — умоляюще взглянув на японца, крикнул парень.
— Нет, она откликается на Чан Кайши, — упрямо возразил отец. — Сидеть, Чан Кайши! Голос!
Собака пару раз тявкнула.
лол.
|
-
Ох, это концентрированный вин!)))))
-
Алкоголизм как бесконечный источник приключений :)
|
-
Подарки гангстера ) И как это выдержит наш неподкупный инспектор?
-
Ожидал чего угодно, но не этого.
-
|
-
Да хотя бы за песню. А вообще - за стиль.
Крут.
-
|
|
Падает снег
повсюду, до горизонта
падает снег
повсюду, до горизонта
словно стадо белых овец разбрелось по равнине
повсюду, до горизонта
падает снег
повсюду, до горизонта
падает с неба
повсюду, до горизонта
повсюду, до горизонта
повсюду, до горизонта
на кровлю храма
и ещё
на деревья в храмовой роще,
и ещё, и ещё,
ни на миг не переставая,
падает с неба,
падает снег -
и ещё на дорогу,
по которой шагают солдаты
и ещё
слышатся звуки горна,
и ещё
падает снег
всё ещё падает снег…
Накахара Тюя
Души недавно павших
Плачут на поле брани.
В тихой сижу печали,
Старчески одиноко.
Мрачно клубятся тучи
В сумеречном тумане,
Легких снежинок танец
Ветер принес с востока.
На пол черпак бросаю -
Нету вина в бочонке,
Еле краснеют угли -
Вот и сижу во мраке.
Непроходим, как прежде,
Путь до родной сторонки,
В воздухе, как Инь Хао,
Пальцем пишу я знаки.
Ду Фу
Бэйпин (бывш. Пекин), проспект Чжэнъянмэнь,
-5°С, сильный ветер, снег.Бэйпин замело снегом. Снег опускался на массивные средневековые стены, окружавшие город, крупными хлопьями падал на свинцовую гладь озера Бэйхай в центре города, валил на серую черепицу одноэтажных переулков-хутунов, стиснутых внутри городских стен, хрустел под ногами тысяч людей, толкущихся в грязных подворотнях, и неслышно падал на пустые и широкие каменные площади Запретного города, на морды каменных львов, всё охраняющих холодные и покинутые палаты императора, в которых давно никакого императора не было, и гулял только сквозняк по тёмным коридорам и комнатам.  Колокольная башня Бэйпина. Снято с Барабанной башни. На заднем плане — стены города. Таким же заброшенным, как и Запретный город, был и сам Бэйпин — нелепый средневековый реликт, в двадцатом веке всё зажатый между древними стенами, всё извещающий с вывесок над тяжёлыми воротами дворов о бывших когда-то за ними императорских министерствах, дворцах князей и сановников цинского двора, храмах, в которых в былые годы император возносил молитвы Небу, Земле, Солнцу и Луне, и только семенили ещё по улицам пожилые и ещё не очень пожилые женщины с уродливо деформированными ступнями ног, завёрнутые в маньчжурские ципао, целомудренно плотные, с высоким воротом и длинными рукавами (не то что шанхайские тряпочки с вырезом до бедра), и где-то там, в серых людских толпах, ходили и не нужные более никому чиновники-цзиньши, знавшие наизусть большие куски из Конфуция, и постаревшие и не соблазняющие более никого наложницы императора, и выкинутые из Запретного города императорские евнухи, никак не могущие услужить своему императору, проживавшему сейчас в праздности и комфорте на территории японской концессии в городе Тяньцзинь. Бэйпин был отчаянно провинциален, и провинциальность проявлялась даже в тех веяньях прогресса, что достигали стен древней императорской столицы: например, дребезжащего трамвая, ходившего кругом по узким улочкам Бэйпина, — было бы линий хотя бы пять, да хоть три даже, и совсем по-другому бы он смотрелся, а одна-единственная линия, запущенная в подражание бурно растущим Шанхаю и соседу Тяньцзиню, смотрелась жалко и убого, тем более, что трамвай, неспешно движущийся по проспекту Чжэнъянмэнь, то и дело вынужден был останавливаться перед запрудившими средней ширины улицу (проспектом называвшуюся из бахвальства прежних императоров) торговцами со своими товарами, часто навьюченными — особая примета Бэйпина — на верблюдов, приходящих из пустынь Внутренней Монголии. Нагружённый тюками верблюд, вставший на путях, возмущённо ревел и не давался своему хозяину, монголу в остроконечной чингисхановской шапке. Хозяин бил верблюда палкой, тянул за узды и кричал на животное по-монгольски. Кондуктор трамвая кричал на хозяина верблюда по-китайски, призывая того убираться к себе в Монголию вместе с чёртовой скотиной и своими чёртовыми товарами. Пассажиры обледенелого трамвая высовывались из открытых дверей, поддерживая пожелания кондуктора своими криками. Торговцы засахаренными ягодами на палочках, жаренным дофу, варёной кукурузой и лапшой, мёрзнущие по сторонам улицы, с интересом наблюдали за разворачивавшейся перебранкой. Лишь один пассажир стоял, взявшись за поручень, и не проявлял большого желания ввязываться в спор. Им был Сасаки Сабуро, японец из Циндао, инженер тамошнего пивоваренного завода, построенного немцами ещё в бытность Циндао базой кайзеровского военного флота, а затем по итогам Версальской конференции перешедшего вместе с городом в руки японцев. Город пришлось передать китайцам ещё в 1922-м году, слишком сильно было недовольство версальским решением в китайском обществе, но пивзавод японцы всё-таки оставили себе. Но вообще-то к пивзаводу Сасаки Сабуро имел то же отношение, что и к Циндао вообще: пять месяцев назад, сойдя с парохода из Кореи, он получил от доверенного лица документы на своё новое имя и жил в Циндао, не показавшись на пивзаводе ни разу и занимаясь делами иного свойства, а вот позавчера получил телеграмму, а прочитав, пошёл на вокзал и купил билет до Бэйпина. Полтора дня в купе первого класса, короткий отдых в гостинице рядом с вокзалом — и вот он здесь, в переполненном грязном трамвае, в метель застрявшем перед упрямым верблюдом. В Бэйпине у Сасаки Сабуро было дело. В переулке (хутуне) Жареных бобов (Чаодоу) неподалёку от Барабанной башни и бывшего императорского Министерства военно-морского флота жил старый евнух по имени Чжэнь Люй. Евнух жил в этом месте с 1924-го года, когда вместе с Пу И был изгнан из Запретного города, и все эти годы никому не был нужен. Но вот сейчас он понадобился Японии. Дело было, конечно, не в нём, а в низложенном императоре — молодом бездельнике, прожигающем жизнь на европейских вечеринках и балах в Тяньцзине, городе, как и Шанхай, поделённом на концессии великих держав, среди которых была и Япония. И именно Япония сейчас, после блистательной победы в Маньчжурии, была заинтересована в этом человеке, могущим стать императором маньчжурского государства, слухи об образовании которого достигли и ушей Сабуро. Чжэнь Люй не имел прямого отношения к Пу И. Но имел косвенное — он был преподавателем древнекитайского языка и классических книг младшему брату Пу И, Пу Цзе, двадцатипятилетнему молодому человеку, обучавшемуся сейчас в Японии. У Пу И не было детей, и ещё не созданному государству нужен был наследник, но Пу Цзе, кажется, колебался в этом вопросе. И именно сейчас ему, как никому ещё, нужна была поддержка и совет старого наставника. Задача Сабуро была проста — найти евнуха Чжэнь Люя и под любым предлогом доставить его на японскую территорию: консульство в Бэйпине или ином китайском городе, японскую концессию в расположенном в ста километрах Тяньцзине или на судно, следующее до Японии. Переправа на занятую японцами территорию Маньчжурии сейчас была слишком опасна и не рекомендовалась. У Сасаки при себе было пять тысяч американских долларов, которые он мог вручить Чжэнь Люю в качестве аванса за будущую службу (впрочем, в вопросе траты денег следовало быть бережливым — нищий евнух мог согласиться поехать в Японию и за сотню), и на текущие расходы. Юридическую безопасность японцу обеспечивал паспорт с видом на жительство в городе Циндао: после двадцать второго года там осталось достаточно японских колонистов, а война в Маньчжурии официально объявлена не была. Физическую безопасность обеспечивал немецкий «люгер» в кармане пальто. Это было кстати — всё ещё продолжалась война в Маньчжурии и развивался новый конфликт в Шанхае, и люди вокруг то и дело искоса поглядывали на японскую физиономию Сабуро. Внимания к себе привлекать однозначно не стоило, и Сабуро помалкивал, держась за поручень и глядя на улицу через заиндевевшее окно трамвая.  Улица, по которой едет трамвай. Впереди — ворота Чжэнъянмэнь. Погонщику, наконец, удалось отвести свою скотину с путей, и трамвай, возмущённо звеня и провожая монгола криками пассажиров, двинулся дальше, одни за другими пройдя через арки в воротах Чжэнъянмэнь, Цяньмэнь и Чжунхуамэнь и двинулся по широкому проезду Чжуншань-лу (улице Сунь Ятсена) к первым воротам Запретного города, Тяньаньмэнь.  Собственно, путь, по которому едет трамвай. Снято с ворот Цяньмэнь. На переднем плане — ворота Чжунхуамэнь, на заднем — те самые Тяньаньмэнь.
-
Вот почему я так не умею?)))
|
-
-
Николенька, ты прекрасен).
|
-
Кстати, странно — Кроули же был тот, который в комбинезоне. Братья, выходит.
Молодец, что заметил, да.
|
-
Впрочем, думаю, что отказываться от такого слова как «лаовай» нам в игре всё же не стоит.
Конечно оставить! Лаовай-ловкач же!)))
-
про "лаоваев" очень полезно знать, ага. да и вообще, в целом.
занятно.
|
25.10.1935 19:23
Шанхай, Французская концессия,
Рю кардинал Мерсье, Французский спортивный клубКазалось, что здесь всем было наплевать на то, что происходило в Шанхае в последние дни. Казалось, что всем здесь было наплевать и на агрессивные намерения японского флота, и на кроваво разогнанную демонстрацию на Бунде, и на угрозу войны, а единственным, на что не было наплевать стекающемуся к перекрёстку рю кардинал Мерьсе и рут Бурже, был только тот факт, что начинался вечер пятницы, и ещё две ночи пьяного угара было впереди у тех, кто собирался проматывать деньги на шанхайских улицах, и у тех, кто собирался там же деньги зарабатывать. Выглядывая из-под отороченного жёлтой бахромой полога коляски рикши, мерно трусящего под мелким дождём по улицам Французской концессии, Лян Чуньгэ видела сверкающие огнём окон и витрин, украшенные мигающими и переливающимися неоновыми лентами громады недавно построенных многоэтажных зданий, видела толпу людей под зонтами у парадного входа театра «Лицей», видела, как обгоняют коляску рикши блестящие под дождём большие автомобили, ярко сверкающие фарами, и переполненные двухэтажные автобусы, обклеенные кричащей рекламой сигарет и зубной пасты,  * видела стоящих на тротуарах тележки быстрой еды чо-чо, около которых толпились закончившие работу голодные шанхайцы, видела распахнутые двери баров и иностранцев в шляпах, пропускающих внутрь дам в цветастых ципао, для которых рабочий день только начинался. «Приехали, сяоцзе», объявил рикша, останавливаясь и снимая мятый картуз, чтобы утереть капли дождя со смуглого лица. Действительно, приехали — рикша остановился под широким козырьком парадного входа, так что Джулии и зонтика открывать не пришлось. Сверившись со списком приглашённых, швейцар пропустил девушку внутрь и указал, что ресторан находится на втором этаже. Посетителей в этот пятничный вечер во Французском спортивном клубе было много: сновали от стойки к вешалкам гардеробщики, принимая пальто и шляпы, из открытых дверей расположенного на первом этаже бального зала доносилось весёлое завывание тромбона, поднимались по широкой лестнице в ресторан пары, и слышалась повсюду французская, английская и китайская речь (известный своими либеральными взглядами Французский спортивный клуб не только разрешал вход китайцам, но и принимал их в члены — в отличие от консервативных британских клубов, например), и всем, похоже, и здесь наплевать было на то, что происходит в городе. А в городе-то действительно что-то происходило: вернувшись с Гуанфу-лу в редакцию, чтобы подготовить статью, Джулия слышала от вернувшегося из Янцзыпу Сильверстоуна о забастовке, которую объявили две тамошние фабрики. Ситуация усложнялась ещё и тем, что на завтра была намечена демонстрация протеста против планов Гонконгско-Шанхайского банка в отношении разрушенных домов в Хункоу (Джулия освещала посвящённую тому же демонстрацию 23-го числа), и, учитывая близость районов Хункоу и Янцзыпу, она могла привлечь и бастующий пролетариат. Но здесь, похоже, никто о Янцзыпу не думал: ресторан, выходящий окнами на пустой в этот дождливый вечер сквер Французского клуба, был заполнен посетителями, и, не зарезервируй капитан Жерарден столик, место найти было бы сложно. Пройдя же к указанному официантом столику, девушка обнаружила, что капитана пока на месте нет. Заказав чашку чая (которая, кстати, стоила тут целый доллар), девушка принялась поджидать своего визави, наблюдая за залом и посетителями ресторана. «Господа! Я предлагаю тост!», донёсся до Джулии звонкий французский голос, доносящийся от соседнего столика. Украдкой взглянув в ту сторону, девушка увидела нескольких молодых шанхайлэндеров, компанию которым составили двое азиатов, судя по чертам лица — японцев. Один из шанхайлэндеров, высокий блондин в новомодном тёмно-синем костюме, встал из-за стола, поднимая бокал с шампанским. «Предлагаю выпить за мир и… — молодой человек важно поднял палец, — и за тех людей, благодаря которым мы имеем возможность весело проводить здесь время, а не… судорожно паковать вещи и бежать на пристань в поисках корабля до Европы!» Спутники молодого человека согласно рассмеялись и подняли бокалы. «За сдержанность и благоразумие наших японских друзей!» — подытожил молодой человек. Прождать Жерардена пришлось около двадцати минут, и Джулия начала было уже подумывать, а не забыл ли француз и вовсе о встрече, когда капитан наконец-таки изволил появиться. Жерарден оказался невысоким мужчиной лет сорока-пятидесяти с ощутимо выпирающим брюшком, дряблыми, обвисающими щеками, густыми чёрными усами и тщательно забранной на пробор набриолиненной причёской. — Мисс Лян? — по-английски обратился к девушке Жерарден. — Очень рад знакомству. — Француз нагнулся, символически прикоснувшись усами к пальцам руки Джулии, и занял место за столиком. — Рад видеть, что дождь вас не остановил. Ооо, вы говорите по-французски, и как хорошо говорите! — удивился Марсель, услышав приветственные слова Джулии, сказанные на его родном языке**. — Чертовски приятно видеть, что у нас в Шанхае есть такие образованные журналистки. Всё-таки не зря наш город называют Парижем Востока, не зря! Вы жили во Франции?
-
Роковая Долгожданная встреча!!
-
Китайцы же, однако, клали с прибором на западную политкорректность, и, поменяв английское имя, оставили оригинальное китайское — 黑人, что переводится просто «негр». Вот так вот, зубная паста «Негр», каково, а?
Сейчас Darlie остаётся одним из самых популярных брендов зубной пасты в Китае, и я, разумеется, чищу зубы именно ей :) Нет, ну правда, имея возможность покупать зубную пасту, которая появилась в Шанхае тридцатых, неужели я буду покупать унылый «Колгейт»? Только Darlie, только хардкор!
Вот он, Шанхай 1935 каким мы его любим!)))
|
-
Спасибо, что не стал затягивать с ответом. Ценю.
|
|
Чуньгэ с интересом следила за вспыхнувшей легкой перепалкой. оказывается, повар - её однофамилец. Жаль, что это ничем не может помочь в сборе информации. — Уборщик! О, как интересно, — Джулия полагала, что незаметные уборщики знают о делах компании порой не меньше начальства, а если вести речь о сплетнях, то это как раз те люди, что ей нужны. — И девушка! Господин Лян, а вы не могли бы подсказать, как бы мне встретиться с девушкой? — Хм... — озадаченно обернулся к Джулии повар. — А чего с ней встречаться-то? Зачем она вам, сяоцзе? — Мне бы поговорить насчет работы. — Это была почти правда, ведь интервью — это тоже работа. — Мне неловко обращаться сразу к начальству, боюсь, что выгонят и обругают. — И это тоже была правда, Чуньгэ по возможности избегала прямого вранья в сборе информации. — Насчёт какой работы? — повар Лян выглядел ещё более озадаченным. — Насчёт какой работы вы с ней говорить будете? Она в фирме не работает, что вы, — повар хохотнул. — О, я, наверное, что-то не поняла. — Джулия смутилась. — Я думала, она там убирает и может мне что-то подсказать. — Она да, она убирает... — хмыкнул повар и замялся, подбирая слова. — Как бы это сказать… в общем, она там в подвале живёт, потому что ей негде. Знаете же, сколько сейчас в Шанхай приезжает людей? И я сам вот десять лет только как тут. А жильё, тоже знаете, дорогое. — Жильё вообще кошмар, — поспешили согласиться с поваром грузчики, уже доевшие, но уходить не спешившие и с увлечением наблюдавшие за беседой. — Знаю, знаю, дорогое нет слов. — Чуньгэ сокрушенно покачала головой. — Ничего в том плохого нет, что она живет в подвале. В наше время каждый выкручивается, как может. Я понимаю, что она не сможет мне составить протекцию, мне бы просто поговорить. — Хм… — повар задумчиво опустил голову и поджал губы. — Поговорить, значит? Что-то всем в последнее время «Тяньфан» чёртов интересен, я вижу. Двадцать долларов, сяоцзе. Джулия чуть не поперхнулась чаем, услышав сумму. — Чересчур дорого для меня, - Она покачала головой. — Мой кошелек не готов выдерживать такие траты. Что в этом «Тяньфане» такого интересного, что люди готовы столько платить? — как бы про себя пробормотала она, пожимая плечами. — Контора как контора, и платят наверняка как все, жалкие несколько фэней. — Не мне, а ей деньги-то, — чуть с укоризненной интонацией пояснил повар. — Что там интересного, в «Тяньфане» я не знаю и знать не хочу. И кому про «Тяньфан» знать хочется, мне тоже неинтересно. Пятнадцать долларов дайте хоть. Ребёнок же у ней. Чуньгэ заколебалась. Такая большая сумма, а никто ей не эти расходы не вернет. Сама она не могла себе позволить такой роскоши — раздавать нуждающимся деньги. Зато она могла попробовать её пристроить в Шанхай-таймс… — Неужели я выгляжу такой богачкой? — Джулия развела руками. — Знаете... ну, я могу ей подарить долларов 10, хоть это и тяжело для меня. Но я лучше ей дам их сама. — Ладно, десять так десять, — поколебавшись, согласился повар. — Конечно, сами и дадите. Я про деньги заговорил потому, что она сама попросить не догадается, дура. Пойдёмте со мной. Боэр, — обернулся он к сыну, — проследи тут за всем. — Долго только не задерживайтесь, — с раздражённой интонацией бросил парень-подавальщик, с тяжёлым стуком шлёпая о доску скрученный в толстую косицу длинный кусок теста. — Чё, доели уже? — по-хозяйски обернулся он к грузчикам. — Сейчас, сейчас… — закивали грузчики. Джулия вместе с поваром вышли из едальни в подворотню, откуда проследовали к примеченному девушкой до того дверному проёму чёрного хода. За наборной ширмой было темно: лампочка в плафоне под беленным потолком не горела, и помещение освещалось только тусклым светом из подворотни. Здесь оказалась уходящая вверх и вниз неширокая лестница с красивыми чугунными перилами и тёмный коридор, уходящий куда-то вглубь здания и метрах в пяти оканчивающийся деревянной двухстворчатой дверью с приколотым кнопками листом бумаги. На листе было что-то написано, но Джулия не разглядела, так как, во-первых, здесь было совсем темно, а во-вторых, повар сразу же повёл девушку вниз по лестнице. Спустившись на подвальный этаж, повар остановился перед обшарпанной деревянной дверью и постучал. — Сяолинь, открой. Сяолинь, открой, это я, — несколько раз повторил он. Наконец, дверь приоткрылась, и в проёме Джулия увидела молодую женщину со смуглым по-крестьянски широкощёким лицом, с настороженно-напуганным выражением выглядывавшую наружу. Сяолинь можно было бы даже назвать симпатичной, если бы не очень бедная одежда — одета она была в бесформенные ватные штаны и пару старых кофт, одну на другую. Поверх Сяолинь повязала серую шаль и забрала волосы под дешёвый цветастый платок. — Тихо!.. — шёпотом обратилась она к повару, прикладывая палец к губам. — Сяоюн спит. — Девушка говорила с отчётливым акцентом уроженки провинции Цзянси в южном Китае, откуда в Шанхай за счастьем перебиралось множество китайцев. Повар кивнул. Сяолинь приоткрыла дверь шире, и Джулии в лицо ударил кисло-затхлый запах сырого неотапливаемого помещения. За спиной Сяолинь было темно — были видны какие-то тряпки, наваленные в кучу у стены, и деревянный ящик, на котором стояла миска с палочками. На внутренней стороне двери кнопками был приколота картина няньхуа, привычный элемент оформления китайских домов — покупаемый на китайский новый год плакат с выраженными в символической форме пожеланиями счастья, здоровья и богатства: — С тобой хочет поговорить вот эта девушка, — понизив голос, повар кивнул на Джулию. — Поговорить про "Тяньфан". Она даст тебе десять долларов. Сяоцзе, — обернулся он к Джулии, — я уже говорил, что не знаю и не хочу знать, зачем вы сюда пришли с расспросами, но я вижу, что вы барышня порядочная, так что договоримся, что вы не будете никому говорить, кто и как вам про всё это рассказал, хорошо, а мы с Сяолинь ни слова про вас. Ни Сяолинь, ни мне проблемы с «Тяньфаном» не нужны. Сяолинь настороженно переводила взгляд с повара на Джулию, видимо, пока не умея взять в толк, зачем она понадобилась этой сяоцзе.
-
— Хм… — повар задумчиво опустил голову и поджал губы. — Поговорить, значит? Что-то всем в последнее время «Тяньфан» чёртов интересен, я вижу. Двадцать долларов, сяоцзе.
Нормально так))).
|
Захолодело всё внутри Милоша, как услышал он, куда собирается вести их Фостер этот, налились руки свинцовой тяжестью, глухо и сильно ударила кровь в виски, ноги, и те чуть не подкосились.
Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Ай-я-яй. Вляпался ты, Милош, вляпался по самые уши, совсем всё плохо, ой, плохо всё, плохо как. Не просто на какое-то дело собрал их Фостер, чёрт его подери, окаянную голову, не разделаться там с кем-нибудь напакостившим, не ограбить даже дилижанс какой-нибудь на дороге, а собирается он вести их грабить банк, да в городе, да там ещё и солдат куча, и охранников, и горожан. Это ж, даже если выгорит дело, розыск и виселица. Ох, плохо дело, плохо дело-то как…
А уж как услышал Милош, что его, «поляка» то есть (других поляков-то нет) собираются отправить со скрипачом этим и ещё какими-то парнями на «отвлекающий маневр», тут-то совсем Милошу и поплохело. Хорошенькое дельце, значит — отвлекай знай на себя всех солдат, охранников да горожан, пока подельники на другой стороне города банк грабить будут. Вчетвером-то. Ох, беда. Ох, конец всему. Ох, дела творятся…
Вот и стоял тихонько, нос повесив, да вздыхал, охо-хо, дела-то какие, батюшки-матушки, беда-беда. Беда-беда-беда. Невыносимо жалко было себя Милошу, что вот пристрелят его в этом Де-Мойне и даже никто не поплачет о нём и имени на могиле-то никто не напишет, а даже если и напишут, то неправильно, фамилия ведь длинная. Ковальскому-то Милош вот написал, а Милошу кто? Беда-беда. Ох, судьба. Заскулить захотелось, тихонечко и протяжно, и с трудом удержался Милош. Эх, Милош-Милош, куда ты себя втянул, куда?
— Патрон бы мне… — поднял поляк глаза на отправляющегося в город ирландца. — Вот ему, — кивнул на стоящий у опоры дома карабин. — Штук… тридцать хоть. Мало вот у меня.
Хотелось верить, что патроны пригодятся до последнего.
-
Настоящий человек этот Громбчевски, живой. Не всем быть отъявленными подонками и головорезами.
|
Ну, и без того Милошу уже ясно было, что в историю он вляпался неприятную, что придётся идти против закона теперешней его новой родины, а новая родина тех, кто нарушает её законы, не любила и наказывала сурово, уж даже не суровей ли, чем покинутая и ненавидимая Россия. Там ссылали в Сибирь в кандалах, а здесь и Сибири-то нет никакой, чтобы ссылать, — скорый суд и на виселицу, и охнуть не успеешь, а уже болтаешься на пеньковой верёвке. Да или просто пристрелит маршал какого-нибудь захолустного городка, и поминай как звали, только некому и поминать. Охо-хо, Милош-Милош…
Не то чтобы это был первый раз, когда Милошу приходилось нарушать американские законы и вообще влезать в какие-то мутные истории, но, во-первых, это был первый раз, когда не было рядом Ковальского, который, Милош знал, всегда бы прикрыл его, вынес бы раненого и не бросил бы. Только карабин остался от Ковальского, всякая утварь да одеяло.
А во-вторых… во-вторых, Милошу особенно неприятна и противна была мысль, что пристрелят его, если пристрелят, или повесят, если повесят, — то по праву и справедливо, и вот это-то было особенно погано. В шестьдесят третьем году, ещё в Польше, Милошу тоже было страшно, до дрожи в руках и коленях жутко, но совсем по-другому — всё-таки и юнец он тогда ещё был, и не знал, каково это — когда штуцерная пуля русского пехотинца со ста саженей попадает в бедро, и много чего он тогда ещё о жизни не знал, но знал, что сражается вместе с тысячами таких же как он — за правое дело, во имя Бога и за нашу и вашу свободу. А сейчас — только потому, что во внутреннем кармане жилета глухо и грустно побрякивают друг о друга последних шесть тяжёлых серебряных долларов. На них, кстати, тоже написано «Свобода», только нет теперь речи о «нашей и вашей», а лишь о том, что было вашим, а стало нашим. И о Боге, уж конечно, речи теперь тоже нет.
— Дождались… — повторил Милош вслед за Эллиотом и поднял взгляд на приближающихся всадников. Он был рад возможности не продолжать разговор, а ещё больше рад тому, что мучительное ожидание заканчивается и теперь наконец-то он узнает, зачем он здесь понадобился.
-
что пристрелят его, если пристрелят, или повесят, если повесят, — то по праву и справедливо, и вот это-то было особенно погано.
В десятку!
|
Милош посиживал на крыльце дома с жестяной кружкой кофе в руках да цигаркой-самокруткой в зубах да грустно и безучастно поглядывал куда-то вдаль, на холмы вдалеке да на облака на небе. Последний раз Милош брился дня три-четыре назад, и рожа его польская уже основательно позаросла рыжей жёсткой щетиной. В сумке была бритва, и мыло было, и зеркальце тоже, но не хотелось бриться, да и вообще ничего особенно не хотелось делать. Это чувство было непохоже на то расслабленное ленивое состояние, в котором человек пребывает после хорошо выполненной тяжёлой работы: никакой тяжёлой работой Милош не занимался с самой Дакоты; нет, это было безнадёжное бессилье, похожее на слабость при болезни.
Третий день уже Милош вот так вот проводил: ел вместе со всеми консервы из банок (хорошие консервы, мясцо), пил кофе из кофейника машиниста, курил цигарки да спал на полу, укрываясь своими двумя одеялами. По крайней мере, под двумя одеялами было тепло, а так ведь и осень же скоро. Эхе-хе.
Милош скосился на карабин, прислонённый к подпорке навеса над крыльцом. Хороший карабин, куда лучше его собственного «йеллоу боя», ещё с самого Сейнт-Хедвига носимого с собой. Этот карабин Ковальский купил в Сан-Франциско, когда они с ним и ещё одним парнем, Новаком, ехали в Орегон. Его прежнее ружьё тогда поломалось, и Ковальский выложил все деньги, что у него были, да занял у Милоша и Новака (как же Новака звали-то? Станислав, кажется? Нет, Томаш же.), но купил себе новую, сверкающую тогда и блестящую, пушку. Милош всё подтрунивал тогда над ним, смеялся, магнат-то какой нашёлся, поглядите-ка на богатея, а сам-то завидовал, глядя на свою обшарпанную винтовку. Ох, завидовал Милош, и даже сам хотел было на что-нибудь новое поменять свой «йеллоу бой», да только не срослось у них в Орегоне, и денег не было, а те, что были, пропивали они с Ковальским…
Милош усмехнулся, покачав головой. И всё-таки весёлые деньки были в Орегоне, если так-то вспомнить. И золото на приисках какое-никакое было, и пьянки, и гулянки, и девки, и стрельба, и два поляка-бедака (Новак уже тогда свалил куда-то) посередине всего этого безумия. Только так и выдержали, что вместе были. Эхе-хе. Ковальский-Ковальский. Янек-Янек, что ж ты так. Милош снова глянул на карабин. Ну вот, завидовал-завидовал Ковальскому, а теперь и карабин его получил. Только вот не греет что-то никак.
Рядом какой-то парень забренчал на гитаре, а другой, с которым Милош сюда приехал, всё клеил свою скрипку, сидя неподалёку от Милоша. Надо же, оркестр прямо собирается. Охо-хо, оркестр-оркестр. Соберут нас всех и отправят в оперу, музыку играть. Музыку-музыку, да-да-да.
— Что, опять заломалась? — сочувственно поинтересовался Милош у скрипача, обернувшись к нему. Всё клеит и клеит, клеит и клеит же, третий день.
-
Интересный товарищ, вроде и игра только началась, постов всего ничего, а уже и подход к делу заметен, и языковые трудности проявились, и на прошлые невзгоды, Милошем со товарищи перенесенные намеки есть.
Ну и в довесок, за это описание :)
Видавший виды,[хорошо чищенный и смазанный стетсон
-
Радует с первых строк!))))
-
|
Ду Юэшэн, не меняя неторопливого шага, задержал ничего не выражающий взгляд на Остине, а затем чуть качнул подбородком ему в ответ. Ван Ган и Чжао Яобан в это время склонили головы ещё ниже, а Ван Ган даже сделал ещё один шаг вперёд и вполголоса, не поднимая глаз, обратился к Ду Юэшэну:
— Господин Ду!.. имею честь сообщить вам, что перед собой вы видите…
Кого Ду Юэшэн видит перед собой, Ван Ган сообщить не успел, так как в этот самый момент Ду Юэшэн отвлёкся, обернувшись в другую сторону и потеряв к Остину и стоявшим рядом китайцам всякий интерес. Точнее сказать, Ду Юэшэна отвлекли — из толпы выделилась и без особенных церемоний к гангстеру направилась та самая мисс Джонсон, некрасивая мулатка с цыганскими кольцами в ушах и аляповатыми браслетами на руках. Разговаривавший с ней молодой прилизанный европеец, работавший, по всей видимости, на Ду, бросился было за ней, но нужды останавливать мисс Джонсон не было: не доходя трёх шагов до гангстера журналистка остановилась перед одним из телохранителей, заступившим ей дорогу.
Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы обратить на себя внимание Ду.
— Вы что-то хотели, сяоцзе? — неожиданно вежливо обратился Ду к даме, по-китайски, разумеется. Голос у Ду был хрипловатый, надтреснутый.
— Вы что-то хотели, мисс? — быстро перевёл на английский сопровождавший мисс Джонсон европеец.
— Да, мистер Юэшэн (мисс Джонсон, похоже, не до конца разобралась в том, на какое место азиаты ставят имя, а на какое — фамилию), меня зовут Селина Джонсон, и моё издание, «Ньюсвик», договаривалось с вами об интервью… — ответила журналистка.
— Она журналистка из Америки, — творчески перевёл речь мисс Джонсон на китайский тот же европеец. По-китайски он говорил, надо отметить, куда лучше Остина.
Ду Юэшэн же с любопытством оглядывал мисс Джонсон. Непонятно, что его более заинтересовало: экстравагантный вид ли дамы, её дерзкое (вдвойне дерзкое!) поведение или всё сразу, но настроен гангстер, похоже, был великодушно, разглядывая журналистку как диковинного зверька — надо же, какая потешная, и разговаривать ещё умеет. Ду растянул губы в широкой улыбке, обнажив очень жёлтые зубы, кивнул и сделал жест ладонью, идите, мол, за мной.
— Скажите, сяоцзе, в Америке так принято? — обернулся он к мисс Джонсон. Семенящий рядом с журналисткой шанхайлэндер перевёл сказанное, на этот раз без купюр.
— Простите, если я как-то оскорбила вас своим поведением… — поспешила ответить мисс Джонсон.
— Она очень сожалеет о своей дерзости, — перевёл лаовай.
— Нет-нет, что вы… разные места, разные обычаи… — всё так же великодушно ответил Ду Юэшэн и, заложив руки за спину, продолжил вышагивать по залу. Вся свита следовала за ним. Воспользовавшись паузой, шанхайлэндер-переводчик наклонился к уху мисс Джонсон и что-то сердито ей забормотал. Мисс Джонсон слушала переводчика с безразличием, косясь только на Ду Юэшэна. Семенящая о правую руку Ду госпожа Ху всё с тем же скучающим выражением лица осматривала зал. Король шанхайского преступного мира со свитой удалялись от Остина и компании.
— Вот чёртова сука, — покачал головой Ван Ган, нервно потирая руки и обращаясь к собеседникам. — Он ведь хотел с нами поговорить!
Тао Чжуси молчал, недовольно поджав губы. Не особо воодушевлённым выглядел и Чжао Яобан. А с другой стороны зала на Остина глядел старший инспектор Таунсенд. Сложно было разобрать выражение лица особиста отсюда, но почему-то казалось, что глядеть он должен бы с ироничным выражением. Встретившись с Остином глазами, Таунсенд ещё некоторое время задержал взгляд, а затем обернулся к своему собеседнику — лысеющему европейцу в белом пиджаке и с импозантными тараканьими усами.
-
Несмотря на то, что сцена получилась долгой, она доставляет не меньше, чем иная перестрелка. Особенно, конечно, после того, как мы сами посмотрели на этот особнячок!)))
|
24.10.1935 12:36
Восточно-китайское море
близ порта Усун в 30 км от Шанхая
Ничего не произошло. Лиза, Салли и Саймон вместе спустились с Виктория-пик, побродили ещё по городу и вернулись на «Конте Верде», остановившись в ожидании отплытия на палубе.
Застучали в глубине машинного отделения громадные паровые турбины, повалил чёрный дым из труб, тяжело прозвучал гудок, разнося низкий и протяжный звук над вечерней Виктория-харбор, сноровисто работали итальянские матросы, поднимая трап на борт, а в увеличивающемся просвете между чёрной стеной борта и серо-зелёным бетонным пирсом уже бурлила и клокотала вода, и ярко зажигались освещение палуб и цепочки иллюминаторов лайнера, и заиграл оркестр в римско-помпейском салоне первого класса, и Лиза со своими новыми знакомыми стояла у фальшборта и смотрела, как удаляется мерцающий тысячами огоньков город, облепивший склоны гор на острове, и, пересекая Виктория-харбор, пыхтит низкобортный паровой паром с «Юнион Джеком» на корме, и ползёт, отставая, параллельным курсом джонка с перепончатым парусом, и суетятся на ней маленькие отсюда фигурки китайцев.
— Отличный город Гонконг… — задумчиво произнёс Саймон по-английски, опёршись о перила.
— Не то что Шанхай, — мрачно добавила Салли. Саймон медленно обернулся и непонимающе посмотрел на жену. Салли безразлично пожала плечами и повернулась к перилам спиной, обернувшись к корме, за которой медленно опускалось к гребню гор острова Гонконг по-южному крупное и красное тропическое солнце. А Саймон перегнулся через перила и уставился на нижние палубы, где, как отсюда, сверху, было видно, тоже собирались люди — пассажиры второго классса, и тоже, прикладывая руку козырьком к глазам, смотрели на удаляющийся город.
…и лайнер двинулся дальше.
Утром двадцать третьего Салли и Саймон опоздали к завтраку, но появились — и Салли не собиралась умирать и, напротив, выглядела такой же здоровой, как и до того, и Саймон был, как обычно, весел и что-то там рассказывал про Шанхай, Нанкин (который теперь у китайцев был столицей) и Пекин (который у китайцев столицей быть перестал и теперь назывался Бэйпин), и даже удостоился ледяного взгляда со стороны фрау Шёдель. Фрау Шёдель мучилась мигренью, и ей не было интересно ни про Шанхай, ни про Нанкин, ни про Бэйпин. Она вообще в Японию плыла. У них с мужем было свадебное путешествие.
Пассажиров за завтраком теперь вообще собралось меньше, чем до Гонконга — английская колония служила для многих целью путешествия или пересадочным пунктом на пути дальше по Азии: так, сошёл с борта пианист-любитель, португалец Мендеш, и итальянец-аристократ ди Мария со своей пергидролевой американской невестой не преминули обменяться между собой репликами в адрес португальского бизнесмена. Все слышали, как они называют Мендеша отвратительным плебеем, так как говорили они между собой по-английски. Пергидролевая мисс Драгински не знала иностранных языков. «Правда говорят, что китайский язык очень сложный?» — осведомилась она у Саймона, видимо, поддержания разговора ради. «О нет, что вы, — любезно откликнулся китаец, — он очень простой. Вообразите: если вы захотите выучить наш язык, вам даже не придётся учить алфавита». Мисс Драгински не поняла насмешки, а синьор ди Мария понял и неприязненно поглядел на Саймона, видимо, выбирая, каким бы словом назвать теперь его. Всё-таки за три недели круиза спутники начали основательно раздражать друг друга.
Вечером матросы разобрали бассейн, в котором всё равно никто уже не купался, и вовремя разобрали: выйдя на палубу утром последнего дня своего путешествия, Лиза вместо приевшегося уже палящего солнца увидела пасмурное небо до горизонта и поёжилась от морского ветра, ставшего вдруг непривычно холодным. «Наш лайнер движется на север, — пояснил за завтраком капитан, — и из субтропиков мы уже перешли в область умеренного климата. В Шанхае и Йокогаме сейчас не более пятнадцати градусов тепла и, кстати, обещают дождь».
И на это утро Салли тоже осталась жива, появившись за завтраком, как и всегда, вместе с мужем. «Мы остановимся на Бунде, господин капитан?» — старательно выговаривая английские слова, поинтересовалась она у капитана. «Нет, миссис Гэ, — покачал головой капитан, — к Бунду мы с нашим лайнером не подходим, но мы пристанем к одному из пирсов близ центра города, откуда вы сможете добраться до Бунда на катере или сойти в город непосредственно там». «Спасибо, господин капитан», — ответила Салли.
Ланч прошёл за разговорами о Шанхае, где «Конте Верде» останавливался на несколько часов. Пассажиры интересовались у Саймона, как у шанхайца, что они успеют посмотреть за это короткое время в городе. «Ох, господа! — улыбаясь, выставлял Саймон ладони перед собой, — не сочтите за нежелание вам помочь… но я не был в Шанхае три года, а, вы должны понять, Шанхай — это полный антипод вечного Рима. Шанхай сейчас меняется так, что я боюсь, что сам-то его не узнаю и заблужусь в новых улицах! Ну, в любом случае, я всё ещё считаю, что Бунд по-прежнему остаётся главной набережной города, а Нанкин-роад — его центральной улицей, так что советовал бы отправиться вам туда. Но если Нанкин-роад за три года превратилась в пыльную подворотню, а высотными зданиями застроили портовый район Пудун — я ничуть не удивлюсь! И я вас предупредил!»
Смуглое лицо Саймона застыло в довольной своей очередной шуткой улыбке, когда на пороге ресторана, где пассажиры собрались к ланчу, появился один из офицеров лайнера.
— Господа! — обратился он к собравшимся за обеденным столом. — Господа, минуточку внимания! У меня для вас важное объявление. Дело в том, что по объективным причинам наш лайнер не может подойти к пристани в центре Шанхая, как планировалось до того. Мы пристанем в городе Усун в двадцати милях от Шанхая, и сходящие на берег пассажиры будут переправлены в город катером. Следующим же до Йокогамы пассажирам настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения города.
Разумеется, ресторан тут же наполнился возгласами «Почему?!», «Что случилось?!», «Какие такие причины?!»
— Господа, — озадаченно повторил офицер. — Господа, в городе сложилась опасная ситуация. По реке в центр города поднялся японский крейсер, угрожающий Международному сеттльменту в центре Шанхая. Всё остаётся крайне неопределенно и неясно, поэтому мы постараемся до минимума сократить нашу стоянку в Усуне и настоятельно просим не сходить на берег пассажиров, направляющихся в Японию.
Саймон досадливо бросил вилку на стол.
— Браво, — едко сказал он, комкая в ладони салфетку. — Браво! Уезжали из Китая, была война, уезжали из Италии, началась война, приезжаем в Китай — и тут того и гляди война начнётся! Мы с тобой самые везучие люди в мире, Салли! — нервно обратился он к жене. А Салли неподвижно сидела рядом с мужем, непонимающе переводя взгляд то на офицера, то на Саймона, то на не отстающих от офицера с расспросами пассажиров. Похоже, она плохо поняла всё сказанное.
— Скажите, офицер! — прорезался через гвалт звонкий голос пергидролевой мисс Драгински. — Скажите, офицер! А у японцев есть подлодки?
-
— Скажите, офицер! — прорезался через гвалт звонкий голос пергидролевой мисс Драгински. — Скажите, офицер! А у японцев есть подлодки?
Все эти люди, безусловно, получились одновременно и живыми, и не такими унылыми, как наверняка были бы в действительности))).
|
-
Бедный Ван Ган. Как ему стыдно и за себя, и за Ланьчжоу))).
|
-
Ну, с крейсерами, как говорится, close enough. Это тебе еще очень повезло, что нашел такой сайт - обычно такая инфа очень трудно находится. Еще раз спасибо за настолько добросовестную работу над модулем.
-
|
-
Блин, откуда ты такие тонкости знаешь???
Хорошо на диком западе - там или стейк с картошкой или бифштекс с бобами))). А тут - стопиццот блюд, и еще надо объяснить, где что).
Или ты это все тоже из путеводителя брал?
-
|
— Конечно, нравится! — энергично кивнула маленькая Мэй. — А тебе нравится у нас в Шанхае? («у нас в Шанхае, во как!») Наверное, лучше, чем в Ганьсу? Папа, а… а Си Ши не хочет брать меня в кино!
— Не хочу и не буду, — решительно сказала Си Ши, с милого круглого лица которой, впрочем, не сходила улыбка. Си Ши вообще была хороша собой — точёная фигурка, тонкие аккуратно выщипанные и подведённые брови, модно завитые туго уложенные смоляные пряди волос до плеч, перехваченные на лбу заколкой с кокетливой бабочкой. Сама Си Ши была из провинции Аньхой, но в Шанхае жила уже три года (приехала, получается как раз после приснопамятной войны), работала машинисткой в какой-то конторе и давно уже приспособилась к шанхайской жизни, к красивой одежде и причёскам и современным, с лёгким западным флёром, манерам, так что только выговором своим аньхойским и незнанием шанхайского диалекта выдавала происхождение из провинции, ну а если молчала, так и вовсе не отличить её было от коренной шанхайки. — Капитан Фэй, ваша дочь без ума от этой Жуань Линъюй!
Фэй Чжан не знал, кто такая Жуань Линъюй. Он где-то слышал это имя, но не интересовался.
— Жуань Линъюй! — недоуменно повторила Си Ши, увидев непонимание в глазах капитана.
— Жуань Линъюй, папа! — ещё более недоуменно сказала Фэй Мэй. — Ты что, не знаешь Жуань Линъюй?
Откуда было Фэй Чжану знать какую-то Жуань Линъюй. Вспомнился лейтенант по фамилии Жуань, ещё со времён погони за красными через весь Китай. Этот лейтенант был единственный носитель этой фамилии, которого Фэй Чжан знал. Лейтенант Жуань был чёртовым пройдохой, объедавшим своих бойцов. Они у него постоянно ходили в рванье, потому что у него были связи с интендантами и он как-то договаривался по поводу продажи обмундирования на сторону. Навряд ли он был родственник этой Жуань Линъюй. Он был ранен где-то в провинции Гуанси, увезён в госпиталь, а потом в часть не вернулся. Чёрт его знает, может, и сдох.
— ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ ЖУАНЬ ЛИНЪЮЙ??? — ошарашенно выпалила Фэй Мэй, во все глаза таращась на отца. — Это же самая великая актриса мира!
— Не слушайте её, капитан Фэй! — перебила Мэй Си Ши. — Вы что, правда, ничего не слышали? Это актриса. Она совершила самоубийство.
— В марте! — перебила Си Ши Мэй.
— Там очень мутная история… — начала было Си Ши.
— Её довели до смерти бандиты! — снова перебила Си Ши Мэй. — Зелёная банда!
Вот про Зелёную банду Фэй Чжан слышал. Это были торговцы опиумом, оружием и людьми, крышевавшие чуть ли не весь шанхайский бизнес и распространявшие своё влияние далеко за пределы этих сфер деятельности. Глава Зелёной банды, Ду Юэшэн, так и вовсе был чуть ли не личным другом генерала Чан Кайши и даже главой национального бюро по борьбе с опиумом — и это крупнейший шанхайский наркобарон! Вряд ли можно найти более показательный пример плачевного, унизительного состояния, в котором теперь пребывает Поднебесная, — человек, сделавший несметное состояние на пристрастии людей к дурманному зелью, возглавляет организацию по борьбе с ним же! Впрочем, одного важного положительного качества у Ду Юэшэна было не отнять — он не любил коммунистов и именно он в сотрудничестве с Чан Кайши вырезал почти всех шанхайских коммунистов в ходе приснопамятной чистки апреля 1927-го года. За это и был назначен на теперешний пост.
И Фэй Мэй знает и про Зелёную банду тоже! Вот уж действительно настоящая маленькая шанхайка растёт.
— Она играла всяких там… — Си Ши манерно помахала ладонью в воздухе, — падших женщин и… всяких…
— Она лучшая актриса мира! — опять перебила Си Ши Мэй. — Сейчас в кино идёт её последний фильм, «Национальные обычаи»! Там про…
— Я не разрешаю вашей дочери ходить на её фильмы, — перебила Мэй Си Ши. — Они развратны и…
— А сама ходила, а сама ходила!!! — возмущённо взвилась Си Ши Мэй.
— Сяофэй, я ведь уже взрослая!
— Ах так? Ах так! — Фэй Мэй, насупившись, сжала кулачки, но вдруг порывисто обернулась к отцу. — Папа, пойдём сегодня в кино? Ну пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста!!! Тебе всё равно нечего делать! Если там будет что-то плохое, ты закрой мне глаза ладонью!
-
Если там будет что-то плохое, ты закрой мне глаза ладонью и заткни уши!
Если бы я не знал, что у тебя нет детей, я бы решил, что они у тебя есть).
|
-
Название города Уси было намалёвано с ошибкой.
Прекрасная сценка с лапшичной!!!
|
24.10.1935 11:13
Шанхай, китайская часть города,
Дачи-лу, квартира капитана Хун ЯндунаСегодня капитану Фэю опять приснилась эта чёртова сычуаньская деревушка, но, по счастью, сон кончился как раз перед тем, как должна была начаться самая мерзкая его часть: та, с миномётами. Да, с миномётами. Они с лейтенантом Хуном тогда заняли позиции вокруг окопавшихся в доме старосты коммунистов и вызвали подкрепление, а сами приготовились к обороне. Не зря приготовились: ночью красные попытались прорваться, отчаянно лезли с дрекольем в руках под пули, опять прикрывались местными – всё бесполезно, были отбиты, забились назад в дом, устлав переулки трупами. Вторая часть отряда красных нападать не стала – скрылась в горах, их потом ещё долго гнали на север. И после этого ещё два дня сидели коммунисты в своей крепости, а гоминьдановцы – вокруг неё, а между ними на жарком сычуаньском солнышке лежали трупы убитых красных, и ни сами бойцы Фэй Чжана не убирали их, ни коммунистам не давали: так вам, гадам. А через два дня подошло подкрепление с миномётами, и дом старосты расстреляли вместе со всеми коммунистами и их заложниками. Можно было бы прекратить стрелять после того, как особо удачный выстрел попал, видимо, в кухню, и в здании занялся пожар – но стреляли, тупо и озлобленно колотили, не щадя снарядов, и расстреливали выбегающих из дверей, перелезающих через стены, бросающихся в последнюю отчаянную атаку коммунистов. А потом, когда от дома старосты остались одни головёшки да груды кирпича, собрались и пошли дальше на север, дальше гнали Мао. А лоло, кто выжил, остались. Лоло ненавидели ханьцев и не понимали, почему ханьцы воюют друг с другом. Лоло вообще не очень разбирались в политике. Сначала на земли лоло пришёл Жёлтый император вместе со своими ханьцами – это было давно, невообразимо давно, тысячелетия назад, но рассказы о необыкновенной мощи и бесчисленных армиях Жёлтого императора остались, и остались рассказы о почитаемом ханьцами героем и ненавидимым лоло многомудром генерале Чжугэ Ляне, умом и хитростью своими покорившем лоло, и остались древние записи на камнях, которые разбирали немногие умеющие читать на своём языке. Император заставил лоло платить дань, ввёл круглые монеты с квадратными отверстиями и непонятными иероглифами, которые, как объясняли приезжие чиновники-ханьцы с выбритыми лбами и косами на затылках, означали девиз правления императора. Лоло не очень-то рвались учить иероглифы, чтобы уметь читать девиз императора на монетах, – у них и монет-то этих много не водилось. Долго так было: императоры сменяли один другого, где-то там у них менялись столицы и династии, а у лоло повышались и понижались налоги (на памяти стариков повышались чаще), а потом вдруг императора не стало. Не в смысле «умер», а вообще. В один прекрасный день в деревню приехал знакомый лоло чиновник-ханец, почему-то в этот раз без косы на затылке, и объявил, что случился Судьбоносный Переворот, и теперь всё будет по-другому. Чиновник рассказал, что императора теперь нет, а в Срединном Государстве ханьцев установилось Народовластие, и власть этого самого Народа будет руководствоваться Тремя Народными Установлениями, которые назывались Народное Правление, Народные Интересы и Народное Благосостояние. Лоло не надо было объяснять, какой такой «народ» будет править и в интересах чьего благосостояния. Поэтому лоло совсем не удивились, когда после Судьбоносного Переворота, о котором чиновник говорил так восторженно, всё пошло не так: налоги (новыми деньгами) опять повысились, подорожали и товары в городе, расплодились бандиты, собирающие чуть ли не целые армии, а в деревню всё чаще стали приезжать похожие на бандитов военные с рекрутскими наборами (как правило, набранные солдаты-лоло всё равно сбегали через месяц-другой и возвращались в деревню), то и дело доносились слухи, что один генерал (или бандит) пошёл войной на другого генерала (или бандита), а затем – что какие-то «сторонники общей работы» что-то не поделили с какими-то «сторонниками государства и народа». «Общая работа», может быть, вызывала у лоло и больше симпатий, но то ведь тоже были ханьские штучки, а потому и им лоло не верили. А потом сторонники общей работы и сторонники государства и народа пришли в их деревню и начали драться друг с другом, как будто не нашли другого места во всём их чёртовом развалившемся Срединном Государстве, и убили женщин и детей, которых сторонники общей работы взяли в заложники, и сожгли дом старосты, и ушли. А лоло, беззащитные, слабые, бедные, тёмные, грязные, несчастные – остались и терпели дальше, как и всегда, и тихо ненавидели ханьцев – ещё больше, чем всегда. Да и не лоло их звали на самом деле. Лоло – так их ханьцы звали, а сами-то они звали себя «и». Но ханьцам разве объяснишь, как правильно. Хорошо, что Фэй Чжан сейчас был в Шанхае. Приснись ему этот сон ночь назад, не было бы никого, чтобы его разбудить, и досмотрел бы он его до миномётов и головёшек. Но в соседней комнате засмеялась чему-то Фэй Мэй, заспорила громко и радостно с Си Ши, «Нет, отдай!» - закричала требовательно, «Ну нет!» - со смехом воскликнула Си Ши, и Фэй Чжан проснулся. И понял, что не в Сычуани он никакой, а в Шанхае, в квартире бывшего сержанта и бывшего же лейтенанта, а теперь вот равного ему по чину – капитана Хуна, товарища его боевого. Одиннадцать часов утра было на часах: поздно, но после вчерашних возлияний с этим русским можно было ещё и дольше проспать. Да и куда торопиться теперь. И что делать теперь. Фэй Чжан встал с дивана в гостиной, на котором спал, прошёл к окну, выглянул. Капитан Хун жил в шикумэне – кирпичном доме типичной шанхайской постройки, с подъездами на одну-три квартиры, с переулками между домами, выходящими на главную улицу через фигурную арочку с воротами, и маленькими душными двориками, куда переулки сходились. Шикумэней в Шанхае было много: не меньше половины жителей города (не самых богатых, но и не самых нищих) жили в этих тесных, но по-своему уютных домиках: Вот и Хун Яндун купил себе квартиру в одном из шикумэней в китайской части города, но совсем близко от границы Концессии и Старого города, и в этой квартире уже с год как жила его жена Си Ши вместе с их первенцем, Хун Цзяном (ещё года парню не исполнилось) и с дочкой Фэй Чжана, пока сам Фэй Чжан с Хун Яндуном мотались по Сычуани. Вскоре после злополучной деревни лоло пути Фэя и Хуна разошлись: Хуна сначала перевели в Цзянси, а затем он, как Фэй узнал, перевёлся из армии поближе к семье, в шанхайскую полицию, где повышение и получил. Но в полицию непростую, а в Корпус поддержания мира. Корпус поддержания мира никакой полицией, в общем-то, не был, а был самой настоящей армейской частью, величиной эдак с жирную бригаду, и назывался так лишь потому, что по условиям мирного договора 1932-го года Китаю не разрешалось держать в Шанхае и окрестностях своих войск. Вот и выворачивались как могли. Сейчас капитан Хун уже был на службе, а жена, сын, Мэй и капитан Фэй – дома, и можно было чем-нибудь заняться, хотя дел особенных и не было.
-
ай малаца. действительно, искренняя любовь к историческим всяким мелочам, изыскам. дотошность эдакая. это хорошо, это здорово. мне нравицца.
-
Про "лоло-и" сильно, очень. И фотографии цепляют, именно здесь - особенно цепляют. Грусть.
|
Отдав верхнюю одежду гардеробщикам, Остин поднялся по широкой лестнице на второй этаж. На украшенной фигурными колоннами площадке лестницы (она, двумя дугами извиваясь вокруг холла, вела выше, на третий и четвёртый), стоял массивный китаец с мясистым, щекастым лицом, с зализанными назад волосами, в чёрном чаншане. Этот тип людей Остин Рейнольдс хорошо знал: профессиональные гангстеры, и не дворовая шелупонь, подобная шаньдунцу Ван Юю или «патриоту» Цао Хуэю, а люди, своего в этой жизни уже добившиеся, не один труп оставивший на дне Хуанпу, не один десятой обойм патронов выпустившие по врагам своего босса. И сейчас — устроившиеся на тёплое место под боком у самого Ду Юэшэна: безопасно, надёжно, прибыльно — звучит почти как рекламный слоган для вклада в банке.
Китаец стоял, заложив правую ладонь между пуговицами на груди чаншана. Завидев поднимающегося по лестнице детектива, он дождался, пока Остин поднимется на второй этаж, затем почтительно, но без особого подобострастия склонил голову и указал раскрытой ладонью на широкий дверной проём, ведущий в освещённый ярким электрическим светом зал. Остин проследовал по указанному направлению.
Зал, выдержанный в эклектическом стиле, сочетающий резные китайские орнаменты по ореховым панелям, которыми были отделаны стены, и модерновые люстры, заливающие зал тёплым жёлтым светом, был заполнен народом — как азиатами, так и белыми, кто сидящими за столиками и на диванчиках, кто собиравшимися группками и общавшимися между собой. По залу ходили официанты с подносами с бокалами шампанского. Несмотря на прохладную погоду, открыты были двери просторных балконов, нависающих над бамбуковым садом. Никакого Ду Юэшэна в округе видно не было, равно как никто не спешил и подбегать к Остину, ведя его на встречу с королём шанхайской мафии. На Остина внимания пока никто не обращал.
Инспектор огляделся по сторонам и заметил знакомое лицо — ну конечно, Таунсенд! Стоит с бокалом шампанского у колонны, с доброжелательной улыбкой разговаривает о чём-то с другим европейцем, в белом двубортном костюме, лысеватым, с импозантными тараканьими усами. Тараканище засмеялся в ответ на какую-то реплику Таунсенда, затрясся всем телом, чуть ли не опрокинув шампанское на костюм. Таунсенд продолжал увлечённо о чём-то рассказывать своему собеседнику, жестикулируя кистью левой руки. Собеседник умоляюще махал рукой, прекрати смешить, мол.
Остин перевёл взгляд в другой конец зала. Незнакомые, всё незнакомые и незнакомые лица, а вот и знакомое, да и важное какое, — Фредерик Уэрнхэм Джеррард, комиссар Шанхайской муниципальной полиции, в компании некого азиата (китайца? японца?) и, отодвинув рукой тяжёлую портьеру, закрывающую выход на балкон, вышел на свежий воздух.
И сразу же, рядом с ним, обнаружился ещё один — старый знакомый, капитан Чжао Яобан, тот самый, с усиками под Гитлера, из Бюро по борьбе с опиумом, с которым Остин встречался позавчера, в кафе «Бьянки» на Нанкин-роад. Этот совершенно один, как бы невзначай проходит мимо портьеры, останавливается, встаёт к портьере спиной, обводит зал взглядом, кажется, ещё не замечая Остина, и тут оборачивается на громкий английский возглас, на который оборачиваются и все присутствующие, включая и Остина:
— Господин Ду обещал интервью лично мне! — Остин оглянулся. В проходе, через который минуту назад зашёл он сам, появилась низкорослая и не очень привлекательная мулатка лет тридцати-сорока в вечернем платье. Пальцы рук дамы были украшены множеством аляповатых по-цыгански выглядящих перстней, а в ушах висели серьги, диаметр которых вполне позволял использовать их и как браслеты, которые, кстати, тоже украшали запястья дамы. Дама обращалась к русоволосому молодому человеку-европейцу в дорогом костюме, поспешающему за ней.
— Мисс Джонсон! — поспешал за ней молодой человек. — Господин Ду очень строг в назначении встреч, никаких отклонений от заявки он не допускает!
— Но это же не моя вина! — возмущённо воскликнула дама, останавливаясь в середине зала и поднимая возмущённый взгляд на своего спутника. О том, чтобы говорить потише, она, похоже, не заботилась ни капли.
-
Всегда читаю посты в своей ветке дважды - один раз для удовольствия, а второй - чтобы обдумать ответ как следует))).
|
22.10.1935 12:24
остров Гонконг,
Виктория-пикЛейтенант Хиббард сошёл с борта судна в Коломбо, а трансконтинентальный лайнер «Конте Верде» и Лиза на нём отправились дальше, к Сингапуру. Пересекая восточную часть Индийского океана, лайнер попал в шторм. Пергидролевая мисс Драгински обеспокоилась, не представляет ли шторм опасности для их путешествия, и даже хотела задать этот вопрос капитану за завтраком, но к завтраку не вышла, как и некоторые другие пассажиры, страдавшие морской болезнью. Саймон Оуян тоже страдал от качки, но на завтраке самоотверженно появился, о чём и пожалел: внезапно посерев лицом, китаец невнятно извинился и поспешно вышел из-за стола. Фрау Шёдель, у которой, несмотря на почтенный возраст, вестибюлярный аппарат был на зависть любому лётчику, приняла надменный вид и выразилась в том духе, что каких же ещё манер ждать от этого… китайца. «Может быть, ему стоило попробовать поесть своими палочками?» — сострил муж фрау Шёдель, и его супруга согласно засмеялась. Жена Саймона предпочла сделать вид, что не расслышала насмешки. Шторм продлился недолго, и уже на четвёртый день после выхода из Коломбо «Конте Верде» прошёл в проливе между островами Ява и Суматра и зашёл в порт британской колонии Сингапур. Наверняка лейтенанту Хиббарду было бы что рассказать и об этом городе, но он сейчас, должно быть, летал где-нибудь над Индийским океаном на своём гидроплане, и Лизе пришлось гулять по городу в одиночестве. Пояснений знающего человека здесь явно не хватало и, походив по набережной в тени пальм да прогулявшись чуть по центральным улицам, Лиза решила, что углубляться без провожатого в лабиринт улиц незнакомого азиатского города было бы делом необдуманным, и совсем уже собиралась вернуться на «Конте Верде», как встретилась с Саймоном и Салли, также направляющимися на лайнер. «Джонки, смотрите, мисс Ниеманд, джонки! — радостно восклицал Саймон Оуян, указывая с пирса на утлые с виду деревянные кораблики с причудливыми перепончатыми парусами. — Всё ближе и ближе к дому», — довольно заявил китаец, подставляя смуглое лицо жаркому экваториальному солнцу. Салли Гэ, наоборот, пряталась под большим белым зонтом, старательно оберегая свою до бледности светлую кожу. «В Китае загар считается признаком низших классов», — старательно подбирая английские слова, пояснила Салли. «Предрассудок! — безапелляционно заявил Саймон. — Нет ничего здоровее солнечного загара!» «Но это традиция», — попыталась вступить в спор Салли. «Если ты так держишься за традиции, забинтуй себе ступни и не перечь мужу», — раздражённо обернулся к жене Саймон и добавил несколько слов по-китайски. Салли остановилась, подняла на Саймона ледяной взгляд и отчётливо произнесла короткое китайское слово, “shide”. Лиза поняла, что семейный конфликт китайской пары, подспудно тлевший всё время путешествия, готов вырваться наружу, но Саймон уже взял жену под локоть и обернулся к Лизе, с улыбкой заявив: «Мы слишком привержены традициям, мисс Ниеманд. Если бы это зависело от меня, то я отменил бы и иероглифы, да и вообще заменил бы китайский язык английским или эсперанто. И не смейтесь, пожалуйста, это абсолютно реально». И Саймон пустился в объяснения, почему иероглифы и вообще китайский язык, неприспособленный для выражения реальности нового времени, тянут Китай назад, приводил в качестве примера англоязычный Гонконг, а Салли молчала, следуя за мужем, лишь изредка вмешиваясь в разговор, который был слишком сложен для её уровня английского. Путь от Сингапура до Гонконга занял ещё три дня. Путешествие уже успело порядком наскучить богачам: радости не вызывали более ни отдых и спортивные игры на палубе, ни музыка и танцы по вечерам, а море — море так, пожалуй, уже и вовсе успело опостылеть, равно как и многие попутчики друг другу. Так, синьор ди Мария, жених пергидролевой мисс Драгински, до смерти оскорбился на бизнесмена Жоао Мендеша по поводу какого-то замечания, которое португалец сделал мисс Драгински, что на вечер-другой развлекло пассажиров первого класса и стало предметом толков и пересудов. Дошло до того, что синьор ди Мария предложил Мендешу стреляться прямо на палубе лайнера или в Гонконге, но на палубе мужчинам стреляться запретили члены команды лайнера, а пергидролевая мисс Драгински заявила, что, если дело действительно дойдёт до дуэли, то она бросится в океан к акулам. Видимо, мисс Драгински полагала, что акулы стаями носятся вокруг лайнера и Гонконга, питаясь девицами в расстройствах чувств. Жест невесты произвёл впечатление на синьора ди Мария, и тот заявил, что, так уж и быть, акулам мисс Драгински он не отдаст и стреляться с Мендешем не будет. Мендеш презрительно фыркал и называл синьора ди Мария земляным червяком. Синьор ди Мария аристократически воротил нос от плебея. Пергидролевая мисс Драгински была счастлива, как счастлива бывает глупая женщина, ради которой хотели стреляться двое мужчин. Чем ближе лайнер приближался к Шанхаю, тем веселее и оживлённее вёл себя и без того меланхолией не страдающий Саймон Оуян, и тем замкнутей и, кажется, подавленней была его жена Салли. Салли вообще старалась держаться незаметно, но день прибытия лайнера в Гонконг привлекла всеобщее внимание, в первый раз на глазах Лизы появившись в традиционном китайском ципао: «Мы теперь в Китае, — пояснила Лизе Салли, — а значит, мне уместно ходить в этом платье». И Салли была права: сойдя на берег, Лиза действительно увидела вокруг себя Китай — несмотря на европейского вида железобетонные и гранитные здания, лепящиеся по склонам покрытых тропическим лесом гор, несмотря на современные автомобили, двухэтажные автобусы и трамваи, двигающиеся по шумным улицам, несмотря на «Юнион Джеки» над административными зданиями и стоящие в гавани корабли британского флота и то и дело встречающихся на улицах офицеров и европейцев в гражданском, это всё равно был Китай: разевали красные пасти долгоусые драконы, обвивающиеся вокруг деревянных декоративных колонн ресторанов, у пристаней во много рядов стояли тысячи лодок-домов, на которых за неимением жилья ютились целые семьи, украшали фасады и стены зданий цветастые вывески с непонятными иероглифами, и ходили по улицам соплеменники Саймона и Салли: в белых европейских костюмах, в удивительных долгополых халатах, в грязных куртках с конусообразными соломенными шляпами на головах и с коромыслами с тяжело нагруженными вёдрами на плечах; стригли клиентов уличные парикмахеры с грязной простынёй и ржавыми ножницами, работали резчики печатей в уличных лавках, на плохом английском предлагавших вырезать имя путешественника на нефрите иероглифами за три шиллинга. Красные бумажные фонари висели в окнах лавок и забегаловок, предлагавших невиданные выросшей в Швейцарии даме яства — начиная от вполне безобидно и аппетитно выглядящих засахаренных вишен на палочках и заканчивая какими-то жареными личинками, от одного вида которых Лизе становилось не по себе. Лиза уже было думала, что и по Гонконгу ей придётся бродить в одиночестве, но Салли вдруг предложила ей составить им компанию в прогулке по городу. Саймон был не против. Китайский дипломат предложил своим спутницам зайти в один из ресторанов и попробовать китайской еды, а заодно и поучиться держать китайские палочки («В Шанхае вы, конечно, найдёте любую кухню мира, но не собираетесь же вы побывать в Китае и не поесть нашей?»). Прочитать названия блюд в меню Саймону труда не составило, а вот объясниться с официантом он не смог: несмотря на то, что оба они, как Лизе казалось, говорили по-китайски, понять друг друга они были совершенно не в силах, несмотря на то, что, отчаявшись, Саймон попытался объясниться и по-английски, которого официант также не понимал. В конце концов Саймону пришлось просто тыкать пальцами в меню. «Он говорит только на кантонском, — недовольно пояснил Саймон Лизе. —Я из Шанхая, кантонский диалект мне совсем непонятен. Хорошо, что иероглифы одинаковые». Похоже, что идея отменить иероглифы и тем самым вывести Китай из тьмы отсталости в этот момент Саймона занимала мало. После ланча в кантонском стиле, состоявшего из рисовой каши с орехами, рыбой и морскими водорослями, пельменей с креветками, сладких водянистых пирожных из каштана и душистого зелёного чая в европейского вида чайнике и чашках, Саймон предложил дамам совершить восхождение на Виктория-пик, самую высокую точку острова Гонконг. «Я уже бывал в Гонконге несколько раз, но на Виктория-пик подниматься мне не доводилось, — говорил Саймон, — раньше на гору китайцам вход был запрещён. К счастью, разум медленно, но верно превозмогает невежество и расизм». Поднявшись на пятисотметровый пик на специальном горном трамвайчике, путешественники расположились на переполненной народом обзорной площадке, с которой открывался чудесный вид на Виктория-харбор, город у подножия горы и полуостров Коулун, расположенный на противоположном берегу гавани. Саймон Оуян тут же достал фотоаппарат и принялся увлечённо искать подходящее место для съёмки, оставив спутниц наедине. Похоже, что Салли только и ждала этого момента. Проводив мужа взглядом, китаянка обернулась к Лизе. — Мисс Ниеманд, — тихо обратилась она к попутчице. — Знаете, я боюсь, что Саймон меня убьёт.
-
Низкий поклон гению Шанхая...
|
14.10.1935 22:23
Индийский океан,
близ юго-западного побережья Индии, 300 морских миль до Коломбо
прогулочная палуба первого класса лайнера «Конте Верде»Вот уже две недели прошло с тех пор, как в порту Триеста Лиза Ниеманд вступила на палубу трансконтинентального лайнера «Конте Верде» с билетом первого класса до Шанхая. Рядом, в той же триестской гавани, близнец «Конте Верде», «Конте Россо», увозил итальянских солдат в Африку. Как объяснил пассажирам за первым совместным завтраком капитан лайнера, в связи с возрастающей напряжённостью на эфиопо-итальянской границе «Конте Россо» сняли с дальневосточного маршрута и мобилизовали для нужд армии. Американка мисс Драгински, совершавшая кругосветное путешествие со своим женихом, итальянским аристократом, поинтересовалась, не ждёт ли подобная судьба их судно. Она носила вызывающие платья, пергидролевые волосы и была глупа как пробка. Капитан добродушно рассмеялся и сказал, что пассажирам не о чем беспокоиться. Пассажирам действительно не о чем было беспокоиться — беззаботно и легко пролетали дни на палубе под ласковым средиземноморским солнцем, в шезлонге в шляпе и солнцезащитных очках, с бокалом лимонада со льдом и книгой из обширной судовой библиотеки. На четвёртый день после выхода в море лайнер зашёл в Порт-Саид. Сойдя на берег, Лиза с интересом рассматривала мечети, улицы старого города, арабов в долгополых одеяниях, женщин, укутанных в паранджу, и верблюдов, отмахивалась от стаек чумазых попрошаек, на ломаном английском клянчащих пенни, проходила мимо лотков уличных торговцев, заваленных дешёвым сувенирным барахлом. «Что вы, мисс Ниеманд, какая же это жара? — вытирая платком пот со лба, с улыбкой сообщил Лизе британский лейтенант Хиббард, пилот королевских ВВС, составивший ей компанию в прогулке по городу. — Вам повезло, что вы не задумали совершить своё путешествие в июле. Впрочем, ближе к экватору жара держится круглый год, так что запаситесь солнцезащитным кремом — я раз обгорел в Аденском проливе так, что всю дорогу до Коломбо не вылезал из каюты, опасаясь испугать дам своим видом». Лейтенант Хиббард был мил и галантен. Он плыл до Коломбо, направляясь к месту службы. В Коломбо он летал на гидроплане. Суэцкий канал, пустыни и пальмы остались позади, и «Конте Верде» двигался на юг по зеркальной глади Красного моря. Лайнер проходил мимо берегов Эритреи, итальянской колонии, которая граничила с Эфиопией, и пергидролевая мисс Драгински обеспокоилась, не опасен ли этот район для судоходства. Капитан объяснил пассажирам, что Эфиопия не имеет выхода к морю, а значит, не имеет и флота. «Но, может быть, у них есть какие-нибудь подлодки?» — не унималась американка. Мисс Драгински знала о двух опасностях, подстерегавших пассажирские лайнеры в море, — подлодках и айсбергах, но была недостаточно пергидрольна, чтобы бояться айсбергов в Красном море. Капитан поспешил заверить гостью, что никаких подлодок у эфиопов нет. В этот день итальянская авиация совершила бомбардировку эфиопского городка Адуа, в результате которой погибло множество мирных жителей. Этот городок был известен тем, что в 1896-м году эфиопы наголову разбили там итальянцев, в первый раз попытавшихся захватить их страну. Но пассажирам было не о чем беспокоиться, и «Конте Верде», сверкая огнями, плыл мимо тёмных берегов Эритреи, мерно стучали в машинном отделении две огромные паровые турбины совокупной мощностью восемнадцать с половиной тысяч лошадиных сил, придававшие судну скорость в двадцать один узел (около сорока километров в час), а в музыкальном салоне каждый вечер играл итальянский оркестр, и лейтенант Хиббард приглашал Лизу на фокстрот и танго. Музыкальный салон лайнера был декорирован в классическом римско-помпейском стиле, библиотека, ресторан и кают-компания — во флорентийском стиле пятнадцатого века, а курительный салон — в восточном стиле. Окна были украшены разноцветными витражами, стены —дубовыми панелями с ручной резьбой, гобеленами и картинами маслом, а люстра в музыкальном салоне насчитывала более тысячи электрических лампочек. Всё это великолепие было создано известными флорентийскими художниками братьями Коппеди и Луиджи Кавальери. По словам капитана, одна лишь отделка лайнера обошлась в четыреста тысяч американских долларов. Здесь Лиза впервые познакомилась и с китайцами, также направляющимися в Шанхай: Саймоном Оуяном и его женой, Салли Гэ. Тридцатилетний дорого одетый смуглый китаец в очках, Саймон Оуян (Оуян Цюй, если по-китайски), был сотрудником дипломатической миссии в Италии и сейчас возвращался домой в Шанхай. По-английски свою редкую для Китая двусложную фамилию он писал как O’Young, вследствие чего все думали, что у него отец или хотя бы дед ирландец и удивлялись отсутствию европейских черт на его китайском лице. «Из-за этого мне даже пришлось перейти в католичество, — смеясь, пояснял Саймон, безукоризненно говоривший по-английски, немецки и итальянски. — Для Италии как раз, а вот в Китае по нашим временам это опасно — Чан Кайши прихожанин методистской церкви». Несмотря на постулируемую опасность, Саймон Оуян, похоже, находил удовольствие в фрондировании своим католичеством и мнимой связью с Ирландией. Для дипломата Саймон Оуян вообще был чересчур легкомыслен — возможно, это говорило о качестве дипломатического корпуса Китайской Республики, а возможно, было лишь маской, которую этот азиат на себя напускал (говорят, они на это мастера). «Его вызвали на родину, — по секрету пояснила Лизе жена Саймона, Салли (говорившая по-английски куда хуже, чем муж), — для привлечения к делам государственной важности. Саймон — человек очень прогрессивных взглядов и будет работать над большими реформами», — и важно кивала. Среди пассажиров, однако, ходили слухи, что Оуян был отозван из посольства то ли будучи разоблачён в коррупционных делишках, то ли вследствие каких-то подковёрных интриг. Так или иначе, дела у Саймона и Салли не клеились — Лиза не раз видела их по вечерам на палубе, о чём-то вполголоса, но сердито переругивавшимися по-китайски. На публике, однако, и дипломат, и его жена старательно изображали счастливую пару. На пути через Красное море в третьем классе умер человек — говорили, что от сердечного приступа, вызванного жарой. Фрау Шёдель, состоятельная старушка из Вены, совершающая свадебное путешествие со своим мужем двадцатью годами моложе её, ожидала, что тело выбросят за борт, за неимением пушечных ядер привязав к ногам «какую-нибудь железяку», и хотела посмотреть на необычные похороны, но за ужином в ресторане лейтенант Хиббард объяснил фрау Шёдель, что теперь тела умерших в пути не выбрасывают за борт, а помещают в холодильник. «А если я умру, меня тоже поместят в холодильник, вместе с ним?» — настороженно поинтересовалась фрау Шёдель. «Господи, милая, ну что ты такое говоришь!» — укоризненно воскликнул её муж, лысеющий усатый господин, по виду совершенный проходимец, и заботливо погладил фрау Шёдель по украшенной драгоценностями костлявой руке. «Готов биться об заклад, что он её отравит, — наклонившись к Лизе, вполголоса сообщил Саймон Оуян, кивая на молодожёнов. — Хорошо бы не во время нашего круиза, а то как китаец, католик и почти ирландец я обречён попасть под подозрение». Муж фрау Шёдель перехватил взгляд Саймона и холодно посмотрел на почти ирландца. Саймон вежливо улыбнулся и приветственно поднял бокал вина. После Аденского пролива береговой линии больше не показывалось, и смотреть на море становилось скучно. Изнемогавшие под палящим солнцем («Вот теперь действительно жарко!» — говорил лейтенант Хиббард) путешественники прохлаждались в установленном на палубе бассейне, а, накупавшись, шли играть в волейбол, крикет или покер или лениво потягивали коктейли, лёжа в шезлонгах: Поздним вечером, когда танцы заканчивались, или днём, когда оркестр ещё не выходил на сцену, Лиза имела возможность музицировать в салоне за роялем. Иногда послушать её собирались и пассажиры и провожали попутчицу аплодисментами. Жоао Мендеш, португальский бизнесмен, направлявшийся в Макао, тоже большой меломан, пару раз садился играть с Лизой в четыре руки. Играл Мендеш старательно и с любовью, но умения ему явно не хватало, и в конце концов португалец бросил это занятие, сказав, что он только деньги умеет считать хорошо, и больше за рояль не садился. Неделю тянулось плаванье по Красному и Аравийскому морям и, наконец, на одиннадцатый день после выхода из Триеста «Конте Верде» подошёл к Бомбею. «Это здание называется “Ворота Индии”» — показывал лейтенант Хиббард на массивную арку на набережной бомбейской гавани, к которой подходил катер, перевозивший сходивших на берег пассажиров. По усаженным пальмами улицам Бомбея ходили индусы в чалмах, загорелые европейцы в шортах до колен с выцветшими на солнце волосами, гремели трамваи и разносился пряный запах индийской еды. Здесь Лиза в первый раз увидела рикшу, которых, как она знала, много и в Шанхае. «Не знаю как китайские, а местные — хитрые бестии, — пояснил Лизе лейтенант Хиббард, опять навязавшийся с ней на прогулку, помогая девушке усесться в коляску велорикши. — Ни в коем случае не платите им столько, сколько они просят. Платите четверть, не более». «Глядите-ка, мисс Ниеманд! — кивнул лейтенант Хиббард из коляски на маршировавшую по городу колонну смуглых бородачей в тропической форме с чалмами на головах и кинжалами на поясах. — Сикхи! Воинственный народ. К счастью, сейчас они на службе Империи. Вы их ещё увидите в Шанхае — там они тоже несут службу».  Фото 1914 г. «Тот пляж для белых, а этот для местных, — пояснил Хиббард, прогуливаясь с Лизой по набережной Марин-драйв, проходящей над пляжами западного берега Бомбея. На отгороженном забором пляже для белых всего с десяток человек лежали под зонтиками, наслаждаясь спускающимся в море солнцем. На индусском пляже было тесно и шумно. — И всё же, какая неосмотрительность, что вы не взяли с собой фотоаппарата! — восклицал лейтенант Хиббард. Точно так же он восклицал и в Порт-Саиде. — Это извинительно мне, я в Бомбее уже шестой раз, но вам…» — лейтенант Хиббард горестно качал головой. Из Бомбея «Конте Верде» вышел тринадцатого октября, а в Коломбо должен был прибыть уже пятнадцатого. Вечером четырнадцатого лейтенант Хиббард, прогуливаясь по палубе, как бы невзначай остановился у стоящей у релинга мисс Ниеманд. «Знаете, мисс Ниеманд, — сказал лейтенант, предложив даме сигарету и сам затягиваясь, — говорят, мир был раньше большой, а теперь стал маленький. Про нас, авиаторов, часто говорят, что мы делаем мир меньше. Летаем теперь и через океаны, — Хиббард кивнул на океан за бортом. — А всё равно, он огромный до ужаса. И людей в нём невообразимо много. Вот завтра я сойду в Коломбо, а вы отправитесь дальше в Шанхай. И у каждого из нас дальше будет своя история. И всё», — Хиббард пожал плечами и замолчал. Лиза поняла, что Хиббард произносил заготовленную речь, но сбился с мысли.
-
Потрясающая история! Все эти люди, итальянский лайнер, жесты, бокалы, отношения.
-
"А всё равно, он огромный до ужаса. И людей в нём невообразимо много. Вот завтра я сойду в Коломбо, а вы отправитесь дальше в Шанхай. И у каждого из нас дальше будет своя история. И всё", — Хиббард пожал плечами и замолчал.
Какой коварный соблазнитель!)
-
А ведь это просто вводная в новой ветке. Одной из многих. И так круто все с самого старта.
|
25.10.1935 19:45
Шанхай, Международный сеттльмент,
Бунд, перед отелем «Кэтэй»Загорается над Шанхаем неоновый рассвет тысяч вывесок, переливающихся и мерцающих, дребезжа, сверкая носовой фарой, проезжают по Бунду оклеенные афишами трамваи, заполненные народом, — кто и на подножке, подбегают к идущим по помосту набережной господам стайки попрошаек с косичками, в цветастых ватных штанах, пляшут в пьяных глазах электрические буквы и иероглифы, обдаёт из узких кирпичных переулков с железными пожарными лестницами горячим паром от тележек с лапшой и пельменями. В барах литровые коричневые бутылки циндаоского пива — бармен ловким движением откупоривает их и разливает по высоким стаканам. Ледяная пятидесятиградусная водка «маотай» из морозилки по маленьким стопочкам. Отдаёт сивухой, но китайцам нравится. Ганьбэй! Это китайское слово знают все, живущие в Шанхае: до дна! Позавчера убили японского генерала — ганьбэй! Вчера разогнали демонстрацию на Бунде — ганьбэй! Сегодня пустили нанкинский экспресс под откос — ганьбэй! В паре миль отсюда, в Янцзыпу, бастуют рабочие на фабриках — ганьбэй! После нас хоть потоп! Maskee — другое слово, которое знают все шанхайлэндеры, это не китайский, это пиджин, пришло из португальского, из Макао: забей! Белая дорожка рассыпается по стеклянной поверхности столика. Maskee! Пятница на дворе. Из сверкающих стеклянных дверей отеля «Кэтэй» выходит гриффин, состоятельный и праздный. Его зовут Эрик Смит и, возможно, он сам не знает, что он — гриффин. Гриффин — это иностранец, проживший в Шанхае менее тринадцати месяцев и потому не заслуживший ещё звания шанхайлэндера. В том, что лаоваи разделяют себя на две таких категории, кроется глубокий смысл: это шанхайлэндер уже привык к Шанхаю — к шлюхам, которыми заполнены известные всем переулки; к матросам с американских и европейских сухогрузов, слоняющимся по улицам незнакомого им города в поисках известных всем переулков; к палочкам, дофу, хуньтуням, пекинской утке в дорогом ресторане и баоцзы с требухой в переулке; к китайскому языку, доносящемуся отовсюду; к бандитам, похищающим людей — богачей на выкуп, бедняков в рабство; к опиуму, который можно достать там же, где и шлюх; к собачьим бегам и хай-алай; к блеску шпилей универсальных магазинов на Нанкин-роад; к сморщенным лицам китайских стариков в лохмотьях, просящих подаяния, к рикшам, к пиджин-инглишу, к демонстрациям и угрозе войны. Гриффин же к этому всему не привык, и потому отличить от бывалого шанхайлэндера его можно и на улице, особенно — при общении с местными. Это заметно по тому, как он переплачивает в ресторанах и раздаёт чаевые официантам (в Китае чаевые не очень приняты), по тому, как он морщится, пытаясь разобрать пиджин, на котором китаец обращается к нему, да и по тому, как он реагирует, скажем, на навязчивых рикш, со своими колясками толпящихся на тротуаре метрах в десяти от входа в отель «Кэтей» (ближе их не подпускает швейцар и пара полицейских-китайцев), — либо избыточно вежливо, либо, наоборот, чересчур надменно отказываясь от их услуг. У шанхайлэндеров это получается естественно, как естественно бывает кинуть монетку мальчишке разносчику газет, а гриффину этому ещё предстоит учиться, если он собирается тут жить. Эрик Смит дождался, пока регулировщик-сикх остановит движение по Бунду, пересёк проезжую часть и вышел на деревянный помост набережной. Темна и страшна широкая Хуанпу, тихо плещущаяся в трёх метрах под деревянными перилами набережной. Темны и страшны неясные силуэты барж, скользящие по середине реки. Тёмен и страшен Пудун, раскинувшийся на другом берегу, со своими редкими огоньками, проглядывающими во мгле. С неба падает мелкая холодная изморось, капельки которой хорошо видны в ровном свете высокого фонаря. Поднимают воротники пальто прохожие, дамы вкладывают ладони в муфты, китаянка-служанка поспешно открывает большой зонт над головой своей белокурой десятилетней воспитанницы. Но достаточно обернуться прочь от тёмной реки, и увидишь, как сверкает горячими жёлтыми огнями отель «Кэтэй», вереница фар медленно движется плотным потоком по Бунду и колышется над городом многометровая вывеска LIGHT HEAT AND POWER над высоким зданием Шанхайской электрической компании на Нанкин-роад. В этом весь Шанхай и есть — свет, тепло и мощь. Короткий взгляд под фонарём на часы на запястье — восемь. Восемь часов вечера пятницы. Уикэнд ещё только начинается, мистер Смит! Работы не было, Бай Юси не выходил на связь, но денег пока хватало: от пятисот долларов, полученных две недели назад от китайца, назвавшегося Джоном Доу, осталось ещё двести двадцать. Двести двадцать китайских долларов составляет одиннадцать шлюхо-часов высшего разряда или двести двадцать — низшего (дикая мысль: заказать одновременно двести двадцать дешёвых шлюх на час — почувствуй себя Гарун аль-Рашидом). Была и ещё тысяча китайских долларов, которую Эрик держал про запас. В общем, много у Эрика Смита было денег. И свободного времени — ещё полжизни впереди. Куда же, мистер Смит? Весь Шанхай перед вами, порочный, на всё согласный и ждущий ваших денег, как шлюха. В Канидроме во Французской концессии собачьи бега, там же хай-алай, бокс, бальный зал, ресторан. В развлекательном комплексе «Грейт Ворлд» на бульваре де Монтиньи — вообще всё, начиная от китайской оперы, цирковых представлений, заканчивая массажными салонами и парикмахерскими, где, конечно, не только подстричь могут. В казино «Фушэн» — ох, да что и говорить про казино «Фушэн»! Это же штаб-квартира короля гангстеров Шанхая Большеухого Ду Юэшэна, и именно поэтому играть там безопасно (Ду заботится о клиентуре), а если проиграть много денег, оттуда даже увезут на лимузине (правда-правда, такой вот сервис). В кабаре «Мажестик», как говорит реклама, самые лучшие такси-гёрлз (платные танцовщицы) Шанхая, впрочем, завсегдатаи бального зала «Парамаунт» позволят себе не согласиться с этим. Господи, да весь Шанхай перед вами, мистер Смит! Впрочем, не стоило бы поминать имя Господне, говоря об этом городе.
-
-
Картинка из Лайфа поражает воображение, кстати! Мощщщщь. Двести двадцать китайских долларов составляет одиннадцать шлюхо-часов высшего разряда или двести двадцать — низшего (дикая мысль: заказать одновременно двести двадцать дешёвых шлюх на час — почувствуй себя Гарун аль-Рашидом). О, месье знает толк в извращениях))) Ну и вот это
Впрочем, не стоило бы поминать имя Господне, говоря об этом городе.
конечно, в точку. Куда там Babyloniacus fornicaria...
|
|
-
Хорошенькое бы впечатление осталось у этой мумии о нравах и воспитанности пришельцев.
Из всех присутствующих никто более не достоен звания англичанина и аристократа)))
|
-
Хорошо пишешь, трудно удержаться от дачи плюса.
-
-
|
-
Барон поражал воображение. Было в нем что-то от грузового вертолета с винтом на холостом ходу.(с)
|
Майки поднялся с крыши, глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. Снизу суетились люди — даже и не верится, что вот так вот в одну минуту их стало много, только что ведь были одни пустые улицы да трупы — на соседней крыше, из окна станции, внутри станции (Господи, какая там, должно быть, сейчас… скотобойня). А тут откуда-то появились пересидевшие всю стрельбу добропорядочные американцы, сбежались к раненому доку. Нет, правильно, правильно, доку нужно помочь. Молодцы.
Майки задумчиво осмотрел порванную одежду. Была разодрана рубашка на локте (зацепился о шляпку гвоздя), а на колене штанина была прорвана пулей Чёрного Дика, оцарапавшей коленку. Майки вспомнил, как он испугался ранения, как он грозился про себя главарю бандитов, что будет простреливать ему коленки, одну, вторую, и эта мысль показалась парню глупой и, более того, недостойной. Убить — убил, а издеваться бы не стал, да и шанса, слава Богу, не пришлось. Парень закинул горячий винчестер на плечо, подобрал шляпу с крыши: тоже прострелена, чёрт! Штаны ладно, Мэри зашьёт, в поле-то работать пойдёт, рубашку тоже, а в шляпе вот теперь перед девчонками не покрасуешься. Или наоборот, в пробитой пулей шляпе? Противно вдруг стало от мысли, что Майки будет красоваться в пробитой пулей шляпе, так пошло и неуместно это выглядело.
И всё-таки, ещё раз, скольких Майки сегодня прикончил? Старика на крыше, раз. Майки, шлёпая по крыше к лестнице, оглянулся налево. Старика не было видно за фронтоном соседнего здания. Хорошо. Бандита на станции, два. Его тоже не видно сейчас, когда Майки идёт к лестнице. Чёрного Дика на станции, три. Он упал внутрь станции, его тоже не видно. И последний бандит с револьвером. Что-то там сбежавшийся народ кричал про перевязку, значит, не убил. Слава Богу. Может, и из тех кто ещё жив. Старик, может? Нет, он вряд ли, две пули в грудь. Дерьмо. Гадко-то как.
Глядя на проулок за отелем, Майки увидел тела ещё двух бандитов, шустрого Джонсона и здоровяка Бивера, убитых его товарищами. Странно, а он слышал, что с кем-то из них мистер Ингрэм (кстати, где он там?) договаривался, чтобы тот уходил. Не упустили, значит. И, значит, всё-таки убили. Ну и правильно, наверное.
Спустившись по лестнице, Майки аккуратно обошёл тело Бивера и остановился в раздумье. Мистер Бриннер там что-то уже народ начал собирать, подряжать на поиски последнего бандита (да-да, за платформой, за платформой голова высовывалась!) Проснулся на мгновение боевой азарт, уже повернулся было парень, чтобы припустить на помощь фермеру, а потом подумал вдруг — их там человек двадцать, всяко уж с одним-то справятся. Да и мистер Бриннер в этот раз как-то не отличился особо. Не везёт сегодня старикам вообще. А потом ещё подумал — а там ведь станция, и мистер Джекстон убитый перед ней лежит, и мистер Эванс где-то внутри. Не был другом большим ни тому, ни другому Майки, а всё равно комок мерзкий поднялся в горле. Хорошо, что переулок был пустой — только Майки, убитые бандиты, да ещё Старик на крыше, тоже убитый. Первый труп у Майки в жизни, только ведь сейчас по-настоящему понимаешь. По-честному, по-хорошему надо было бы подняться к нему. Зачем, правда, Майки не знал, но чувствовал, что надо бы. Но всё же, сейчас идти туда лезть? Майки с сомнением посмотрел на крышу, за фронтоном которой лежал Старик. Увидят, что я на ту крышу залез, подумают, что мародёр! — стрельнула вдруг в голове мысль. Нет, ну его к чёрту.
Майки повернулся и пошёл домой. Шёл по пыльным улицам с винчестером на плече, простреленной шляпой и разорванной одеждой, собирал на себе взгляды — удивлённые, наверное, уважительные, может быть, сам смотрел по сторонам, здоровался, поднимал шляпу, отвечал на вопросы спешащих в центр горожан: «да всё закончилось уже, мистер Райли. Там на площади все, вы туда идите,» — говорил и указывал рукой себе за спину, а сам только и думал, чтобы домой поскорее прийти. Наконец, вышел из города, пошёл по знакомой просёлочной мимо деревянных изгородей, посмотрел на знакомое пугало миссис Хендерсон (она его всё время как-то по особенному наряжает, вот забава всегда по дороге глядеть), слушал как стрекочут в высокой траве кузнечики и всякие другие насекомые гады, твари Божьи, как шумит ветер в яблонях и сливах миссис Хендерсон, гремят на ветру железки, подвешенные к чучелу, и скрадывало всё это шум городка, оставшегося за спиной, и не видел Майки, как из двери дома мисс Хендерсон появилась дочь её, Сара, в белом ситцевом платье и, с опаской и интересом выглянув из-за косяка, смотрела парню с ружьём на плече вслед, в любой момент готовая юркнуть обратно в темноту прихожей, и тут-то бы Майки и обернуться, но не обернулся Майки, а шлёпал знай себе, дурень этакий, по сухой растрескавшейся земле, и дышал тёплым пряным воздухом от высокой травы и ветром, и выступили под шляпой, под ремнём винчестера, под жилетом и белой рубашкой на спине и под мышками от жары первые капли пота, а потом уж и вовсе рубашка к спине противно липнуть начала (а воды-то нет с собой), и чувствительно саднило оцарапанное колено, но шёл Майки всё быстрее, поудобнее закидывая винчестер на плечо, даже несмотря на то, что в горку шёл, на холмик со старым разлапистым дубом на вершине, а поднявшись, остановился в теньке его передохнуть и посмотрел вперёд, где вдалеке, в миле отсюда, уже белела оградка усадьбы мистера Бриннера.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БРОСКИ:
1) Скорость
2) Реакция
3) Хладнокровие
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БРОСКИ:
ДЕЙСТВИЯ:
- ожидание - 3 о.
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ:
- шагом, к дому мистера Бриннера - 3 о.
-
Да уж, настрелял порядочно =)
-
Маленький негодяй, невероятно везучий сукин сын или "дедушка того самого, Шанхайского Хамфри". Он мне нравится, да.
-
+За всего персонажа целиком. Есть за что.
-
Таки да. Самый крутой оказался пацан).
|
25.10.1935 15:23
Шанхай, Французская концессия,
рю Ратар, дом Джейн Морган
Чао Тай уехал рано, не было ещё и семи часов. Очень важные дела. Как обычно, у мужчин всегда очень важные дела. С самого утра и до самого вечера, и даже ещё неизвестно, вернётся ли вечером.
А у Джейн тоже дела. Пятница, последний день перед выходными, классы, учителя.
Мисс Хендерсон — серая мышка. Скромная неприметная английская девушка, кое в чём напоминающая Джейн её саму десять лет назад. Живёт одна, молодого человека нет — не очень-то с внешностью ей повезло. Повезло с паспортом: могла бы найти себе красивого китайца, желающего получить британское подданство, но мисс Хендерсон, похоже, такой вариант не рассматривает, а хочет большой и чистой любви. Ей бы вообще лучше учить не взрослых, а маленьких детей, это видно по тому, как она к людям относится, да и могла бы себе работу найти и в каком-нибудь элитном детском саду или школе, но как-то уже приросла уже к этому месту, да и живёт недалеко совсем, снимает пару комнат. Ей нравится Джейн и школа ей тоже нравится. Единственное, вот брала бы мисс Морган на обучение детей, а не взрослых — вот тогда было бы совсем здорово.
Мистер Уильямс — неудачник. Сорок лет, из них шесть в Шанхае, настоящий шанхайлэндер. Как и всякий настоящий шанхайлэндер, кому повезло быть нэйтив спикером, знает, что в Шанхае всегда есть способ не умереть с голоду, даже если не удаётся толком задержаться ни на одной работе: пойти учить английскому китайцев. Китайцев много, нэйтив спикеров мало, все в цене. Платит Джейн ему тут куда меньше, конечно, чем в конторе, где он работал до того, но что ж поделать, если его оттуда выгнали. До конторы он тоже преподавал английский, а до того работал в банке. Мистер Уильямс застрял в Шанхае. Его лишили наследства и никто не ждёт беднягу мистера Уильямса в Кардиффе. Никто его не ждёт и в Шанхае, но тут, по крайней мере, востребованы нэйтив спикеры. У мистера Уильямса есть мечта. Он хочет переехать в Японию. Он знает, что у Джейн любовник китаец, поэтому воздерживается в её присутствии от уничижительных ремарок в отношении китайцев, но в открытую превозносит японцев, восхищаясь ими. Над его столом в преподавательской висит картина Хокусая из «36 видов Фудзи». Он хочет уехать в Японию, но в Японии его никто не ждёт, поэтому у него проблемы с получением визы. Преподаёт мистер Уильямс так себе.
Графиня Хвостофф — эмигрантка. Шестидесятипятилетняя сухая старушка, одетая старомодно, но опрятно. По-английски она говорит свободно, без малейшего акцента. Она всегда была англоманкой, графиня Хвостофф, у неё в детстве были английские гувернантки, а в молодости она даже жила несколько лет в викторианском, шерлокхолмсовском Лондоне с кэбами и смогом. Там работал её отец на дипломатической службе. Потом она вернулась на родину и вышла замуж за русского офицера. Потом она бежала из Порт-Артура на север. Потом всё пошло под откос. Мужа убили в шестнадцатом году. Потом графиня со всей семьёй бежала по железной дороге на восток, а потом ещё на восток и ещё на восток, пока не оказалась в Харбине. В тридцать втором году она в третий раз в жизни бежала, как и в первый, от японцев, только в этот раз не на север, а на юг, в Шанхай. И здесь решила, что набегалась. У графини три дочери, и им ещё бегать и бегать в жизни — двух из них уже удалось переправить к родне в Гонконг, старшая ещё делит с графиней квартиру на авеню Жоффр. Нельзя сказать, что графиня бедствует — в отличие от многих эмигрантов она не ютится в комнатушке, а снимает небольшую, но приличную квартиру, а вместе с зарабатываемыми дочерью деньгами ей удаётся откладывать деньги и на билет до Гонконга дочери. До Шанхая графиня уже работала преподавателем в Харбине. Она преподаёт хорошо, может быть, без выдумки, без огонька, но старательно и требовательно.
Миссис Донеган — американка. Она деятельна и смешлива. Ей сорок пять лет, она старается следить за внешностью и поддерживать остатки былой красоты. Её муж, мистер Донеган, три года назад получил выгодное предложение от одного из шанхайских банков и переехал из Балтимора сюда с семьёй. У миссис Донеган есть сын — семнадцатилетний румяный парень, сейчас заканчивающий учиться в иезуитской католической школе в районе Цзыкавей. Они собираются отправить его в Штаты поступать в Йель или Гарвард, у них есть на это деньги. Миссис Донеган, по правде сказать, могла бы и вовсе не работать, но не работать она не может. У себя в Балтиморе она владела маленьким кафе, здесь работает преподавателем. Деньги миссис Донеган особо не нужны — та скромная зарплата, которую миссис Донеган получает, не имеет в её семье никакого значения. Миссис Донеган просто не может сидеть без дела одна дома целый день, поэтому-то она и работает у Джейн. Ей нравится, это весело. Иногда даже слишком весело — один раз Джейн выяснила, что мисс Донеган проболтала со студентами все два часа занятия о каких-то посторонних делах (по-английски, конечно), даже ни разу не открыв учебник. Может быть, и не один раз такое было, просто в тот раз к Джейн пришёл серьёзный китайский господин с брюшком в костюме-тройке и пожаловался на преподавателя, которая их ничему не учит.
Мистер Ларкин — балбес. Молодой балбес, который сломал себе ногу и не счёл нужным позвонить. Он, конечно, потом извинялся, о, как он извинялся, и краснел, наверное, вполне натурально и искренне. У него просто много других дел, у мистера Ларкина. У него куча друзей и девушки, иногда прямо с курсов. Он хорош собой, мистер Ларкин — светлые курчавые волосы, светло-голубые глаза, белая кожа — всё то, чего нет у китайцев: неудивительно, что китайские девушки на него вешаются, а он-то и не против, он только за! Только вот единственная проблема, девушек ведь и по ресторанам надо водить, а у мистера Ларкина негусто с деньгами. Поэтому он работает у Джейн. Ну, работал, то есть, пока не сломал ногу.
И студенты. Всякие: двух слов ещё не умеющие по-английски связать, только в сентябре на начальный уровень пришедшие, другие, уже неплохо говорящие и читающие для упражнений «Шанхай Таймс». Китайцы — этих большинство. Кроме китайцев, две отдельных группы, в них все остальные — японцы, русские, французы, всем нужен английский, без английского сейчас никуда.
Первая пара в два часа — это для молодых, тем, кому повезло учиться в университете, кому не сидеть в конторе до шести или семи. Молодые китайцы и китаянки, все до одного в очках, студенты университета Цзяотун (коммуникаций) и Фудань (это имя собственное), будущая элита нации, отучившись у себя в альма матер, приходят к Джейн учить английский. Поедут после университета на стажировку в Америку, в Британию, как же им без английского? В университете им тоже преподают, но им же надо хорошо знать. А денег на курсы у них хватает — у них у всех богатые родители. Один из них, молодой прыщавый парень, так и вовсе родственник министра финансов Китая и, кстати, прямой потомок Конфуция. В какой стране живём, да? Учить английскому потомка Конфуция!
Первая пара закончилась. Перерыв. Следующая пара в четыре часа — в это время многие уже заканчивают работу, приходят на занятие. Чего у китайцев, да и вообще азиатов не отнять, так это усердия и трудолюбия, особенности в том, что касается учёбы — уже не первый раз подходил к Джейн китаец, которому не повезло с расписанием (ну никак работу с курсами не согласовать!) и предлагал поставить пару на шесть утра. Абсолютно серьёзно говорил — встану в пять, поеду на английский, поучусь, потом на работу, вот и всё. Но всё-таки пока что все пары начинались после обеда.
Джейн сидела в преподавательской, общаясь с коллегами, когда в дверь деликатно постучалась Мэйлинь и объявила, что мисс Молган к телефону плосит мистел Чао.
-
Все живые, без исключения! Здорово))).
|
- Дело - это хорошо, а тут да, и красиво, и весело. Не соскучишься у нас тут в Шанхае.
Игнатий Петрович на мгновение замялся, не зная, что сказать.
- А давайте я вам о соседях расскажу, - предложил он. - Преинтереснейшие личности тут у нас живут, надо заметить. Ну, начать с первого этажа, в первом нумере живёт мадемуазель Волкова, приличная девушка, работает стенографисткой. Во втором мальчишка-музыкант, недавно переехал из Маньчжурии. Скрипач! Сами можете представить, какие у нас тут теперь концерты каждый день, никакой филармонии не надо. В третьем нумере живёт капитан Иванкевич, то есть там, - Игнатий Петрович указал себе за спину, - он был капитан, а здесь лейтенант Русского полка. На Сеттльменте такой есть русский полк. Ну а на втором этаже живём мы с вами и вот, - Игнатий Петрович указал на дверь шестого нумера. - Местная знаменитость! Митенька! - эмигрант повысил голос, видимо, добиваясь, чтобы его услышали за дверью. - То есть это раньше он был Митенька, а теперь Магометушка! Между прочим, отец его, вечная память, был лично знаком с Львом Николаевичем, а что с сыном произошло! - Игнатий Петрович всплеснул руками. - Стал магометанином, представьте себе, молится пять раз в день, копит на хадж. Я всё ему говорю: Митенька, нет бы тебе в иудаизм перейти, я бы от тебя хоть раз в неделю отдых имел, так ведь...
В этот момент дверь шестого нумера отворилась, и Сергей увидел человека, странного даже по местным экзотичным меркам. Более всего Митенька-Магометушка напоминал ярославского крестьянина, которого баре шутки ради нарядили турком. Парень лет двадцати-двадцати пяти имел до неприличия славянскую внешность: широкое лицо, нос картошкой, небесно-голубые глаза и светло-русые волосы, но при этом на макушке его красовалась изукрашенная цветочными узорами тюбетейка, а одет он был в свободные турецкого покроя шаровары и распахнутый халат, обнажающий голую грудь, на которой висел зелёный амулет с арабской вязью жёлтой нитью.
- Троицкий! - высоким и пронзительным голосом обратился Митенька к Игнатию Петровичу, даже не взглянув на Сергея. - Троицкий! Вы мне надоели! Вы уже старый, Троицкий, вы скоро умрёте и попадёте в ад! Подумайте о своей душе! У вас священничья фамилия, так какого ж... вы можете до такой степени не иметь веры хоть во что-то! И перестаньте уже подкладывать свою свинину на мою полку в леднике!
- А то что? Ты мне, Митенька, джихад объявишь? - желчно съязвил Троицкий.
- И объявлю! И объявлю! - горячо и взволнованно закивал Митенька. - Я, конечно, не имею права на это, но я вам устрою! Уж будьте покойны, Троицкий! И я не Митенька, а Мохаммад! И не кладите вы свою свинину ко мне на полку! Если уж вам не хватает места, кладите туда говядину, а свинину к себе!
- Так ты ж её съешь тогда, Митенька, - резонно заметил Игнатий Петрович.
- Не съем! - пылко возразил Митенька. - Воровство - великий грех.
- Так ведь было же уже один раз!
- Это в прошлой жизни было! - нервно крикнул Митенька и захлопнул за собой дверь.
-
Читается как книга, ей богу.
|
-
Блин, как все закручено). Я явно уделял убийству Гу меньше внимания, чем надо))).
|
|
Удалившись в свою комнату, виконт наконец остался один и понял, что именно этого-то ему и не хватало, именно это и было необходимо, чтобы чуть отдохнуть. Не следует думать, что Чарльз был законченным мизантропом и сторонился людей — конечно, нет: виконт умел и любил проводить время в дружеской компании, но требовалось Чарльзу иногда и побыть в одиночестве, померить шагами комнату с сигаретой в руке, взвесить и осмыслить всё происходящее.
Так вот и ходил, достал из кармана портсигар и спичечницу, открыл портсигар, посмотрел, сколько сигарет осталось: двенадцать штук. Много, да и куда экономить, право слово. Чиркнул с шипением занявшейся пламенем спичкой, закурил, отбросил спичку на пол. Снял куртку, пиджак, осмотрел царапину под мышкой, ещё раз намочил платок бренди, ещё раз обработал рану. Приложился к фляжке, сделал глубокий глоток (знал бы, лучше б кальвадоса сюда взял — но где его в Египте, даже современном, а не древнем, найдёшь, кальвадос?), морщась, затянулся, ещё раз приложился, снова долго затянулся. Присел на кровать, накинул куртку на плечи, упёрся локтём о колено, ладонью о подбородок, стряхнул пепел на пол (в номере нет пепельницы, строгий выговор прислуге). Снова достал серебряную фляжку из кармана, поболтал в воздухе, по звуку пытаясь угадать, сколько бренди осталось. Фляжка в четверть пинты, так что, наверное, половину уже выпил. Если завтра умирать, надо не забыть выпить вторую половину.
Наверное, смерть всё-таки не худший выход. Вечность в этом месте всё-таки куда безнадёжнее, а так — ну умрёшь ты, раб Божий Чарльз, попадёшь — куда? В рай? За какие такие заслуги тебе в рай, за весёлые гулянки с оксфордскими друзьями, за поездку в Остенде в весёлые дома (а официально — осматривать достопримечательности)? Но и в ад как-то не за что: не убил ты никого, Чарльз, не воровал (хотя, если Бог — социалист? Господи, что за чушь, Бог-социалист?), а, ну да, прелюбодейстовал, да. Три раза ровно. Плохо, что я не католик — те-то хоть в чистилище верят. Пустая-то какая жизнь получилась, Господи.
Сигарета догорела. Чарльз бросил её на пол, вслед за спичкой. Надо было ложиться и отдохнуть, хоть сколько-нибудь времени. Виконт снял ботинки, улёгся на кровать, подложив кепку под голову и укрылся курткой. Револьвер в кармане тяжело давил на бок, и Чарльз выложил оружие, положив его рядом с собой. Всё-таки обидно, что, возможно, последнюю ночь приходится проводить в условиях таких спартанских. Вот бы в ванну сейчас.
Чарльз понемногу засыпал, и мысли плавно переходили с дел сегодняшних на прошлое: сначала на чугунную ванну, обтянутую изнутри марлей (как у Марата), затем на путешествие из Бристоля в Касабланку на раскалённом солнцем пароходе, затем почему-то на шестнадцатилетнюю мисс Мактаггард из Хартфорда (лет через пять, может быть, женюсь, машинально повторил про себя Чарльз). Вспоминался Йоркшир, старые стены замка Нэвот, сырые от мха и выпадающей росы, мощные контрфорсы, а под ними сочная трава в фут высотой, которую волнами гонит ветер с моря, тяжёлые средневековые сводчатые арки, обеденная зала с чиппендейловскими стульями вокруг длинного стола и задрапированными бархатом стенами, тьму в которой не в силах разогнать лучи редкого северного солнца из узких готических окон, а холод не в силах побороть большой камин, и согревает камин только небольшое пространство перед ним, застланное персидским ковром, а на ковре стоят два глубоких кресла с мягкими валиками подлокотников, и в одном из кресел сидит грузный седобородый господин, перелистывая альбом своих рисунков и акварелей, граф Карлайлский, отец Чарльза, а в другом, том, что рядом, сидит…
Чарльз резко вскинулся на кровати, разбуженный звуками, доносившимися из коридора. Нет, Чарльз, ты не в замке Нэвот, ты в Египте. Что происходит, кто там, снаружи? Неизвестно, непонятно. Явно не свои. Скользнул взгляд по ботинкам, аккуратно поставленным рядом с кроватью. Нет времени. Виконт схватил револьвер и подошёл к дверному косяку, осторожно выглянув наружу.
-
-
лет через пять, может быть, женюсь, машинально повторил про себя Чарльз
Все они так говорят! (с)
|
— Тогда мотив этого господина выбраться отсюда вполне очевиден, — вмешался в разговор Чарльз. — Быть разжалованным из фараонов назад в носители опахала и пребывать в этой должности вечность — мне бы тоже не понравилось. Но постойте, Эйе, кажется, говорил о том, что он создал эти… как вы, сэр Флиндерс, перевели это: врата? Но, во-первых, с какой целью? Казалось бы, не стало прежнего фараона — и дьявол бы с ним? Он что, предполагал установить какую-то связь между Египтом и миром мёртвых? А во-вторых, мне не до конца ясно, почему здесь оказался Эйе, умерший после фараона, но нет наследника Его Величества — как вы его, мисс Адлер, назвали, Тутанхетеп?
Чёртовы египетские имена, с ними одними можно с ума сойти, никаких мумий не требуется.
— Не представляет ли здешнее место что-то вроде фотографии определённой точки реального исторического времени, когда Эхнатон уже взял в жёны свою дочь, но наследник ещё не родился? Но чем обусловлен выбор такой точки? Я-то лично думаю, что созданием врат, но, может быть, вы, мистер Питри, спросите об этом мистера Панесхи?
Как заправский мистик, рассуждаю о метафизических вратах в другие измерения, фотографических снимках исторического времени и прочей чертовщине, — с горечью констатировал про себя виконт. Ох Господи, и зачем я попёрся в этот Египет? Сидел бы дома, рассуждал бы о прогрессе и либерализме, а сейчас — Господи, что сейчас со мной станет, ведь даже, пусть и удастся выбраться всем им из этого чёртова места, не удастся никогда убедить себя в нереальности происходившего, не удастся и скрыть свои враз поменявшиеся взгляды от других, и, вуаля, Чарльз, превратишься ты в глазах публики в того, над кем сам привык смеяться — мистика вроде Блаватской или Олкотта, спиритуалиста с доской под мышкой, полусумасшедшего-полушарлатана. Впрочем, не так уж они были и неправы, получается.
-
не удастся никогда убедить себя в нереальности происходившего, не удастся и скрыть свои враз поменявшиеся взгляды от других, и, вуаля, Чарльз,
Обожемой, над нами будут смеяться!!! Какой ужас!!!
|
Ого! А труп-то оказался в морге! Вот этого Крис никак не ожидал. Начинала уже было складываться картинка того, как какой-нибудь ширококостный красношеий заказчик где-нибудь… в Санкт-Петербурге, например, — заказал убить мистера Коновалова и по какой-то своей дикарской славянской прихоти обязательно потребовал привезти ему его голову (доктор Пике теперь уже представлялась в роли Саломеи) или хотя бы отрубленную руку с сизой татуировкой православного храма с куполами и витьеватыми кириллическими буквами по кругу. Поэтому неизвестные киллеры, поставленные перед необходимостью выкрасть тело, подняли цену раз эдак в десять (но русские олигархи, ведь известно, скупают английские клубы и замки, разве для них это деньги?) и были вынуждены вместо одного снайпера привлекать к делу целую бригаду, да ещё и с совсем не железными шансами на успех. А теперь выяснятся, что Коновалов лежит себе-полёживает в морге… стоп. А Коновалов ли там лежит? Не подменили ли убийцы тело? Нет, нет, слишком сложно, но, может быть, забрали что-то, что было у Коновалова при себе? Да, точно — какую-нибудь флешку с секретными документами — вполне могли стащить! Телефон, записную книжку и бумажник у него изъяли — но кто сказал, что у него не было чего-то другого, о чём знал лишь он и его недоброжелатели?
Но самое главное, труп был доставлен десять минут назад, а значит, привезшая его скорая до сих пор в Порт-Дюке или вот-вот выехала из города! А значит, немедленно объявить в розыск по Порт-Дюку и окрестностям машину джорджтаунской скорой помощи (цвет, модель), особое внимание уделить второму, четвёртому и шестому шоссе*, по которым машина, возможно, возвращается в Джорджтаун. Задерживать до выяснения обстоятельств машины, в составе экипажа которых будет находиться доктор — женщина европейской внешности около тридцати лет, кареглазая шатенка**. Сейчас каждая минута на счету!
А пока — связаться с Рутенбергом и узнать у него следующее:
— любые подробности об автомобиле, всё, что могло показаться медику странным или необычным;
— любые приметы членов экипажа джорджтаунской скорой;
— всё, что могло показаться Рутенбергу странным или необычным в поведении «медиков» на месте. Адекватной ли, на его взгляд, была медицинская квалификация доктора Пике и её спутников? Быстро, умело и адекватно ли заполнялись ими все бумаги?
Поговорив с доктором Рутенбергом, Крис решил связаться с моргом и задать те же вопросы медикам, принимавшим от «джорджтаунцев» труп Коновалова.
|
Джулия:— Я предупрежу клуб, чтобы вы были внесены в список посетителей, — ответил Марсель. — Столик уже будет заказан, просто осведомитесь у официанта, к какому подойти, и ждите меня. Или я вас уже буду ждать. Доброго вам дня, мадемуазель. Мартин:25.10.1935 13:22
Сучжоу, провинция Цзянсу,
Станция Сучжоу железнодорожной линии Шанхай-НанкинНа вопрос Мартина Джимми лишь неопределённо пожал плечами, усаживаясь в красный редакционный «Плимут»: Мартин уселся вслед за ним, и Джимми вывел машину из двора редакции на шумную авеню Эдуарда VII, направляясь на запад. Двигаясь в плотном потоке автомобилей, рикш и повозок, «Плимут» покатил по городу. Машина проехала мимо зияющего чёрными провалами окон и всё ещё обнесённого целлюлозной лентой «Амбассадора», у входа в который всё ещё висели застекленные афиши, рекламирующие выступление Евангелины Вонг. У дверей неторопливо прохаживался китаец-констебль Муниципальной полиции с дубинкой и пистолетом по бокам (недавние волнения даром не прошли). «Плимут» свернул на территорию Французской концессии (по той самой улице, по которой удрал Ли Сю, ещё и столб, в который его «Пежо» врезался, был помят), вывернул на просторную авеню Фош и направился на запад. — Я не знаю, на самом деле, Сяохэ, — сказал вдруг Джимми, с помощью Мартина прикурив сигарету (обычная его трубка сейчас была в вещдоках Муниципальной полиции, а новую он, видимо, купить не успел) и приспуская стекло. — Я не знаю вообще, что происходит. То ли Второй отдел мной заинтересовался, то ли другие бандиты какие-то. Я не знаю, что происходит вообще. Хорошо, что Леманн меня отправил сегодня за город, — Джимми глубоко затянулся, выпустил дым через ноздри, покачал головой, — хоть чуть подальше от этого бедлама. Вообще в Сучжоу надо жить, Сяохэ, а не в этом Шанхае. Там что, там спокойно. Канальчики, ивы до воды, девочки красивые, а главное — никто по-английски ни слова не знает. Ни слова, да? Говоришь «хэллоу», а они «чего, чего?» и глазёнками хлопают так очаровательно провинциально. Вот где рай-то. На небе есть рай, а на земле Сучжоу и Ханчжоу, — повторил Джимми старую китайскую поговорку. — Но нет, блин, — с чувством произнёс журналист, — прут все сюда, как им намазано! — и несколько раз коротко прогудел клаксоном, хотя особой нужды в этом и не было. Джимми, несмотря на всё своё американское прошлое, водил машину как истинный китаец: к светофорам относясь с презрением и реагируя разве что на регулировщиков, сигналя по поводу и без, хаотично маневрируя в потоке, двигаясь на пределе разрешённых в Шанхае двадцати пяти миль в час и то и дело угрожая задавить какого-нибудь незадачливого рикшу или перебегающего дорогу пешехода. Будь эти рикши и пешеходы лаоваями, уж наверняка кто-нибудь из них таки нашёл бы свою смерть под колёсами красного редакционного «Плимута», но китайцы, привыкшие к тому, как ведут себя водители, и сами были не промах и ловко выскальзывали чуть ли не из-под колёс машины, то и дело разражаясь в адрес Джимми ругательствами, потрясая кулаками, «куда прёшь!», мол, на что Джимми в очередной раз отвечал парой коротких гудков — «не суйтесь сами!». Первый раз попавшего на место пассажира лаовая такой стиль вождения наверняка мог бы привести в смятение, если не вовсе напугать, но Мартин, хоть сам машину и не водил, но в Китае жил с рождения, а потому к такому должен был быть привычен. Наконец, пограничный камень и ещё не снятый со вчерашнего дня блокпост с щуплыми солдатиками-вьетнамцами на границе Французской концессии остался позади, и «Плимут» покатил по китайской части города, а затем и по шоссе на Сучжоу. Шанхай оставался за спиной —многоквартирные трёх-четырёхэтажные дома сменились серыми рядами двухэтажных строений с лавкой на первом этаже и жильём на втором, а затем и они исчезли, и по обочинам дороги потянулись длинные каменные заборы с тёмными обитыми железными полосами воротами, из-за верхней кромки которых выглядывала черепица крыш с загнутыми углами. Машин здесь стало заметно меньше, а рикши и вовсе перестали попадаться, зато прибавилось грузовых трёхколёсных велосипедов и тележек, движимых то мулом или лошадью, а то и смуглым китайским мужичонкой или бабой, впрягшимися в оглобли. «Плимут», поднимая клубы пыли на не видавших метлы со времён династии Мин перекрёстках с покосившимися деревянными телеграфными столбами, катил на запад по разбитому и пребывающему в забвении и небрежении асфальтовому шоссе, соединявшему, между прочим, столицу Китайской Республики с крупнейшим её городом. Правда, как Мартин знал, новая дорога на Ханчжоу, недавно введённая в строй, была всё-таки куда приличней этой (хоть до автобанов фатерлянда ей было ещё далеко, но всё же учились китайцы, учились). Но Мартину с Джимми надо было не Ханчжоу, а в Сучжоу. Впрочем, рай на земле заменял и тот, и другой город. Тянулась за окном плоская как тарелка равнина дельты Янцзы, прочерченная тут и там узкими линиями каналов и речушек, на берегах которых ютились бедные деревеньки с тремя двухэтажными домами, одним каменным колодцем и трёхтысячелетней историей, окружённые кукурузными, ячменными и просяными полями. В стороне тянулась и железнодорожная насыпь, по которой на Сучжоу промчался, оставляя за собой длинный шлейф дыма, паровоз, тянущий небольшой почтовый состав. По крайней мере, стало быть, до Сучжоу поезда ходили. Над головой висело низкое серое небо, а через щель в боковом окне в салон врывался холодный отдающий близкой водой ветер. Наконец, деревеньки стали попадаться гуще, сливаясь в сучжоуские пригороды, их грязные улочки становились уже, а потом в просвете между домами показались и поросшие плющом и мхом разрушающиеся от времени стены Сучжоу, опоясывающие почти весь город. Там, за широким рвом-каналом, также полностью охватывающем город, и за толстыми каменными укреплениями начинался лабиринт узких средневековых улочек, таких же узких каналов, каменных мостиков, белых оград с чёрными лакированными резными решётками на окнах, за которыми скрывались знаменитые на весь Китай классические сады императорских чиновников, у которых считалось хорошим тоном иметь дом в Сучжоу, — но Мартину и Джимми надо было не туда, а к железнодорожному вокзалу, находящемуся вне городских стен, так как если кто-то где-то и мог знать, что и где именно произошло с нанкинским экспрессом, то только тут. Здание вокзала находилось на отшибе, рядом с бедными выселками, через которые к городским воротам проходила, пересекая широкий ров низким деревянным мостом, пыльная дорога. Станция имела каменный первый и деревянный второй этаж, часы на фронтоне, безыскусных каменных львов у главного входа и грязные лапшичные лотки и стойки с шашлычками на тонких деревянных шпажках и баоцзы и цзяоцзы по окружности площади у входа в вокзал, куда подвёл «Плимут» Джимми. Уже на подъезде Мартин заметил, что на путях здесь стоят несколько пассажирских составов. Припарковав машину на стоянке, где уже стояли несколько автомобилей с шанхайскими номерами, журналисты направились к главному входу и уже на подходе поняли, что оживление в вестибюле стоит совсем не провинциальное, а самое шанхайское. Обшитый побитыми светло-коричневыми панелями вестибюль с засиженным мухами большим белым таблом, пожухлыми пальмами в кадках и распахнутыми настежь высокими окнами был весь забит народом — пролетарского вида китайцами с узелками и чемоданами. Вся толпа сейчас оживлённо и возмущённо галдела, обращаясь к неразличимому из-за спин пассажиров человеку в другом конце переполненного вестибюля: — Когда пойдёт поезд?! — Дайте пароход до Уси тогда! — Замените поезд на пароход! — Автобусы пускай подгонят! — Автобусы гонят пусть!
-
Очень образно, очень богатый язык. Я так не сумею. Да, без всякой зависти могу констатировать: ОХК - талантище!
-
Ну что же, длительное ожидание мастерского поста себя целиком оправдало. Браво! Вообще, по моему скромному мнению, "Шанхай" - это такой себе богемный модуль ДМ'а, который не просто на пару голов выше остальных здесь по уровню проработки, литературности и вообще качества, но и своеобразный "паспорт качества" участвующих в нем игроков. Единственное, о чем жалею - что не попал в основной сюжет, присоединившись слишком поздно. Но даже просто чтение тредов прет местами сопоставимо с Хэммингуеем, например. Вот. Давно хотел это сказать, все повода не было. Кстати, ОХК, место инженера-механика на лодке все еще держу за тобой. Как обживешься - буду рад видеть.
-
-
Максинатор правду говорит. Под каждым словом его подпишусь, пожалуй, хм. Часто очень сам думаю, что не дотягиваю ддо уровня модуля, разные другие темные мысли при этом посещают меня... но все-таки модуль толкает на прогресс, заставляет читать всякое, учиться, и сам учит многому. Это ценность. Спасибо мастеру.
-
Вот! Вот такой пост должен быть на главной!
|
|
-
Надо думать, найди мистер Питри «вещи мертвецов» в гробнице, он бы бороду свою сжевал от радости, что ему к ним удастся прикоснуться, а здесь у него внезапно суеверие проснулось. Язва-то какая ваша светлость, оказывается)))
|
-
За достижения в предыдущих постах (не шучу).
Удачи.
|
24.10.1935 8:01
Шанхай, Международный сеттльмент,
Нинбо-роад, детективное агентство Сыма ТаяО надменности и чванстве шанхайцев, считавших себя привилегированной кастой среди полумиллиардного китайского населения, ходили легенды, и, в отличие от многих других, этот стереотип действительно имел под собой основания — пускай уж и невозможно было в стремительно растущем мегаполисе найти шанхайца в четвёртом поколении, да и тех, у кого здесь родились хотя бы бабка с дедом, было днём с огнём не сыскать, но вот уж зато если ты сам родился в Шанхае, то и зазнайство ты впитывал в кровь вместе с шанхайским диалектом, на котором ты демонстративно разговаривал с другими уроженцами Шанхая на зависть понаехавшим провинциалам, тщетно силящимся разобрать пару слов. Шанхайцы ходили, задрав нос перед всеми. Ты понаехал из провинции Цзянсу или Чжэцзян? Ты трамваев уже не боишься? А к светофорам привык? Из Бэйпина? И как там ваши загаженные верблюдами хутуны, дерьма всё ещё по колено или отчерпали? Из Маньчжурии? (в сторону) Что ж вас там японцы-то всех не перебили, а?.. Из Гуанчжоу? Бедняжка, здесь нет тараканов, придётся тебе привыкать есть что-нибудь другое. Из Сучжоу? У вас красивые каналы и девки: если бы убрать всё остальное, Шанхаю получился бы неплохой пригород. Из Ханчжоу? У вас красивое Западное озеро, а девки красивей в Сучжоу, так что из вас и пригорода не получится. Из Нанкина? Столичная штучка, думаешь? А ну-ка, сколько у вас в Нанкине небоскрёбов? Вот то-то же. Ты из провинции Сычуань??? Извини, у тебя точно нет блох? И только два китайских города было, при упоминании которых шанхайцы смущённо прятали подальше свою спесь: Гонконг и Макао. Эти два города были населены такими же южными китайцами, как и в соседнем Гуанчжоу, вот только помимо кантонского, говорили все тамошние жители на английском или португальском, имели западные имена и, самое-то главное, ещё и подданство западных держав, надёжно защищавшее их везде, где бы они ни жили. А ещё гонконгские китайцы пили зелёный чай из европейских чашек и даже — о ужас и анафема для всех материковых китайцев! — понабрались от англичан привычки пить чёрный (красный) чай с молоком! Разумеется, не стоит думать, что все гонконгцы жили как короли. Гонконг, как и Шанхай, был быстрорастущим (хоть и меньшим по размеру — хоть чем-то могли утешиться шанхайцы) городом, и далеко не одни лишь богатеи-тайпаны жили там: Виктория-харбор была переполнена грязными джонками, на которых в отсутствие крыши над головой ютились целые семьи, на Новых Территориях стояли диккенсовские потогонки, в которых с утра до ночи трудились тысячи рабочих, десятки тысяч людей, скученных в жарких и влажных трущобах района Сайинпунь, гибли от чумы и холеры, а лаоваи (или, по-кантонски, «гвайло») жили себе в отгороженном районе на Виктория-пик, куда китайцев начали пускать только пять лет назад (собак, надо думать, пускали и ранее). Сыма Тай (Дэвид Сыма) родился и вырос в Гонконге. Он тоже был подданным Великобритании, прекрасно говорил на английском языке (куда лучше, чем на стандартном китайском, который, в отличие от кантонского, не был ему родным), а к тому же ещё был отпрыском одного из самых известных китайских родов и даже потомком древних китайских императоров и великого историка Сыма Цяня. Одним словом, Дэвид Сыма был непростым китайцем. Между тем, Дэвид не был богачом — богатства автоматически не даёт ни британское подданство, ни даже двухтысячелетняя родословная: сколько их таких, Сыма, в Китае? Если бы каждый Сыма был богачом, то никому другому во всём Китае бы и гроша не досталось (а ведь есть ещё и потомки Конфуция, и Чжоу Дуньи, и прочих). Иными словами, гонконгские Сыма богатством не блистали, и Дэвид жил тоже скромно. Впрочем, богатства фамилия Сыма не могла дать, а вот гуаньси, то есть связи — вещь важнейшую для любого китайца, хоть из заснеженного Харбина, хоть из экваториального Сингапура — давала, ведь сколько их таких, Сыма, в Китае? Так и здесь: когда в 1920-м году молодой ещё Дэвид по своим обстоятельствам переехал в Шанхай, местные Сыма, конечно, помогли ему здесь устроиться, найти жильё, ссудили и деньгами под скромные проценты на первое время — и дело пошло! Не очень быстро, без особенных амбиций — но двигалось дело, приносило доход и давало уверенность в завтрашнем дне. Ну а то, что растёт не очень быстро — ему ли, человеку с двухтысячелетней родословной, куда-то спешить? Сейчас, через пятнадцать лет, штат детективного агентства Сыма Тая всё ещё насчитывал пять человек, на троих больше, чем пятнадцать лет назад. Располагалось агентство на первом этаже дома по Нинбо-роад — не самой шикарной улицы, не самой дорогой, но зато в самом центре Сеттльмента. Японский господин, у которого была назначена встреча с хозяином агентства, огляделся по сторонам, увидел в арке дома табличку «Детективное агентство Сыма Тая во дворе направо», прошёл через арку в тесный дворик, в котором заметил припаркованные «испано-сюизу» и новенький «форд», нашёл нужную обитую кожей дверь, нажал на кнопку звонка. Дверь японскому господину открыл вертлявый и худенький паренёк девятнадцати лет с короткой стрижкой, татуированной головой дракона, выползающей по шее из-под высокого воротника шерстяного свитера и аж целыми шестью пальцами на каждой из таких же татуированных рук. Парня этого звали Хуан Хуафань, и работал он у господина Сыма около года. Образования какого-то серьёзного у этого парня не было, из иностранных языков знал он один пиджин-инглиш, ни в чём особо не разбирался, зато был уличным парнем и знал кое-кого из банды Чжан Жэнькуя (которой, кстати, Дэвид отстёгивал ежемесячно кое-какие суммы), ну и, надо думать, работал и осведомителем для людей Чжана в агентстве Сыма. Вообще-то вещи, которыми агентство Сыма занималось, людей Чжана не сильно интересовали, а потому Сяохуан был безопасен, безобиден и полезен. Число «шесть» в китайской нумерологии означает коварство, и потому шестипалый Хуан Хуафань мнил себя прирождённым конспиратором и беспринципным злодеем, не являясь, однако, ни тем, ни другим — для конспиратора он был слишком простодушен, а для злодея — по-хулигански добродушен (ограбить человека можно, но потом ещё и избивать-то — зачем?) и честен. Наверное, благодаря своему последнему качеству Сяохуана и отправили из его банды присматривать за агентством Сыма. Роль шпиона коварному Сяохуану нравилась, и тот, разумеется, ни капли не подозревал, что начальнику давным-давно всё о нём известно. — Господин Тяньчжун? — обратился Хуан к стоявшему на пороге Дзиро. — Добро пожаловать, добро пожаловать, — парень с поклоном отвёл в сторону тихо прошелестевший занавес из нанизанных на нити тонких красных палочек и поёжился, — прохладно-то сегодня как, а? Всё, осень пришла. Дзиро вместе с Хуаном прошли по узкому тёмному коридору. Боковая дверь отворилась, и в коридор выглянула молодая миловидная круглолицая девушка с завитыми волосами в скромной блузке, брюках и накинутой на плечи шали. В руках она держала дымящийся чайник. Девушку эту звали Бу Хуэй, и с именем ей в жизни очень не повезло. Вообще-то звали её Пак Хей, потому что она была кореянкой, переехавшей с семьёй в Шанхай в одно время с Сыма, только было ей тогда десять лет, а ему двадцать. По-корейски Пак Хей звучит нормально, но вот по-китайски слова «бу хуэй» означают «не умею» — так её, разумеется, все с детства и звали, Неумеха. Девушка, конечно, пыталась избавиться от прозвища и даже взяла себе другое имя, распространённое и в Корее, и в Китае — Пак Мин Чу (Бу Миньчжу), но так никто её не звал, потому что Бу Миньчжу было скучным именем, а вот Бу Хуэй — забавным. Как и подобает азиатке, Бу Хуэй, если и обижалась на прозвище (а Сыма видел, что обижалась, и ещё как!), то ни крика предпочитала не поднимать, ни дуться даже показательно не спешила, а вместо этого только скромно пожимала узкими плечиками, уже привыкла, дескать, и молча доказывала делом несостоятельность насмешек. Умела Бу Хуэй, конечно, не всё, но вот уж что умела, то умела хорошо — толстые телефонные и адресные справочники, которыми были заставлены шкафы в агентстве, она чуть ли не наизусть все знала, а уж если требовалось найти какую-нибудь заметку в газете десятилетней давности, то в библиотеку нужно было посылать именно её — и уж можно было быть уверенным, что без нужной заметки она оттуда не выйдет. Ровно с таким же старанием и обстоятельностью подходила Бу и к остальным заданиям — будь то стенографирование прослушиваемых телефонных переговоров (да-да, и таким иногда баловались Сыма и Ко., только тсссс, муниципальной полиции ни слова!) или заваривание чая для всей фирмы. И даже жениха Бу нашла так же обстоятельно, быстро и безошибочно, как номер в справочнике — ещё месяц назад никто ничего о нём не знал, а вот на прошлой неделе Бу объявила коллегам, что в следующем году выходит замуж за какого-то стоматолога. Вот так-то. Бу Хуэй выполняла ещё и обязанности секретарши (держать отдельного сотрудника на этой должности было бы расточительно), и потому Дзиро сразу понял, что видит перед собой ту самую девушку, с которой говорил вчера по телефону. Увидев Дзиро, Бу Хуэй поклонилась и ушла вместе с чайником обратно в комнату, откуда вышла. Иногда она вела себя странновато, да. Хуан, в очередной раз поклонившись, открыл перед Дзиро дверь, и японец вошёл в небольшую комнату с двумя узкими окнами. Под потолком комнаты висел сейчас не работающий вентилятор с длинными лопастями, вдоль стен стояли застеклённые шкафы, наполненные книгами, папками и справочниками, а на стене висела большая карта Шанхая, утыканная булавками с прикреплёнными к ним листочками. На другой стене, между выходящих во двор окон, висела доска, куда детективы прикрепляли какие-то газетные вырезки — сейчас они тут висели уже в несколько слоёв. Помимо этого, стены были покрыты и другими бумагами, картинками и фотографиями, так что обоев под ними уже и видно-то не было. Близ двери стояла вешалка, завешанная пальто и шляпами, а в середине комнаты, между тремя столами, также заваленными бумагами, стоял большой масляный электрообогреватель — действительно, с утра было прохладно. За одним столом сидел русоволосый полноватый кареглазый европеец средних лет, одетый в полосатый пуловер с треугольным вырезом и в чёрные нарукавники. Увидев гостя, детектив встал из-за стола и поклонился. Дзиро безошибочно определил белоэмигранта — даже и не видя человека в лицо, а просто узнав, что в детективном агентстве со штатом пять человек работает лаовай, можно было не сомневаться в его национальности — ну правда, не британец же пойдёт работать в такое место? Дзиро, в общем-то, был прав в своём предположении, но чуть-чуть всё-таки ошибся: русский был не совсем русским, а татарином по имени Наиль Галимжанов. Казалось бы — зачем детективному агентству нанимать эмигранта? Но смысл был: во-первых, у Наиля были связи в русской колонии в Шанхае, во-вторых, он мог, не вызывая подозрений, шпионить за людьми в местах, где преобладали европейские лица (тюркские черты у него не были сильно выражены), да и боевой опыт мог пригодиться — как-никак Наиль отшагал вместе с белыми армиями всю Сибирь с запада на восток, а потом воевал в Китае наёмником ещё и в двадцатые, пока не получил тяжёлое ранение в 1924-м году (от ранения, кстати, эмигрант так до конца и не оправился и до сих пор прихрамывал). После этого Наиль и обосновался в Шанхае, работал тут сначала охранником, а затем семь лет назад нанялся в агентство Сыма. Дэвид сначала побаивался было, что Наиль окажется подвержен присущей русским эмигрантам меланхолии, которая могла бы сильно мешать работе, но, к счастью, ошибся: во-первых, Наиль почти не пил (хоть особо религиозен и не был), а во-вторых, то если даже о чём-то и тосковал, то виду не подавал, лишь один раз признавшись, что плохо быть единственным татарином на весь многомиллионный Шанхай: по-русски-то ещё тут есть с кем поговорить, а вот по-татарски, авызыңны сөгим, — разве что сам с собой. Ну или с уйгурами, но они его почти не понимают. С дочками своими, во всяком случае, Наиль по-татарски не говорил, видимо, не желая забивать детские головки ненужными знаниями — и без того говорят по-русски, по-китайски и по-английски немного, а татарский — кому он тут, в Шанхае, нужен? За столом напротив сидел китаец — худой и высокий. Этот детектив с первого взгляда впечатление производил неприятное — на обтянутом смуглой кожей бритом черепе выделялись впалые сизоватые от бритья щёки и маленькие глубоко посаженные чёрные глазки под высоким и узким лбом. Этот был одет в приличный костюм-тройку с запонками и платочком, торчащим из кармана. Вперившись чёрными глазками в Дзиро, детектив привстал и поклонился, а затем сел назад и пристукнул пару раз суховатыми пальцами по столу. Это был Чай Чжиюань или, по-английски, Джеки Чай — заместитель Дэвида и самый первый из его сотрудников. Когда-то давно Чай работал грузчиком в Пудуне, пил дешёвое рисовое вино из блюдец в тамошних кабаках, бил другим грузчикам морды и носил обноски. Но молодому детективу из Гонконга, только что приехавшему в Шанхай, требовался помощник, и, так как за неимением средств жил Дэвид сначала именно в Пудуне (любому, видевшему вблизи Хак Нам ( ссылка, никакой Пудун не страшен), то и нанял Дэвид своего ровесника-грузчика, тем более что тот и работать был согласен за еду, выпивку и место в углу. Парень неожиданно оказался толковым — благодаря своей рабочей закалке выносливым как лошадь и таким же неприхотливым. Стоять под дождём двенадцать часов, ожидая появления неверного мужа у дома любовницы? Легко. Бродить за человеком целый день, не имея возможности зайти перекусить? Так в порту тоже целый день голодный ходишь туда-сюда, только ещё с кирпичами на спине. Плюс к тому, Чай Чжиюань знал новый для Дэвида город, а к тому же был ещё и умён. Так и вышло, что работал он на Сыма Тая вот уже пятнадцать лет и уходить никуда не собирался. Конечно, за пятнадцать лет Чай изменился. Он полюбил комфорт и дорогие вещи — естественная метаморфоза для человека, первые двадцать лет жизни прожившего в глубокой нищете. На то, чтобы роскошествовать по-королевски, зарплаты Чая, конечно, не хватало, но на что хватало, на то он и тратил, а если не хватало, то занимал — после покупки своего нового форда Чай из долгов так и не вылезал, да и не стремился, похоже, занимая всё больше и больше на разные новые вещи. Не собирался Чай больше и выстаивать под дождём сутками — хватит, говорил, есть кому помоложе этим заниматься. Иногда ворчал и умничал, подвергая сомнению авторитет босса. Был подвержен запоям и загулам. Много у него недостатков было, чего уж там. Но пятнадцать лет опыта, да и не просто опыта, а совместной работы, перекрывали всё: если кому-то здесь и можно было верить безоговорочно, то это Чай Чжиюаню. Дэвиду никогда не приходилось приказывать подчинённому убить человека, но он знал, что прикажи он это Чаю — тот удивится, поворчит себе под нос, потребует прибавку к зарплате, конечно, а потом пойдёт и убьёт. Дзиро перевёл взгляд на третий стол, стоящий напротив выхода. А это, конечно, сам начальник — средних лет аккуратно подстриженный круглолицый китаец в очках в тонкой металлической оправе.
-
Как же удалось тебе из одного поста сделать повествование о нелегкой судьбе частного детектива и каждого из его помощников, антураж их агентства и при этом все это уместить в рамки сюжета? Ну я не знаю, это ж просто здорово.
-
большой ПЛЮС большому посту. У тебя много - не означает нудно, и наоборот, чем больше, тем смачнее. Прям шикарно. И за сотрудников добротных и интересных ПЛЮСИЩЕ.
-
Шанхайцы ходили, задрав нос перед всеми. Ты понаехал из провинции Цзянсу или Чжэцзян? Ты трамваев уже не боишься? А к светофорам привык? Из Бэйпина? И как там ваши загаженные верблюдами хутуны, дерьма всё ещё по колено или отчерпали? Из Маньчжурии? (в сторону) Что ж вас там японцы-то всех не перебили, а?.. Из Гуанчжоу? Бедняжка, здесь нет тараканов, придётся тебе привыкать есть что-нибудь другое. Из Сучжоу? У вас красивые каналы и девки: если бы убрать всё остальное, Шанхаю получился бы неплохой пригород. Из Ханчжоу? У вас красивое Западное озеро, а девки красивей в Сучжоу, так что из вас и пригорода не получится. Из Нанкина? Столичная штучка, думаешь? А ну-ка, сколько у вас в Нанкине небоскрёбов? Вот то-то же. Ты из провинции Сычуань??? Извини, у тебя точно нет блох? Гениален, зараза!!!!
|
На протяжении всего пути до палат царицы Чарльз молчал, пребывая в тягостных раздумьях на метафизические темы, связанные со своей, как он полагал, уже начавшейся загробной жизнью, а потому, когда царица назвала их «пришельцами из мира живых», несколько воспрял духом. Впрочем, радость быстро ушла, сменившись вдруг накатившей тупой апатией. Чарльз искренне пытался заставить себя восхититься красотой убранства дворца, царственным величием Нефер-Нефер-Атон, да хоть даже фактом говорящей мумии — но у него не получалось: виконту не хотелось смотреть ни на стенные росписи, ни на големов-ушабти, ни на царицу, ни на спутников даже — виконта тошнило. Виконту были безразличны красота и величие. Виконту только хотелось вернуться в Лондон или ещё лучше в замок Нэвот, повидать маму, бабушку, братьев и сестёр (их у него в общей сложности было аж десять), полежать в пуховой постели, выпить пунша, принять горячую ванну, о да, ванну принять, вот этого хотелось больше всего.
Не удержался виконт и тихонько вздохнул. Ещё раз попытался прислушаться к словам царицы, которые старательно переводил для них мистер Питри. Что-то про своего мужа и ушабти. Чарльз согласно кивал на слова учёного, но мыслями опять был уже далеко отсюда. Низкое, недостойное чувство жалости к себе вдруг накатило: ну почему со мной такое случилось? Ну почему не с кем-нибудь ещё, а вот обязательно со мной! Какого дьявола я вообще пошёл в эту гробницу? Ох, Пит, старый пройдоха Пит — ни черта лысого ты не знал о египтологии и фараонах, а рассудком своим деревенским, крепким, посконным, оказался умнее многомудрого мистера Питри, чего уж там про Чарльза говорить.
Чарльз устыдился своих мыслей, одёрнул себя и снова принялся слушать. Но говорить уже закончили, предложив «пришельцам из мира живых» перейти в какие-то покои. Ну что ж, в покои так в покои. Чарльз не был настроен спорить и пошёл вслед за всеми.
Добравшись до покоев, виконт сел на лавку, давая отдых гудящим ногам, откинулся, упёршись спиной о край стола. Хотелось снять ботинки и вообще прилечь, как вон Кингсфорд, но не решился пока, сидел. Курить не хотелось, есть, может, и хотелось, но больше хотелось просто отдохнуть, прилечь куда-нибудь — да вон хоть на пол! — поднять воротник куртки, подложить кепку под щеку, отвернуться носом к стенке и лежать так, и, может быть, тихо-тихо застонать под нос что-нибудь, так ведь жалко себя несчастного, так ведь мне плохо сейчас, так тоскливо. Чёртовы фараоны, чёртовы ушабти, чёртов Египет, чтоб им всем провалиться.
Нет, надо собраться с духом, нельзя позволять этой апатии и тоске себя победить — даже не потому что, если лежать носом к стенке, то уж точно никогда отсюда не выберешься, а только лишь потому, что вести себя так нельзя. Нельзя и всё тут. Низко это и недостойно. Чарльз поморгал, продирая слипающиеся уже глаза, и снова постарался прислушаться к словам мистера Питри. И даже сказал что-то про гарем. А тут и гость пришёл. Плохо, что Чарльз не мог поддержать разговор с ним.
-
Обретя долгожданную возможность плюсовать - плюсую. Прекрасный, объемный персонаж.
|
Шанхай Таймс, экстренный утренний выпуск 24 октября (4 страницы) ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ АТАКА В ЦЕНТРЕ ШАНХАЯ: 30 ЧЕЛОВЕК МЕРТВЫ
ЖУРНАЛИСТЫ ЭС-ТИ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ТЕРАКТАПередовицаБольшая фотография главного входа «Амбассадор баллрум», сделанная ночью: разбитые стеклянные двери, жёлтая лента, протянутая перед входом, полицейские у дверей, несколько чёрных машин припарковано рядом.
«Разгромленный бальный зал «Амбассадор»»
Шокирующее известие потрясло город минувшей ночью: на бальный зал «Амбассадор», где проходил приём в честь дня рождения командующего Шанхайской группой морской пехоты генерал-майора Ёсидзуми, было совершено нападение корейских и китайских террористов. В результате не имеющего прецедентов в новейшей истории Китая нападения погибло более 30 человек, в основном японские военнослужащие, ещё несколько десятков ранены. Погиб и господин генерал-майор Ёсидзуми, который, очевидно, и являлся главной целью террористов. (врезка: «В настоящий момент все раненые доставлены в Лестерскую больницу по адресу Шаньдун-роад, 7. Убитые доставляются в ту же Лестерскую больницу и в Японскую больницу по адресу Рэйндж-роад, 10».) По предварительной информации, нападение осуществили до десятка террористов, возглавляемые китайцем, назвавшимся Ли Сю. Ему и ещё одному его сообщнику удалось уйти, прикрываясь заложниками. Муниципальная полиция, оперативно прибывшая на место происшествия, смогла обеспечить быструю и эффективную эвакуацию людей из здания, оказание им первой помощи и блокирование террористов внутри здания. В течение короткого времени полиция вела переговоры с назвавшимся Ли Сю, в ходе которых террорист не сделал никаких политических заявлений, а лишь требовал возможности выхода в обмен на заложников, среди которых была и журналистка Эс-Ти. Опасаясь гибели ни в чём не повинных людей, полиции ничего не оставалось делать, как пойти на условия террористов, благодаря чему жизни всех заложников были спасены. Низ первой страницыЯПОНСКОЕ КОНСУЛЬСТВО МОЛЧИТ«Шанхай Таймс» не удалось получить комментариев по поводу теракта от японского консульства в Шанхае и посольства в Нанкине. Предполагается, что официальное заявление будет сделано в течение сегодняшнего дня. Ничего не известно по поводу действий, которые японская сторона намеревается предпринять в связи со случившимся. НАШИ ОЧЕВИДЦЫ ТЕРАКТАДва журналиста «Шанхай Таймс», Джулия Лян и Джимми Чен, находились в «Амбассадор баллрум» во время нападения. Ещё один наш журналист, Мартин Хэрингслейк, подоспел к месту происшествия в первые минуты после нападения. Их рассказы о виденном своими глазами читайте на второй-четвёртой страницах нашего экстренного выпуска. Редакция «Шанхай Таймс» сердечно благодарит Шанхайскую муниципальную полицию за профессионализм в освобождении заложников, в числе которых не посчастливилось оказаться Джулии Лян (её репортаж см. на странице 2). (врезка: Предварительный список погибших в ходе атаки см. на стр. 4) ПОЛИЦИЯ НА ХВОСТЕ У ТЕРРОРИСТОВПолицейским организациям всех трёх частей города, оперативно подключившимся к поиску скрывшихся террористов, удалось выйти на их след, и поимка по горячим следам назвавшегося Ли Сю, его сообщника и возможных заказчиков теракта, по словам источника в китайской полиции, весьма вероятна в течение сегодняшнего дня. Тем не менее, не исключено, что если назвавшемуся Ли Сю и его сообщнику в ближайшее время удастся уйти от поисков и покинуть Шанхай или залечь на дно, поиски его могут заметно усложниться. Стр.2ИЗ ПЕРВЫХ УСТ: ДЖУЛИЯ ЛЯН(фото Джулии) (иллюстрация, карандашный рисунок: - пустой зал, как виден со сцены, поваленные столики, несколько трупов на танцевальном паркете. Подпись: «Зал «Амбассадора» после налёта террористов». Джимми Чен) Стр.3ИЗ ПЕРВЫХ УСТ: ДЖИММИ ЧЕН(фото Джимми) (иллюстрация, карандашный рисунок: коридор, по которому убегают, отстреливаясь, не глядя, два молодых азиата – один в пиджаке, другой в свитере. За ними гонятся люди в военных мундирах и с японскими мечами наголо. )
Подпись: «Поимка террористов офицерами японской армии». Джимми Чен)
Это наступает неожиданно, подобно землетрясению или сердечному приступу: ещё минуту назад ты сидел в баре за бокалом виски и слушал, как из зала доносится голос знаменитой певицы Евангелины Вонг, а уже через десять секунд всё меняется совершенно непостижимым образом, и ты оказываешься втянут в события, которые могут коренным образом изменить твою жизнь или вовсе её прекратить. Впрочем, о подобном в такой момент не думаешь – мало о чём вообще можно думать в такой момент из-за захлёстывающего тебя с головы до ног чувства животного страха и ужаса, когда слышишь, как в десяти метрах за стеной в танцевальном зале начинается стрельба и поднимаются крики – люди кричат по-японски, по-английски и по-китайски, но для того чтобы понимать, о чём они кричат, полиглотом быть не надо.
В такой момент забываешь, что ты журналист и тебе следует быть в центре событий, забываешь и о том, что ты мужчина, и тебе следует стремиться туда, где опасность, чтобы своими руками задушить тех, кто напал на безоружных (или вооружённых одними лишь церемониальными мечами) гостей бального зала. Чувствуешь только страх и животное желание жить, которое толкает тебя в спину прочь от выстрелов и криков, вслед за улепётывающим в подсобку барменом, и в этот момент кажется, что бармен-то уж точно знает, куда бежать, и он тебя выведет наружу.
Террористы прекрасно знают, что ты побежишь именно туда, и поэтому чёрный ход, конечно, перекрыт, и, узнав, что через чёрный ход не пройти, люди останавливаются и толпятся в коридоре подсобных помещений, затравленно озираются по сторонам в поисках укрытия. Укрытие находится за ближайшей дверью, в кухне, где уже прячутся местные повара, дрожа от мысли, что в дверь могут зайти не такие же, как они, перепуганные люди, а бандиты и террористы.
После этого мы сидим в кухне. Нас около десятка человек – шанхайлэндеры, два банкира, актёр и преподаватель английского, официант, рабочие и повара, мы сидим, со страхом глядя на дверь и припирая её плечами, а в зале в это время убивают людей, и нам остаётся только радоваться, что убивают не нас. Мы вооружаемся чем можем – кухонными тесаками и почему-то банками с томатной пастой, мы жадно вслушиваемся в то, что происходит за дверью, и наконец решаемся приоткрыть её и выглянуть наружу.
Выглянув же, мы видим, как по коридору удирают те, кто устроил всё это, из-за кого мы прячемся в кухне, и глядя на этих двух корейцев, улепётывающих со всех ног от настигающих их японских офицеров, с одними мечами бегущими за людьми с пистолетами, не удаётся сопоставить образ этих жалких и совсем нестрашных молодых людей – детей почти, с тем, что эти дети устроили несколько минут назад.
(Небольшая иллюстрация: лицо молодого азиата с разбитой губой и жалостливым взглядом
Подпись: «Пойманный корейский террорист». Джимми Чен)
Одного ловят прямо на месте, второму удаётся добежать до своих друзей, перекрывших чёрный ход, и оттянуть свою поимку на какое-то время, пока полиция, окружившая здание, не обезвреживает бандитов у главного входа и, убедившись, что все посетители в безопасности, принуждает оставшихся террористов сложить оружие.
Но мы этого уже не видим: испуганные происходящим, мы закрываем дверь и ещё пять-десять бесконечно долгих минут сидим в своей кухне, боясь высунуть из неё носа, а потом выходим – осторожно, один за одним, крадёмся по пустым коридорам как воры, выглядываем на разгромленную сцену, где лежит тело убитого музыканта, оглядываем фантасмагорическую картину пустого, покинутого зала с щербинами от пуль на стенах, разбитыми бокалами, поваленными стульями и потерянными личными вещами, и трупами, трупами на полу и возле стен, и только потом, ошеломлённые и растерянные, ещё до конца не понимающие, что такое с нами только что произошло и как нам всем повезло остаться в живых, покидаем здание.
История с нападением на «Амбассадор» только начинается: полициям нашего города ещё предстоит выяснить, кто стоял за нападавшими, и как им удалось совершить такую наглую атаку в центре четырехмиллионного города, ещё предстоит нам почувствовать на себе последствия этого нападения, и Бог знает, какими они будут, эти последствия, но пока мы только радуемся, что остались живы и скорбим по тем, кому не так повезло как нам.
(фото Мартина) Шанхай Морнинг ПостУтренний выпуск 24 октябряНАПАДЕНИЕ НА БАЛЬНЫЙ ЗАЛ «АМБАССАДОР»
ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА В ПОВЫШЕННОЙ БОЕГОТОВНОСТИ
Весь номер посвящён описанию произошедшего в «Амбассадоре», приводятся только заметки, в которых рассказывается то, что журналист Эс-Ти пропустили. Первая страница, снизу: ЯПОНСКАЯ МОРСКАЯ ПЕХОТА В ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИПо сообщениям корреспондентов с мест на момент 5 утра сегодняшнего дня Шанхайская группа морской пехоты, расквартированная в бараках в районе Хункоу, была поднята по тревоге и перешла в режим повышенной боеготовности. Входы на базу морской пехоты охраняются усиленными караулами, периметр базы укрепляется мешками с песком, сооружаются огневые точки. Перед самым выходом номера в печать поступила информация, что на территорию японской военной базы заехали пять автобусов с японскими дипломатическими номерами. ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ ЭСКАДРЕПо сообщениям из г. Усун*, команды находящегося с визитом в Шанхай лёгкого крейсера Японского Императорского флота «Юбари» и несущих патрульную службу на реке Янцзы канонерок «Котака» и «Атами» также перешли в режим повышенной готовности к активным действиям. В случае, если крейсер двинется в Шанхай, в целях обеспечения безопасности за ним также могут последовать находящиеся в том же Усуне канонерки китайского флота «Чутун» и «Вэйнин». Реакцию находящихся в Шанхае и близ него сил британского, американского, французского, итальянского и германского флотов пока предсказать невозможно.
-
и дольше века длится день..
|
Шанхайские газеты, вечер 24 октябряШАНХАЙ ТАЙМСПервая полосаПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ПРЕОДОЛЁН
ЯПОНЦЫ ИСКЛЮЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВТОРЖЕНИЯЗаявление японского посла в Китае г-на Акира АриёсиГосподин Чрезвычайный и полномочный посол Японской Империи в Китайской Республике г-н Акира Ариёси сегодня днём прибыл в Шанхай, где провёл переговоры с Председателем Шанхайского муниципального совета г-ном Генри Э. Арнольдом, а также со специальным представителем Центрального исполнительного комитета Гоминьдана Фу Чэнем. В ходе переговоров г-н Акира выразил уверенность в необходимости разрешения возникшего кризиса мирными методами. В свою очередь г-н Арнольд и г-н Фу заявили, что предпримут все необходимые шаги по обеспечению безопасности подданных Японской Империи, проживающих в Шанхае и окрестностях. На настоящий момент г-н Акира остаётся в Шанхае.  Японские жители Шанхая приветствуют господина посла Крейсер «Юбари» и речные канонерки «Атами» и «Котака», вставшие на якорь напротив Бунда сегодня утром, около 4 часов пополудни снялись с якоря и направились в г. Усун, откуда и вышли ранним утром. Уход кораблей совпал с разгоном демонстрации протеста против возможной японской агрессии на Бунде. Ни в консульстве Японии, ни в штабе японской речной флотилии в Усуне не удалось добиться официальных комментариев на этот счёт. По сообщению же источника в консульстве, пожелавшего остаться неназванным, весь вояж военных кораблей являлся инициативой японского флотского командования и не был согласован с японскими дипломатическими представителями или властями в Японии. Передвижения японской морской пехотыПо сообщениям корреспондентов с мест, на протяжении всего дня наблюдались энергичные перемещения сил японской морской пехоты между базой речной флотилии в Усуне и военной базой морской пехоты в районе Хункоу. На протяжении первой половины дня японцы стягивали силы на базу в Хункоу, после же того, как военную базу посетил посол Японии г-н Акира Ариёси, грузовики с морской пехотой начали отправляться назад в Усун. (стр. 2) Некролог господину генерал-майору Ёсидзуми ХисаоВ некрологе описана краткая биография генерал-майора. Господин Ёсидзуми родился в 1882 г. в маленькой деревне в префектуре Ниигата. Семья будущего генерала была небогата, и отцу стоило больших усилий пристроить сына в военно-морское училище, что, однако, было бы невозможно, если бы сам г-н Ёсидзуми не отличался выдающимися способностями, благодаря которым окончил школу с отличием. Во время русско-японской войны лейтенант Ёсидзуми служил на кораблях Императорского флота, в частности, принимал участие в знаменитом Цусимском сражении. В 1920-е годы г-н Ёсидзуми принимал деятельное участие в формировании сил японской морской пехоты. В Шанхай г-н Ёсидзуми попал в 1932-м году, когда принимал участие в известных событиях в районах Хункоу и Чжабэй. После гибели генерала Сиракава от рук корейского террориста в апреле 1932-го года генерал-майор Ёсидзуми был назначен командующим Шанхайской группой японской морской пехоты.
Генерал Ёсидзуми был известен как человек, принадлежащий к умеренному крылу японского военного истеблишмента. Генерал неоднократно высказывался о недопустимости опрометчивых действий, как с японской, так и с китайской стороны. Определённую известность в Шанхае получил случай последних дней боевых действий 1932-го года, когда полковнику Ёсидзуми удалось договориться с командиром одного из окружённых в городе отрядов китайских войск о сдаче оружия взамен на беспрепятственный выход из города.
Сейчас должность исполняющего обязанности командующего Шанхайской группой морской пехоты принял на себя начальник штаба группы, полковник Мори Такео. (стр. 12) Идея на модуль Максинатору:
Знаменитые копи царя Соломона могут быть открыты19 октября, Йоханнесбург, Южная Африка — Секреты таинственного Зимбабве, руины мёртвой цивилизации, которые занимали внимание археологов многие годы, наконец будут раскрыты экспедицией, готовящейся при поддержке правительства Родезии. Проф. Рэймонд Дарт, антрополог, нашедший известный таунгский череп ( ссылка) и хорошо знающий местные руины, полагает, что будущая экспедиция наконец раскроет все их секреты. Руины величественных зданий, расположенные в области Машоналэнд рядом с г. Виктория, уже на протяжении полувека привлекают внимание археологов, спорящих об их возрасте и назначении. Одни полагают, что эти руины и являются легендарными копями царя Соломона, тогда как другие считают, что они являются остатками крепости, защищавшей большой коммерческий центр, возникший рядом с расположенными неподалёку золотыми рудниками. Учёные полагают, что Башня Тишины, возвышающаяся над руинами, использовалась древними для кремации останков своих мёртвых. Дарт утверждает: «Когда мы найдём их гробницы, мы наконец сможем приблизиться к раскрытию тайн Зимбабве». Предполагается, что экспедиция займёт около пяти лет. Днём: переменная облачность, ветер северный, порывистый. Температура +10… +12 Ночью: переменная облачность, ветер северный, порывистый. Температура +2…+5 НОРТ ЧАЙНА ДЭЙЛИ НЬЮСпервая полосаДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА НА БУНДЕ
ЧЕТВЕРО УБИТЫХ И ДЕСЯТКИ РАНЕНЫХДемонстрация протеста против возможной японской агрессии, с полудня сегодняшнего дня собиравшаяся на Бунде, была разогнана. Протестующие в числе от пяти до десяти тысяч человек, парализовавшие городское движение и работу компаний, расположенных на центральной набережной Шанхая, были разогнаны силами Шанхайской муниципальной полиции и Добровольческого корпуса. Демонстрация, стихийно собравшаяся на набережной в ответ на появление японских военных кораблей напротив Бунда, быстро потеряла свой антияпонский настрой и превратилась в массовые беспорядки с обычным для Китая настроем против всякого иностранного присутствия: демонстранты били стёкла, жгли иностранные флаги, машины и трамваи и выкрикивали шовинистические лозунги. Ситуация ещё более усложнялась ввиду присутствия обычно многочисленных иностранных (в т.ч. японских) граждан и подданных на главной набережной Шанхая, по отношению к которым толпа могла повести себя в высшей степени недружелюбно. Многие компании и организации, расположенные на Бунде, в их числе главный офис шанхайской таможни, Гонконгско-Шанхайский банк и другие, прекратили работу и перешли на осадное положение. Власти воздерживались от силового решения, пока демонстранты не применили оружие по отношению к полисменам-сикхам в оцеплении, после чего командир подразделения сикхов приказал выстрелить поверх голов демонстрантов. Как особо заявляют официальные лица в SMP, приказа стрелять на поражение не было. Основной причиной травм стала давка, образовавшаяся сразу после начала стрельбы, но рассосавшаяся всего через несколько минут, после того как полицейские, перекрывшие выходы с набережной на Кантон-роад и Фучжоу-роад открыли демонстрантам дорогу. Тем не менее, в давке по предварительным сведениям пострадали несколько десятков человек, большинство из которых были доставлены в Международный диспансер на Фучжоу-роад. На настоящий момент подтверждено четверо погибших. Редакция «Норт Чайна Дэйли Ньюс» выдержала четырёхчасовую осаду под градом камней и бутылок с набережной, не прекращая работы. Наш репортёр Кеннет Инь пострадал от удара бутылкой по голове и был помещён в больницу с сотрясением мозга. Британский авианосец «Гермес» движется к ШанхаюБританский авианосец «Гермес», направлявшийся из Гонконга с визитом в японский порт Нагасаки, сменил свой курс и в настоящее время движется по направлению к Шанхаю. Очевидно, что боевые самолёты, появившиеся сегодня днём над городом, взлетели с палубы британского авианосца. Китайская сторона пока никак не прокомментировала появление иностранных ВВС над китайской территорией, а также возможный незапланированный визит британского корабля в Шанхай. (стр. 2) Корейские террористы дают показанияЗахваченные живьём прошлым вечером два террориста-участника нападения на «Амбассадор баллрум», находящиеся сейчас на японской базе в Хункоу, начали давать признательные показания. По заявлению представителей японской консульской полиции террористы принадлежат к одной из корейских праворадикальных националистических организаций. Известно, что корейский национализм находит широкую поддержку в Китае, в том числе и на самом высоком уровне. (стр. 10) В мире:22 октября, Женева, Швейцария, — Великобритания, председательствующая сейчас в Лиге Наций, призывает к санкциям против Италии в связи с продолжающейся агрессией против Эфиопии. В случае, если решение о санкциях будет принято, Италия окажется практически изолированной в экономическом смысле от всего мира. 22 октября, Питтсбург, США — В Питтсбурге открывается международная выставка фонда Карнеги «Внутри и снаружи», в которой принимают участие английская художница-импрессионистка Лаура Найт ( ссылка) и известный немецкий экспрессионист Отто Дикс ( ссылка) Эфиопская кампания доказывает, что войны начинаются на пустом местеКомиссия Лиги Наций по расследованию инцидента в Уал-уале, предшествовавшего кампании, заявляет — первый выстрел мог произойти по ошибке
Уильям Филипп Симмс19 октября, Вашингтон, США Конфликт в Африке являет собой прекрасный пример того, как войны начинаются на пустом месте.
Иногда пушки начинают стрелять сами по себе, и именно это и повлекло за собой начало нынешнего конфликта. На столе передо мной лежит документ, ещё не опубликованный в этой стране: отчёт комиссии Лиги Наций по расследованию инцидента в Уал-уале, ставшим Сараево нынешней итало-эфиопской войны.
Из документа следует, что не виноват никто. Несмотря на то, что в стычке между итальянскими и эфиопскими войсками при Уал-уале погибло более 150 человек, документ утверждает, что всё это было «случайным происшествием». Все просто были на взводе. И просто начали стрелять друг в друга. И началась война.
Отчёт комиссии насчитывает 38 страниц французского текста. Из них первые 13 страниц посвящены истории отношений Италии и Эфиопии. Из остальных же страниц мы можем узнать вот что:
Поселение Уал-уал расположено в пустынной местности, которую часто посещают кочевые племена из британского и итальянского Сомалилэнда, а также из Эфиопии. Основную ценность поселение представляет в связи с тем, что в нём расположено около 300 колодцев, вода из которых жизненно необходима проживающим там людям и скоту. В 1928-м году местность перешла под итальянское управление, а в 1930-м году была оккупирована Италией. Итальянцы укрепили поселение и разместили в нём силы из той же части, что была дислоцирована на форпосте Уардар в восьми милях от поселения.
Отчёт комиссии Лиги заявляет, что, несмотря на то, что Эфиопия никогда не признавала суверенитет Италии над поселением, эта страна в то же время ни разу не подала официального протеста на действия итальянцев. Неудивительно поэтому, что итальянским стали считать поселение сначала итальянцы, а вслед за ними и посещавшие Уал-уал британцы и эфиопы. В то же время эфиопские власти продолжали считать Уал-уал частью Эфиопии, и, разумеется, это вызывало подозрения и трения. Какое-то время все стороны жили в такой атмосфере, но совершенно очевидно, что в подобных условиях малейшая искра может вызвать пожар.
22 ноября «армия» из 600 эфиопских солдат выдвинулась к Уал-уалу. Одним из офицеров этой «армии» был некий Омар Самантар, приговорённый к смерти итальянскими властями за убийство итальянского офицера и бежавший от правосудия в Эфиопию. Его «армия» сопровождала англо-эфиопскую миссию, имевшую цель уточнения границ.
Итальянский форпост удерживали около 160 человек из итальянских колониальных войск. Они воспротивились продвижению эфиопов на территорию, которую считали своей, но были вынуждены отступить под давлением, оставив эфиопам с десяток колодцев с водой.
На следующий день на итальянских позициях появился британский подполковник Клиффорд, который заявил протест в связи с остановкой их миссии. Командир итальянских войск, капитан Чиматура, ответил, что он солдат, а не дипломат и потому никакого мнения на этот счёт иметь не может. Он предложил подполковнику оставаться на месте, пока вопрос о границах не будет разрешён уполномоченными лицами. Во время этих переговоров над британским лагерем на бреющем полёте пролетели два итальянских самолёта. Британские офицеры заявили, что итальянцы целились в них из пулемётов, на что итальянские лётчики позднее заявили, что действительно целились, но не из пулемётов, а из фотоаппаратов. Комиссия Лиги подтвердила это объяснение.
Переговоры затянулись на несколько дней, в течение которых напряжённость только возрастала. Подполковник Клиффорд принял решение вернуться в штаб своей части, но прочие войска остались на месте и были усилены позднее до численности в 1400–1600 человек.
Гром грянул в первых числах декабря. Обе стороны стояли близко друг к другу, иногда разделённые парой-другой шагов, и вот, наконец, кто-то выстрелил. Комиссии не удалось выяснить, был ли выстрел случаен или сделан по птице или зайцу — сейчас этого никто не сможет сказать.
После того, как битва окончилась, на поле осталось лежать 160 человек: 130 эфиопов и 30 итальянских солдат. Кроме того, более 100 итальянских солдат были ранены. Один из эфиопских свидетелей заявил, что своими ушами слышал команду итальянского офицера “a terra!” (ложись), а затем “fuoco!” (огонь). Но в итальянских колониальных войсках команды всегда отдаются на местном языке, а не по-итальянски.
Исходя из этого, комиссия заявила в своём отчёте, что весь инцидент являл собой цепь несчастных случайностей, и случайным, возможно, был и первый выстрел.
-
(стр. 12)
Скрыть содержимое
Идея на модуль Максинатору:
)))))))))
|
Чарльз, конечно, был агностиком. Конечно — потому что сложно предположить иное мировоззрение у образованного либерально мыслящего молодого человека поздней викторианской эпохи: мозг таких людей был уже безнадёжно отравлен дарвинизмом, и беспомощные попытки религиозных деятелей зашить на живую нитку образовавшиеся в парадигме мира прорехи (вроде трактата «Пуп Земли», в котором автор утверждал, что Бог создал все ископаемые с иезуитским намерением ввести человечество в заблуждение) вызывали у людей типа виконта Морпетского лишь смех.
С другой стороны, для того чтобы отвергнуть тысячелетнюю религиозную традицию и броситься с головой в омут атеизма, Чарльзу следовало родиться не в Англии, а где-нибудь на континенте, желательно в Пруссии или России; подобный нигилизм был чужд английскому национальному характеру и, кстати, поэтому не стоит удивляться, что британцами были и Юм, и Гексли, и Рассел (с которым, к слову, Чарльз был знаком лично) — иными словами, все те люди, которые, хоть и могли согласиться с тем, что Бог умер, но не спешили танцевать джигу на Его могиле, видимо, не желая ранить чувства скорбящих близких, а, может быть, имея в виду и возможность летаргического сна. Да и слова «есть многое на свете, друг Горацио» тоже написал соотечественник Чарльза, не будем забывать и это.
Вот и сейчас Чарльзу пришли на ум именно эти слова, и внутренне присущий молодому виконту агностицизм здесь оказался как нельзя к месту, поскольку, с одной стороны, оставлял возможность веры в сохранение сознания после смерти, а с другой — не замыкал её на хрестоматийном представлении об апостоле Петре с мечом у врат рая. А потому Чарльзу было… не легче, но, пожалуй, проще осознать услышанное от мистера Питри, чем самому руководителю экспедиции. Мысль о том, что они оказались в древнеегипетском загробном мире, безусловно, поражала и ошеломляла, но по крайней мере не противоречила картине мира, которую Чарльз полагал правильной. Есть многое на свете, да. И на этом, и на том.
Естественно напрашивался логический вывод, что для того чтобы попасть в царство мёртвых, нужно умереть. Чарльз не стал его озвучивать: во-первых, до этого и так просто догадаться, а во-вторых, даже если кто-то об этом сейчас и не думает, незачем их расстраивать, благо что ничего этот факт по большому счёту не меняет. Не меняет, а всё равно печально: получается, что Чарльз умер в 24 года, не оставив детей, а виконтом и наследником теперь стал его младший брат Губерт. Узнав о его смерти, отец пошлёт телеграмму в Лондон, и мама будет плакать. Отстранённо и тоскливо об этом подумалось. Вспомнилось место из «Одиссеи», где хитроумный царь встречает в Аиде тень Ахилла и слышит от неё, что лучше быть последним рабом в мире живых, чем царём в мире мёртвых. Возможно, накатившая на виконта меланхолия свидетельствовала о правоте слов Гомера; во всяком случае, весело сейчас не выглядел никто из спутников Чарльза.
Впрочем, пришедшие на ум строки являли пример того, что смерть была не единственным пропуском в загробный мир, по крайней мере, у греков. Как с этим обстояли дела у египтян, Чарльз сказать затруднялся, а потому вопрос журналиста здесь пришёлся как нельзя кстати. Впрочем, предложение мистера Гранта вернуться в пещеру энтузиазма у виконта не вызвало, но Чарльз не спешил возражать, так как был уверен, что и без него найдутся люди, которым сие предложение не придётся по душе.
-
-
Этот пост хочется не только проплюсовать но и... как это говорится... законспектировать.
|
Собачка и вправду угомонилась, как только Мартин отошёл от двери, и, победно тявкнув на журналиста ещё раз, удалилась назад. Мартин же тем временем шёл по пустому коридору — если чувство направления не подводило журналиста, то именно в этом направлении был фасад Шанхайского клуба. Мартин вышел в длинный коридор с рядом дверей, за которыми наверняка должны были быть комнаты, выходящие на Бунд. Дёрнул за одну — закрыта! Дёрнул за другую — и эта открылась. За дверью было что-то вроде небольшого курительного салона: здесь в кружок вокруг низкого столика с изогнутыми ножками стояли мягкие кресла, а чуть в стороне был сейчас погашенный камин. На ореховых стенах в потускневших от времени тяжёлых позолоченных рамах висели портреты каких-то людей, которых Мартин с ходу не узнал, и, в тонких рамках под стеклом, фотографии, пейзажи на которых были знакомы журналисту с детства — старый Бунд, ещё усаженный деревьями и двух-трёхэтажный, без всех тех зданий, построенных в конце десятых и двадцатые, которые формировали облик города сейчас: Но самое главное было то, что в этой комнате было целых два окна. Оба они сейчас были раскрыты, и влетевший в комнату порыв ветра трепал занавески. У одного из окон стоял низенький и пузатый мужчина хрестоматийной семитской наружности (как из брошюрок Геббельса) лет пятидесяти в полосатых брюках на подтяжках, белой рубашке и галстуке. Рядом с ним на подоконнике стоял толстостенный стакан с виски со льдом. Початая бутылка стояла тут же. Мужчина тут же обернулся к Мартину: — Закройте дверь, дует! — требовательно обратился господин к журналисту и отвернулся назад к окну, упёршись животом в широкий подоконник и выглядывая из окна вниз. Поняв, что поднимать скандала господин не собирается, Мартин переступил порог и, прикрыв дверь, прошёл к соседнему от господина окну и наконец-таки выглянул наружу. И понял, что, хоть он и опоздал к началу драмы, к развязке всё-таки успел. Вид из окон Шанхайского клуба открывался замечательный, и видно отсюда было не только Бунд, но и сверкающую в вечернем солнце Хуанпу, и первыми Мартину бросились в глаза именно японские военные корабли, о которых он столько слышал, но вот только сейчас смог увидеть их воочию: Крейсер «Юбари» и канонерки разворачивались. Осторожно и медленно двигался громоздкий даже для широкой Хуанпу крейсер, закладывая разворот, и пыхтели широкими трубами низкобортные канонерки, разворачиваясь вместе с флагманом. Было очевидно — японцы уходят, продемонстрировав свою силу, но так и не решившись её применить, и непонятно, что подвигло японского командира эскадры на такое решение: приказ руководства? собственное решение? или происходящее на набережной? Мартин перевёл взгляд на набережную. По широкой проезжей части, прочь от пришвартованных к набережной дебаркадеров, бежали люди — серо-чёрная масса в рабочих куртках, чаншанах, пальто, в шляпах, круглых шапочках и с непокрытыми головами, — толпа, уже неплотная, разбегалась прочь, обтекая поваленный набок трамвай и догорающие автомобили. В толпе Мартин заметил коляску велорикши (и как уцелела?) с закреплённым на борту флагом Китайской Республики, которую сейчас толкали, поспешая бегом, с десяток человек — видимо, отвозили раненых. — О, красавцы наши! — раздался довольный голос господина у соседнего окна, который совсем уже улёгся пузом на широкий подоконник и, вытянув мясистую шею, наблюдал за происходящим непосредственно под окном. Перегнулся через подоконник и Мартин. Под окнами Шанхайского клуба двигалась пересекающая набережную шеренга бородатых бойцов в тюрбанах и с винтовками с примкнутыми штыками в руках. Сопротивления они почти не встречали — проезжая часть перед сикхами была пуста, и лишь с десяток недвижных тел лежало перед ними. Лишь метрах в пятидесяти от сикхов какие-то китайцы всё ещё пытались задираться, крича что-то сикхам и отступая: Мартин увидел, как в сторону сикхов полетела бутылка, не долетела, разбилась об асфальт. Бросивший бутылку китаец пригнулся и побежал прочь от сикхов, закрывая голову и, видимо, ожидая выстрелов в спину. У одного из лежащих на асфальте человек присели двое, подхватили его под руки, торопливо потащили прочь, крича что-то. — Уплывают! Уплывают! — донёсся до Мартина звонкий китайский голос с набережной. Кричал какой-то парень, умудрившийся забраться на фонарный столб и сейчас показывающий оттуда на японские корабли. — А, как они их, вы видели? — довольно обернулся к Мартину господин, слезая с подоконника.
-
Вот такие посты должны быть на главной! а не истероидные тучепарадигмы.
|
21:40
Чжан выполнил все указания Остина, и уже через десять минут его место на наблюдательном посту занял вислоусый австралиец.
— Хамфри сюда навязался, — сообщил с усмешкой Купер. — Мы его брать не хотели, испортит же ковбойством своим всё, а он чуть не силой в машину залез. Своего, что ли, дела нет, говорим, а он нам, дескать, он дело по Ли Сю тоже ведёт. Ну, формально прав, да. Пришлось брать.
Ничего не происходило. Шоу "The Western Brothers" закончилось, и неизвестный жилец соседней квартиры, послушав ещё немного музыку, выключил радио. Человек в квартире Ли Сю выглядывал из-за занавески раз минут в пятнадцать-двадцать (может, и на Нанкин-роад тоже выглядывал, кстати говоря). Из четвёртого подъезда народа выходило мало, и никто из выходящих не был хотя бы отдалённо похож на Ли Сю или вообще на гангстера. Заходили в подъезд многие, и были среди заходящих и молодые китайцы, но лиц их с такого расстояния, да ещё и закрытые полами шляп, было не разглядеть. Теоретически кто-нибудь из них мог оказаться и Ли Сю. Пресловутой машины всё так же не появлялось.
Около девяти вечера во дворе появились Ричи и Чжан — последний держал в руках большой бумажный пакет. Детективы быстро, но не торопливо пересекли двор (Остин вперился взглядом в занавески на тёмных окнах квартиры Ли Сю: не откроются ли в самый неподходящий момент? Нет, не открылись.), зашли во второй подъезд, поднялись к наблюдательному пункту. Чжан поставил свой пакет на подоконник и начал вытаскивать из него картонные коробки, от которых сразу потянуло горячим пряным запахом китайской еды.
— Вы проголодались, наверное, мистер Рейнольдс? — заботливо предложил Чжан Остину. — Мы-то там уже подкрепиться успели.
Остин и вправду уж и не помнил, когда в последний раз ел, а, раз соглядатаев на наблюдательном пункте теперь было достаточно, то и устроился детектив на двух стульях, принесённых из каморки консьержки, и с аппетитом принялся за лапшу с кусочками куриного мяса, варёный рис и жареное дофу.
— А Хамфри домой уехал, — сообщил Остину Ричи, присевший на край ковровой дорожки, которой была застелена лестница. — Надоело ему тут. Стрелять не в кого, — детектив усмехнулся.
— Так что, там Эдди один остался? — нахмурился Купер.
— Да нет, почему один? — пожал плечами Ричи. — Джагур парень вроде толковый.
— А, так там Джагур?
— Да, Остин с ним вместе схрон на Ист-Юйхан брал.
В этот момент подъездная дверь хлопнула, и Остин услышал уже знакомые ему голоса: скандинавско-китайская семья возвращалась домой.
— Нет, на лифте! — строго по-китайски сказала мама.
— Мы только посмотрим! Только глазком! — наперебой крикнули дети и побежали вверх по лестнице. Поднялись до наблюдательного пункта, остановились, с удивлением наблюдая картину, никогда не виданную тут: четверо взрослых дядек (трое — лаоваи!) расположились на лестничной клетке, двое на подоконнике сидят, один на ступеньке, а ещё один и вовсе на стуле сидит, а на другом — коробки стоят с едой и палочки из них торчат.
— Добрый вечер, офицеры, — на правильном английском поприветствовала детективов девочка в берете и сделала книксен, а затем хлопнула ладошкой по спине брата, чтобы тот поклонился. Мальчик, который, похоже, был годом-другим младше её, размашисто поклонился и снова принялся во все глаза оцепенело таращиться на незнакомцев.
— Добрый вечер, юная леди, — поздоровались с дамой офицеры.
Девочка взяла брата за руку и бесцеремонно потащила мимо Ричи наверх. Следуя за сестрой по ступенькам, мальчик оглянулся всё с тем же остолбенело-испуганным выражением на лице.
Родители, изо всех сил поспешавшие по лестнице вслед за убежавшими детьми, выглядели не менее озадаченными, чем мальчик. Господин-скандинав с видимым неудовольствием осмотрел сборище, которое полиция организовала в его уютном подъезде, но сказать ничего не решился и, обогнув к тому времени уже поднявшегося со ступеньки Ричи, прошёл наверх. Жена тихо проследовала за мужем и только напоследок обернулась и смущённо улыбнулась детективам, как бы извиняясь то ли за детей, а то ли за мужа.
— Чудо-то какое, а? — умилённо сказал Фрэнк Купер, когда за семьёй закрылась дверь, и глубоко вздохнул, отворачиваясь к окну и продолжая наблюдение. Как Остин знал, у Фрэнка тоже был сын-подросток и даже жил здесь, в Шанхае, вот только после развода не ладились как-то у него с ним и с женой дела. Обычная история, в общем. Чжану только вот в жизни в этом смысле пока везёт, ну так ведь он молодой ещё, да и живёт у себя на родине — тоже важно ведь.
Некоторое время ничего не происходило. А минут через десять чудо снова почтило своим присутствием наблюдательный пост SMP: дверь тихонько приоткрылась, и две уже знакомых детских головки выглянули из двери и принялись наблюдать за детективами, наблюдающими за неизвестным в квартире Ли Сю, который тоже время от времени наблюдал за внутренним двором. План маленьких соглядатаев был безупречен — Ричи сидел к ним спиной, Остин всё ещё доскребал остатки риса из коробки, а Купер и Чжан были прикованы взглядом к происходящему за окном, и ничто бы не выдало шпионов, если бы в какой-то момент они сами не начали ёрзать, хихикать и переговариваться по-китайски. Ричи обернулся, и дверь тут же захлопнулась. Ричи обернулся назад к коллегам. Дверь снова приоткрылась. На этот раз Ричи был к этому готов и резко обернулся с возгласом: «Бу!» Дети дружно вскрикнули и хлопнули дверью.
— Нельзя детей пугать, — пожурил коллегу Фрэнк Купер. — Могут стать заиками.
Дверь больше не открывалась; видимо, кто-то из родителей заметил игры детей и дал им хороший нагоняй.
Остин доел ужин, сложил коробки аккуратно одну в другую, положил их в бумажный пакет. Сменил Купера на посту на подоконнике, принялся наблюдать за освещённым ровным светом фонарей над подъездами пустым двором — там, за светящейся сотнями окон стеной дома была сверкающая огнями Нанкин-роад, ездили машины, рикши, кутили туристы — ну, сегодня, может, в связи с последними событиями, не так бурно, как обычно, но всё равно кипела жизнь. Хороший дом — с одной стороны на центральной улице, а с другой — тишь да гладь во дворике. Только вот зелени тут им не хватает, клумбу бы какую по центру двора. Въехала машина во двор, встрепенулся Остин: нет, «пежо» какое-то. Хм, у Ли Сю тоже ведь «пежо» был? Ну уж явно это не тот, тем более что и остановилась машина у третьего подъезда, выбежал шофёр быстро, открыл заднюю дверцу, вышел из неё пожилой господин с тросточкой. Остин подавил зевок. Спал мало, а ещё до часу сидеть, тем более что поел только что.
Снизу по лестнице раздались осторожные шаги. Остин обернулся. На лестнице стояла консьержка.
— Господа… — робко обратилась она к полицейским. — Вас требуют к телефону из вашей… организации.
Остин немедленно спустился вниз к столу консьержки, взял трубку.
— Остин? — раздался в трубке мрачный и тяжёлый голос Фэрбенкса. — Снимай засаду. Приказ сверху.
-
-
— Нельзя детей пугать, — пожурил коллегу Фрэнк Купер. — Могут стать заиками.
Хо-хо-хо). Это он нашему штатному отрядному маньяку объясняет))).
|
|
-
Отличная подборка. Великолепно передает дух места и времени.
-
Всевозможные детали и атмосферные вкусности однозначно заслуживают!!!
Мне больше всего понравилась first aid
-
люблю карикатуры. и вообще искусство.
нравицца ^_^
|
-
за преданность модулю и отличную игру)
|
-
Хорошие мысли, высказанные по ходу игры, должны быть поощрены. Или неправда моя?
|
-
-
Спасибо огромное за игру интересную и приятную. Надеюсь сойдёмся ещё раз.
|
-
Впрочем, простите, я, кажется, увлёкся.
Какой версаль!
-
Очень хорошо. Чисто английский диалог в экзотических декорациях. God bless Queen Victoria!
|
-
ОХК красавец, правда. глубоко, сильно. не каждый сможет. браво.
-
-
Преисполнена уважения и за этот, конкретно, пост, и за весь глубоко психологичный отыгрыш.
|
24.10.1935 15:13
Шанхай, Международный сеттльмент,
авеню Эдуарда VII, редакция «Шанхай Таймс»
На авеню Эдуарда VII была пробка. Нечастое зрелище даже для трёхсполовиноймилионного Шанхая: у здания редакции в сторону Бунда протянулась цепь из автомобилей, автобусов и велорикш, зажатых между автомобилями и потому не имеющими возможности вырулить (а юркие пешие выруливали и сворачивали на боковые улицы). В сторону же от Бунда ни одной машины не ехало, и сторона авеню, относящаяся к Французской концессии, пустовала.
Подивившись этому обстоятельству, Джулия привычно толкнула плечом тяжёлую дверь редакции (и ведь швейцара не поставят, скупердяи!), взбежала на третий этаж, кинула взгляд на часы над дверью – без двух минут три, как раз успела! – открыла дверь родного отдела…
…только чтобы увидеть, как коллеги столпились вокруг массивного «Телефункена», из которого лилась мелодичная китайская музыка. Но уж, конечно, не музыку послушать они собрались: напряжённо, упёршись локтями о колени, сидел на стуле рядом с приёмником Том Миллер, грузно уселся на краю стола Боб Клоповиц, присела на краешек стола и Кэтти Чу, нервно барабанил пальцами в такт песне по корпусу приёмника Джо Сильверстоун, и только Мартин Херингслэйк сидел чуть поодаль с обычным для себя флегматичным и отстранённым видом, хотя, надо думать, слушал тоже очень внимательно. А вот Джимми Чена в отделе, как и вчера, опять не было.
– Джул! – воскликнул Джо, единственный стоявший лицом к двери. – Иди сюда! Чан Кайши сейчас будет выступать!
Джулия поспешила к радиоприёмнику, и уже через пару минут песня прервалась, и раздались позывные Центрального нанкинского радио, и торжественный голос диктора произнёс: «Граждане Китайской Республики! Передаём обращение Председателя Военного совета Китайской Республики генерала Чан Кайши к китайскому народу». Загремели и стихли фанфары, и в тишине раздался уверенный голос главы Китая – лысого подтянутого господина с седеющими усиками, предпочитающего военный мундир гражданским костюмам, говорящего звонким фальцетом с отчётливым чжэцзянским акцентом:
– Дорогие соотечественники, – начал Чан Кайши. – Сегодня я обращаюсь к вам в связи с имевшим место вчера в Шанхае инцидентом, повлекшим за собой гибель нескольких десятков человек. – Чан Кайши сделал паузу. – И в связи с сегодняшней реакцией японского флота. Вчера в Шанхае, – генерал Чан говорил тяжело и размеренно, – организованной группой корейских и китайских коммунистов были убиты генерал японской армии и вместе с ним несколько десятков гражданских лиц, около половины из них китайцы. Не имеет значения, какие разногласия и противоречия разделяют нас и японцев, – терроризму нет места в отношениях цивилизованных государств, и ни одно обстоятельство, имеющее отношение к прошлому, настоящему или будущему Китая, не может оправдать подобного варварского злодеяния.
«Вот тебе и на!» - читалось на лицах собравшихся вокруг радиоприёмника. Чан Кайши в очередной раз развернулся на 180 градусов, полностью отказавшись от патриотической антияпонской риторики и сменив позицию в отношении терроризма, которой он придерживался всего-то три года назад. Тогда, в апреле 1932-го года, когда террорист (тоже, кстати, кореец!) убил в парке японского генерала (и тоже, кстати, гранатой), Чан Кайши в своём выступлении заявил, что один юный патриот сумел сделать то, чего не смогла сделать вся китайская армия (месяц назад наголову разбитая в том же Шанхае). А теперь от открытого восхваления терроризма Чан Кайши перешёл к его осуждению!
– Именно варварского, – продолжил Чан Кайши, – и именно варварами стремятся представить нас, китайцев, те, кто устроил это преступление, – и очередную паузу выдержал генерал Чан, – коммунисты. Это они хотят спровоцировать Японию на агрессию против Китая! – голос генерала взлетел, звонко задрожал. – Это они готовы убивать не только японцев, но и своих соотечественников ради этой цели! Это коммунисты готовы привлечь на Китай очередные неисчислимые несчастья ради своей сиюминутной выгоды! Это они, люди без роду и племени, по своей воле отказавшие себе в праве называться китайцами, принявшие иллюзию интернационализма, отрёкшиеся от пяти тысяч лет истории, культуры и самого нашего народа, самого имени его, как сделали они это в России! Это дело их рук. Это они устроили эту провокацию.
Здесь Чан Кайши тоже развернулся на 180 градусов, но в этом вопросе он определился уже давно (но навсегда ли?). В 1920-е Чан Кайши был горячим поклонником молодого Советского Союза, а в триумвират лидеров, коллегиально управлявших тогда частью Китая, бывшей под контролем Гоминьдана, входил даже русский советник Михаил Бородин, а без указаний военного советника Василия Блюхера Чан Кайши вообще боялся отдавать любые приказы войскам. Доходило до того, что в начале 1920-х гоминьдановцы ходили по улицам Гуанчжоу (тогда столицы их территории) в нарукавных повязках с серпом и молотом, а старший сын самого Чан Кайши был направлен на учёбу в Москву (где жил до сих пор, выступая как пламенный коммунист и прокляв своего отца после его разрыва с Мао – надо думать, сделав это не до конца добровольно). А вот теперь Чан Кайши планирует направить своего второго сына, которому в следующем году должно исполниться двадцать, на учёбу в нацистскую Германию! Политика, ничего не скажешь.
– И прискорбно видеть, как японский флот с радостью и охотой откликается на эту провокацию, – продолжал Чан Кайши. – Японские корабли стоят напротив центра Шанхая, угрожая городу, парализовав его нормальную жизнь, заставляя горожан в страхе искать себе укрытие на территории иностранных концессий, опасаясь повторения событий тридцать второго года. Но событиям тридцать второго года не суждено повториться. Я со всей ответственностью заявляю японской стороне: если хоть один выстрел прозвучит из японской пушки, винтовки или пистолета в китайца, если хоть одна бомба упадёт на китайскую землю, если хоть один солдат осмелится перейти установленные разделительные линии, мы не ограничимся локальными столкновениями. Нет, мы будем сражаться! И мы знаем, что мы будем в этом не одиноки, что нас поддержат страны, чьи граждане в Шанхае сейчас подвергаются той же опасности, что и китайцы: это Великобритания, это Франция, это Соединённые Штаты Америки, и я уверен, что Японии нечего будет противопоставить совокупной мощи четырёх держав.
– Блефует, – прокомментировал по-китайски Джо. – Ну конечно, станут они лезть.
– А самолёты? – спросил Миллер.
– Тсс! – зашипели на них остальные.
– Но есть у Японии и иной выход. Обуздать амбиции зазнавшихся адмиралов, заставить их подчиняться приказам, увести свои корабли в море, прекратить создавать напряжение, прикрываясь мифическими «антияпонскими настроениями», которые сами они и нагнетают! И принять результаты независимого международного расследования причин случившегося. Даже не являясь членом Лиги Наций, Япония всегда может довериться экспертному суждению специальной комиссии Лиги, запрос на создание которой будет сегодня подан китайскими представителями в Женеве. Так и только так наши народы могут удержаться на краю пропасти и не скатиться в пучину разрушительной войны. Так будем же надеяться, что разум восторжествует.
«Вы прослушали выступление Председателя Военного совета Китайской Республики генерала Чан Кайши, – сказал диктор. – Выступление будет повторено через полча…»
Джо выключил радиоприёмник.
– Ну что, – фотограф обвёл взглядом коллег. – Побежали чемоданы паковать?
– Да погоди ты, – отмахнулся Клоповиц. – Может, ещё проскочим. В двадцать седьмом проскочили же.
– В двадцать седьмом тут японцев не было, – сказал Джо.
– А Лига Наций? – поинтересовалась Кэтти Чу.
– Да что им эта твоя Лига? – махнул рукой Джо. – Много эта Лига в Маньчжурии помогла.
– А самолёты? – снова сказал Том Миллер.
– Да, самолёты-то – что? – присоединился к нему Клоповиц.
– Знаете, что, господа, – поднялся со своего места Мартин, не дав Джо ответить. – Меня больше не самолёты, а этот шабаш на Бунде беспокоит. Там на Бунде народ протестует, – пояснил Мартин Джулии, догадавшись, что та может быть не в курсе.
– Мы тебе, кстати, звонили, – сказал Джо, – тебя дома не было, мы уж думали, ты куда-нибудь там сама убежала.
– Джо очень волновался, – сказала Кэтти.
– Ну конечно, я волновался! – сказал Джо. – После того-то, что с тобой в этом «Амбассадоре» случилось. А тут ты пропала куда-то ещё!
– И я думаю, что мне сейчас именно на Бунд, – продолжил свою мысль Мартин, подойдя к вешалке и снимая с неё плащ.
– Так там уже Чен, – напомнил коллеге Клоповиц.
– Чен шустрый парень, – сказал Мартин. – И иногда чересчур, – сказал он, уже надев шляпу и выходя из отдела.
Наверняка Джулии хотелось спросить, поинтересоваться, а почему же такая анархическая вольница сегодня царит в отделе городских новостей «Шанхай Таймс», где же всемогущий кайзер отдельно взятого отдела герр Леманн?
– А Леманна нет, – ответил на невысказанный вопрос Джулии Том Миллер. – У него какая-то важная встреча. А мы вот – сами по себе. Сейчас всё так быстро меняется, что на целый день давать задания смысла нет. Мы вот с Кэтти сейчас опять в Хункоу поедем, к казармам японским, может, там что поменялось.
– А я к консульству, – сказал Джо. – А потом, наверное, тоже на Бунд, если камеру не разобьют. Самолётики бы ещё сфоткать. Но они уже улетели, – покачал головой фотограф.
– А я тут, на телефоне, – сказал Клоповиц. – В Муниципальной полиции чёрт-те что творится.
-
Пытался найти это обращение, но не смог. Из чего делаю вывод, что обращение - авторский вымысел - и посему могу только снять ляпу в уважении - очень реалистично. Правда.
|
-
Почитала - и очень захотелось чая!)
|
-
И ещё подумалось — а ты ведь, получается, девственник ещё, Майки-бой. И в этом смысле, и в смысле, что ни одной живой души загубленной за тобой ещё нет, и вот тут уже даже и не знаешь, радоваться или печалиться этому.
Был такой фильм, "Погоня с дьяволом", про партизан-южан то ли из Миссури, то ли из Канзаса.
И там в самом конце главного героя женят наконец, и когда он остается с женой (которая дважды вдова к слову) наедине, у них происходит шикарный разговор:
- Ты же девственник?
- Я многое повидал...
- Но ты ведь еще никогда не был с девушкой?
- Женщина, я убил четырнадцать человек!!!
|
-
Блин, я есть хочу!!!
Ооо, как я хочу всех этих волосатых крабов... Шифу - за этот пост ты должен будешь пригласить меня в Шанхай и накормить пророщенной соей и кусочками свинины!!!)))
|
— Церь очевидна, — откликнулся Найто. — Разумеется, происходящее в Шанхае не может не тревожить господина посра. Угрожает? Что вы? В Нанкине, наскорько я знаю, всё спокойно. Да и здесь успокаивается. Так, за разговорами, полицейские добрались до выкрашенного унылой серой краской здания гауптвахты и прошли мимо стоящих у входа часовых-морпехов с винтовками внутрь здания. Пройдя по узкому коридору, полицейские зашли в допросную, маленькую комнату без окон со столом и двумя стульями, а также престранным плакатом на стене: «Берегись шпионов» — прочитал Остин (иероглифы у китайцев и японцев, к счастью, почти одинаковые). — Распорагайтесь, пожаруйста, удобней, мистер Рейнордс, — Найто указал Остину на место следователя, а сам взял стул, стоявший с другой стороны, и передвинул его, поставив боком у торца стола. Усевшись, Найто окликнул морпеха, стоявшего в коридоре, и распорядился о чём-то — должно быть, привести корейца. — Пока его ведут, я, есри вы не против, расскажу вам о том, что мы узнари от них, — предложил Найто. — Во-первых, имеро место... как это сказать… пособничество. Корейцы маро того что попари в Шанхай без визы, они ещё и жири в том подваре нескорько дней. И никому не быро интересно! — Найто скорбно развёл руками. — Что касается пособников, то они сейчас всё сваривают на мёртвого русского охранника. Я не говорю, что уверен, что он во всём чист, но сейчас на него очень удобно… как это… повесить всех собак. Как нам здесь кажется, Муниципарьная пориция могра бы проработать этот вопрос. Что же касается их поритических взгрядов, то здесь всё ясно. Они — национаристы, сепаратисты. Идейные сторонники того корейца, что три года назад убир генерара Сиракава и ранир господина консура. В этот момент дверь открылась, и в допросную ввели корейца — того, которого японцы вчера взяли первого и избили в коридоре. Вчера Остин видел его лишь мельком, а вот теперь мог рассмотреть в подробностях. Террорист был молодым парнем на вид не более двадцати лет с вытянутым скуластым лицом и короткой чёрной порослью (усиками не назвать) над губой. Одет террорист был во всё тот же дешёвый порванный в нескольких местах двубортный чёрный костюм-двойку, в котором его взяли, только вот галстука не было, а на заведённых за спину руках блестели наручники. Террорист был избит, но, надо думать, что методы допроса капитана Найто здесь были не при чём: как Остин знал, его избили при задержании японские офицеры. Сейчас раны и ссадины были аккуратно обработаны и заклеены американским лейкопластырем, хотя лиловая гематома под глазом выглядела всё равно страшновато. Террорист, хмуро глядя в пол, прошёл к столу, непонимающе огляделся в поисках стула, взглянул на Остина и встал у стола, потупив взор. Найто коротко обратился к нему по-японски, и террорист медленно кивнул. — Позворьте вам представить, мистер Рейнордс, — сказал Найто. — Хюн Чин Ри, эммм… девятнадцать рет от роду, уроженец Осаки, — Найто выразительно поднял бровь. — По-ангрийски не говорит, по-китайски знает пару фраз. Я уже говорир, что буду рад помочь вам с переводом его сров.
-
Ох уж этот картавый японец )
|
Остин:24.10.1935 18:32
Шанхай, китайская часть города,
Район Хункоу, база японской морской пехотыПодмоги для Чжана добиться не удалось: Фэрбенкс заявил, что все наличные силы всё ещё патрулируют улицы Сеттльмента — кто знает, как китайцы прореагируют на разгон их демонстрации и не выльется ли это во что-то худшее. Поэтому со свободными констеблями пока туго. Позвонив в китайскую полицию (взял трубку капитан Чжай) и передав запрос на установление личности Ляо Таокуана, Остин спустился вниз, взял знакомый побитый форд и покатил на север города, в Хункоу. Проезжая по той части района, которая относилась к Сеттльменту, Остин понял, почему у SMP сейчас не хватает констеблей: можно было подумать, что Муниципальный совет ввёл военное положение и с минуты на минуту ожидает если не погромов, так вторжения — по улицам ходили усиленные патрули китайской полиции и даже полицейские-иностранцы (видимо, детективы из отделений Хункоу и Янцзыпу). На границе же Сеттльмента Добровольческий корпус уже выставил блокпост: и колючая проволока, и мешки с песком, — всё это было уже готово и использовалось и в двадцать седьмом (чего Остин не видел), и в тридцать втором (чему он был свидетелем), а потом разбиралось и хранилось до поры до времени в подвалах-бомбоубежищах близлежащих домов, откуда сейчас русские солдаты вытаскивали всё это добро и устанавливали на перекрёстке, оборудуя пулемётные гнёзда и укрытия. Здесь Остину пришлось остановиться — нет, документов проверять никто не собирался, но узкая открытая для проезда полоса дороги между проволочными заграждениями вызвала небольшую пробку, в которой Остину пришлось простоять около пяти минут. Проехав, наконец, на китайскую часть города, Остин не мог не отметить, насколько более беззаботно относятся к безопасности китайские власти: мало того что никаких укреплений тут не было и в помине, но даже и улицы, на которых проживали точно такие же японцы, как и в прилегающем районе Сеттльмента, патрулировать никто не собирался — во всяком случае, не более чем обычно. Так, оставив за спиной солдат с винтовками, пулемётные гнёзда и колючую проволоку, можно было бы подумать, что ничего и не случилось вчера — так же мирно и спокойно выглядела китайская часть района Хункоу, и даже тут и там видневшиеся следы прогремевшей здесь три года назад войны воспринимались как элемент местного колорита, настолько к ним привыкли шанхайцы и шанхайлэндеры. Мирное ощущение пропало на подъезде к баракам японской морской пехоты, когда Остину повстречались три грузовика с японскими военными номерами и пулемётами на крыше кабины, битком набитые низенькими и смуглыми матросами в бескозырках и с винтовками. Что удивительно, на подножке одного гонящего под двадцать миль в час грузовика висел господин в цивильном пальто и шляпе — наверное, японец, кто же ещё, но с чего бы вдруг ему ехать вместе с морпехами, да ещё и на подножке? Оставив машину у длинного серого забора с колючей проволокой по верху, которым была окружена японская база, Остин двинулся ко входу. Здесь царило оживление: не менее полусотни азиатов, кто с японскими флажками в руках, а кто с нарукавными повязками с красным кругом, стояли на противоположной от ворот стороне дороги, видимо, ожидая чьего-то появления. Рядом с воротами стояли и журналисты с фотоаппаратами с большими металлическими вспышками (на город уже спустился вечер). Эти тоже кого-то ждали. Постучавшись в дверцу проходной в стороне от больших ворот, Остин через пень-колоду объяснился с плохо говорящим по-китайски и вовсе не знающим английского японским морпехом, и уже через несколько минут капитан Найто пригласил коллегу внутрь. — Добрый вечер, мистер Рейнордс, — поприветствовал Остина японский детектив, поклонившись. (Английский капитана был далеко не так чист, как у атташе Ямагути или Инокумы.) — Рад приветствовать вас на нашей базе. Не будем терять время, пройдём на гауптвахту. Буду рад выступить вашим переводчиком. Двигаясь по широкому плацу мимо пятиэтажных (земля в Шанхае была дорогая) казарм к приземистому зданию гауптвахты, Остин заметил группу офицеров и гражданских лиц, двигающихся откуда-то к воротам. — Посор, — заметив взгляд Остина, прокомментировал Найто, а, увидев замешательство в глазах детектива, пояснил: — Не барьный зар, а наш посор. Японский посор. Приретер из Нанкина. Где-то ведь тут за городом у них, японцев, и аэродром свой был, на другой военной базе, вспомнил Остин. И танки там у них тоже стояли, но в городе так и не показались, и крейсер ушёл. Может, и вправду, кризис преодолён? Ричи:18:20Оставив сержанта Ю работать с «патриотом» Цао и дальше, Ричи направился к себе, но на выходе из изолятора его окликнул дежурный: — Господин инспектор! Старший инспектор Рейнольдс передал вам записку! Чжан:18:33И ещё час прошёл за кропотливой и утомительной работой, требующей постоянного неотрывного внимания — стоило только на минуту отвлечься, прислушаться к болтовне продавщиц или задуматься над тем, что Янхун-то наверное, уже пришла с работы и сейчас, конечно, готовит еду для себя одной, не ожидая Чжан Дуна домой раньше десяти, — и пропускал детектив очередного прохожего, выходящего из переулка, и тут уж, ругай-не ругай себя, а только и оставалось занести в блокнот короткое «муж., вышел» и время. Сейчас, к половине седьмого вечера, в записях Чжан Дуна насчитывалось уже с полсотни отметок о мужчинах, входящих в переулок и выходящих из него, — а ведь был другой переулок, через который люди тоже могли проходить к «Хардун-билдинг», и машины тоже подъезжали к воротам — самые разные, и их Чжан тоже кропотливо заносил в блокнотик, и номера записывал. Так и сейчас, привычно записал он в блокнот: «чёрн., легк. (марку этой машины Чжан не разглядел), F4488, въех.» — сначала записал, а только потом и обратил внимание на номер: две четвёрки, две восьмёрки! В Китае, где слово «четыре» в большинстве диалектов (в т.ч. и в шанхайском) созвучно слову «смерть», четвёрка считалась очень несчастливым числом, и до того её не любили китайцы, что зачастую не было в новых построенных домах четвёртого этажа (в Шанхае меньше, а вот в Гонконге повсеместно). А вот восьмёрку китайцы любили — на кантонском эта цифра произносилась созвучно слову «богатеть», и, хоть ни в стандартном китайском, ни в шанхайском созвучия не было, но давно уже распространилась мода на восьмёрку с Гуанчжоу и Гонконга на север, и уже по всей стране теперь и свадьбы китайцы назначали на восьмые числа (желательно августа), и на восьмых этажах селились с удовольствием (где были они, восьмые). А здесь номер — две четвёрки, две восьмёрки! Такой простой нумерологический шифр понятен любому китайцу с детства: два раза по четыре — множество смертей, два раза по восемь — большое богатство. «Богатею, убивая направо и налево», вот что это значит. У «зелёных» такие или подобные им номера чуть ли не у каждого. Машина остановилась у въезда во двор «Хардун билдинг» — видимо, водитель о чём-то говорил с охранником в будке.
-
Такой простой нумерологический шифр понятен любому китайцу с детства: четыре раза по четыре — множество смертей, восемь — богатство. «Богатею, убивая направо и налево», вот что это значит. У «зелёных» такие или подобные им номера чуть ли не у каждого.
Блин, вот реально настоящим детективом запахло)))
-
Читайте по наколочкам.
Номерок блатной - три семерочки четыре четверочки.
Люблю описания таких нюансов.
|
-
Стоп, дружище. Это отчаянье. Отчаянье — это грех. Ты опять виноват. И не у кого просить прощения. У них, что ли, попросить.
— Извините, — опустив глаза, буркнул в пустоту Фук и подошёл к двери с ключом.
Захотелось почитать этот модуль)
-
останется у наших потомков представление о том, как можно использовать эти бумажки при отправлении физиологических потребностей
А может и впрямь не настолько деградирует? )
-
Здесь должен быть плюс. Обязан =)
|
-
Плюс за классный диалог в аське. Супер!
|
16:40Первым, кого увидели трое детективов, закончив совещание и выйдя из кабинета Ричи, был младший инспектор Эдди Диксон, пробежавший мимо них по коридору в общий зал отдела с самым взволнованным видом. — На Бунде стрельба, — упавшим голосом обратился детектив к немногим оставшимся в зале коллегам, встревожено поднимавшимся с рабочих мест. — Из таможни позвонили. Китайцы начали жечь машины и бить витрины. Сикхи применили оружие. Ничего больше не известно, — Эдди беспомощно развёл руками. —Тридцатое?* — обратился в пространство тридцатилетний шотландец Алан Кэмпбэлл. — Как бы ещё хуже не было, — откликнулся Фрэнк Купер. Так или иначе, какими бы невесёлыми новостями ни были, а работать нужно было продолжать, и все три детектива направились каждый в своём направлении. Остин:24.10.1935 16:40
Шанхай, Международный сеттльмент,
Фучжоу-роад, Центральное управление Муниципальной полиции,
кабинет Остина РейнольдсаОткрыв ключом дверь кабинета, Остин обнаружил, что Джулия Лян стоит у входа и дожидается его. Может быть, запирать любопытную журналистку в своём кабинете, где на столе лежали полученные только сегодня отчёты от экспертов, забранный вчера из «Амбассадора» список гостей злосчастного вечера и даже целый том по делу на Ист-Юйхан-роад, было не самой безопасной в плане сохранения конфиденциальности идеей, но, окинув помещение намётанным взглядом, Остин не заметил никаких следов того, что Джулия тут хозяйничала в его отсутствие: кажется, она даже к столу пройти не решалась без разрешения, а так и стояла у двери. Ричи: 24.10.1935 16:46
Шанхай, Международный сеттльмент,
Фучжоу-роад, Центральное управление Муниципальной полиции,
Минус первый этаж, следственный изоляторВ допросной всё было как полагается — стены, крашенные снизу рвотно-зелёным и побелённые сверху, лампа под потолком в белом алюминиевом абажуре, пустой обшарпанный стол с лампой, желтоватым графином с давно не менявшейся водой, горлышко которого было накрыто стаканом, и пепельницей. По обе стороны стола стояло два железных стула, к которым очень удобно можно было приковать человека наручниками. Хочешь — бандита прикуй, а хочешь — следователя, у него стул такой же. —Которого вести, инспектор Ли Цзи? — осведомился по-китайски у детектива охранник. Чжан: 24.10.1935 17:03
Шанхай, Международный сеттльмент,
Нанкин-роад, перед «Хардун билдинг»Чжан слез с рикши и оглянулся по-сторонам. Дело складывалось поганым образом. Во-первых, пришлось идти одному: похоже, что на Бунд (и, говорят, в Хункоу) стянули сейчас вообще всех полицейских, кого удалось найти, и Фэрбенкс только отмахнулся от Чжана, раздражённо сказав, что им всем следует ещё радоваться, что их самих не потащили лупить дубинками китайцев на Бунде, потому что, — заявил Фэрбенкс, — детективов из китайского и японского отделов Муниципальной полиции — потащили, и они сейчас все там! Чжан понял, что на своём лучше не настаивать (а то как бы самому не отправиться вслед за остальными на Бунд или, может быть, в китайский отдел, где вообще-то Чжану и полагалось работать) и направился на Нанкин-роад один. На Нанкин-роад с виду всё было по-прежнему: блестели витрины, свисали со стен домов разноцветные флаги, и лилась музыка из приоткрытых дверей ресторанов. Вот только можно было заметить, что трамвай, линия которого выходила на Бунд, не ходит, да и вообще машин и прохожих на улице меньше, чем обычно могло бы быть в это время, когда солнце только-только скрылось за крышами десятиэтажных домов, а люди по идее должны были заканчивать свой рабочий день и направляться в рестораны, кабаре, кинотеатры и иные увеселительные заведения. Где находится «Хардун билдинг» Чжан, конечно, знал, равно как кое-что знал и о самих Хардунах.  Здесь я позволил себе немного отойти от исторической правды: это здание было построено в 1936-м, но до этого на его месте стояло другое под тем же именем, фото которого я не нашёл Рынок строительства элитного жилья в Шанхае во многом контролировался двумя богатыми еврейскими фамилиями, выходцами с Ближнего Востока: Сассонами и Хардунами. Виктор Сассон, один из самых богатых людей Шанхая, бонвиван и плейбой, владел самым известным отелем в городе, отелем «Кэтей» на Бунде, также носившем имя «Сассон-хаус»: расположенным напротив «Палас-отелем»: и десятком-другим элитных жилых комплексов и гостиниц поменьше. Семейство Хардунов не отставало: уроженец Багдада Сайлэс Хардун предпочитал строиться на Нанкин-роад, где целых два здания носили имя «Хардун-билдинг», одно названное в честь его самого, а другое — в честь его жены, Лизы Хардун. Кстати, именно она, Лиза (более известная китайской публике под своим родным именем Ло Цзялин) сейчас и управляла строительной фирмой Хардунов после смерти мужа четыре года назад. И, надо было думать, справлялась неплохо — новое здание «Хардун-билдинг» в модном стиле ар-деко, построенное в этом году взамен старого, невзрачного, украшало Нанкин-роад, загоревшись весёлыми неоновыми огоньками как раз в тот момент, когда Чжан подходил к нему. Можно было призадуматься, сколько проживание в этом здании могло стоить, и хватило ли бы (после перевода в Центральное заметно выросшей) годовой зарплаты Чжан Дуна на то, чтобы снять себе с Ма здесь самую маленькую квартиру хотя бы на месяц. А ещё можно было призадуматься над тем, случайность ли это, что сын владельца строительной фирмы «Тяньфан», возможно, проживал в здании, принадлежащем другому строительному магнату. Впрочем, у детектива были и более неотложные вопросы, над которыми стоило поразмыслить, в частности — что делать дальше? Как быстро удалось выяснить Чжану, с улицы входы в здание вели в расположенные на первом и втором этажах магазины, а подъезды апартаментов располагались во внутреннем дворе-колодце, въезд в который из переулка был, однако, перекрыт проходной со шлагбаумом. Разумеется, Чжан мог показать своё удостоверение охраннику на входа, чтобы тот пропустил его во двор, но Чжан не имел ни ключа (ключ остался у китайской полиции), ни малейшего представления о том, какая именно из сотен располагавшихся в этом здании квартир ему нужна. Караулить у въезда во двор в такой ситуации могло показаться логичным решением, но и тут была загвоздка — переулок, куда выходили ворота «Хардун билдинг», был совершенно пуст, и не отсвечивать, стоя перед въездом, не получалось никак. Можно было, конечно, встать у кондитерской на Нанкин-роад или на Хэнань-роад, наблюдая за одним из въездов в переулок — но нельзя было гарантировать, что Ли Сю, если он, конечно, надумает появиться тут, выберет пойти именно через этот переулок, а не через другой — или вообще, прячась и таясь, подойдёт к зданию не по одной из больших улиц, а переулками, например, с Цзянси- или Цзюцзян-роад. На всякий случай схема местности:  Хардун билдинг — №20
-
как обычно, весьма и весьма.
|
-
Как сказал бы Станиславский: "Как же вы достали меня цитировать Верю."
Да и кто говорил, что защитники - добрые парни, что и мухи не обидят?
-
Норм.
Я ожидал, что тут будут сопли, "как же ж так, жестоко или я или он".
Но, бля, тут у нас Запад. Не до соплей. Все правильно).
|
-
Ахахахах)))
Это еще более мощно, чем протоколы наших гаишников.
|
-
И узнать ответ можно было лишь одним способом.
Yeah)
|
24.10.1935 16:29
Шанхай, Международный сеттльмент,
Фучжоу-роад, Центральное управление Муниципальной полиции
— Нет, я не работница «Амбассадора», — ответила Джулия удивленно. — Я была в числе гостей.
— Эмм... — ответил охранник, достав какой-то листок, посмотрел на него, потом посмотрел на Джулию, потом перевернул листок, снова с чем-то сверился и отложил листок обратно на стол. — Простите, сяоцзе, никаких гостей на дачу показаний инспектор Рейнольдс не приглашал.
Джулия пожала плечиками, изображая равнодушие:
— Я не знаю, что у вас в бумажке, я знаю, что лично инспектор Рейнольдс настаивал, чтобы я пришла к нему для дачи подробных показаний.
— Извините, сяоцзе, - снова сказал охранник. — Мы просто так пропускать никого права не имеем. Про гостей нам не говорили. Говорили про работников.
— Очень странно, — Джулия посмотрела на охранника с недовольством. — Такая отличная работа во время теракта, и такой беспорядок в управлении. Так сходите к инспектору и спросите. Или вы думаете, я приехала сюда ради удовольствия?
— Я позвоню, — сказал охранник, сверился по табличке с номерами внутренних телефонов и принялся крутить диск большого чёрного телефона, висящего на стене. — Не отвечает, — после минуты ожидания с трубкой у уха сказал он наконец.
— Ну, и что мне прикажете делать? — Девушка вошла в роль недовольно-обиженной посетительницы. — Отправляться домой и плюнуть на все показания? Что, сведения жертвы террориста, видевшей Ли Сю лицом к лицу, уже никому не нужны?
— Простите, сяоцзе, — развёл руками охранник. — Посторонитесь, пожалуйста, — попросил он девушку, так как она загораживала проход каким-то другим господам, возможно, детективам-китайцам.
Джулия раздраженно вздернула носик и заявила:
— Предъявите документы и назовитесь, я напишу на вас жалобу. Вы блокируете проведение следствия, может вы пособник террористов?
— Сержант Лю Кан, — без большого воодушевления ответил полицейский. Было заметно, что перспектива получить жалобу на свои действия его совсем не привлекала. — Сяоцзе! - обратился он к Джулии с умоляющими нотками в голосе. — Поймите, ну не могу я всех пускать!
— Тогда позвоните еще кому-нибудь, инспектору Ричи в конце концов. Он тоже говорил, что я должна прийти в управление, — Журналистка смотрела на охранника, представляя на его месте упертого ишака, которого не сдвинуть с места даже морковкой.
Сержант снова принялся крутить диск аппарата и, как Джулии показалось, даже радостно вздохнул, услышав голос на другом конце провода.
“Wei?” — сказал сержант на пиджин-инглиш. — “That blong Insee-pector Ritchey? This side blong one piecee missy talkee you and she hab got pidgin talkee, wantchee go topside. No, no Ambassador staffee, my no savvy, talkee she...” — сержант замешкался, припоминая английское слово — “…guest! Namey? Chop-chop savvy one-down.”
— Вас как зовут, сяоцзе? — обратился он к девушке по-китайски.
— Джулия Лян, — ответила Джулия.
“Talkee she blong Julia Liang. Oh, oh, plopa, plopa!”
— Проходите, сяоцзе, — сказал сержант, повесив трубку. — Вам в Иностранный отдел. Это на шестом этаже, спросите там кабинет, вам покажут.
— Благодарю вас, — Джулия снисходительно улыбнулась. — Я рада, что наконец-то удалось со всем разобраться. Но вам нужно больше порядка, — она назидательно кивнула головой. — И больше внимания к людям.
Гордо простучав каблучками, она проследовала мимо охранника. Несмотря на то, что в конце коридора виднелись двери лифта, около которого столпилась толпа, ожидающая прибытия кабины, Джулия направилась по лестнице вверх до шестого этажа.
Выйдя же в коридор, никакого «иностранного отдела» она не обнаружила – здесь были какие-то кабинеты, комнаты, курилки, туда-сюда ходили люди — китайцы в основном, но не было фамилий Рейнольдса и Ричи ни на одной из табличек на дверях, и Джулии не оставалось ничего иного как повернуть назад, вернуться к лестничной площадке и пойти в другую сторону. Пройдя по коридору, девушка вышла в большой зал, заставленный столами, за которыми сидело с десяток-другой мужчин, в основном лаоваев, но подумала, что здесь-то инспекторов искать точно не стоит — у них же свои кабинеты! Поэтому здесь девушка задерживаться не стала, а прошла через зал и двинулась дальше по коридору, читая таблички на дверях и не находя нужных фамилий. Дойдя до конца коридора, до другой лестницы, где стояли, о чём-то разговаривая, несколько полицейских, Джулия вдруг подумала— а ну как она не на шестом этаже, а поднялась по ошибке на пятый? Стремясь исправить свою ошибку, Джулия поднялась на этаж выше, но и тут кабинетов Рейнольдса и Ричи не было. Попытавшись было обратиться к проходящему мимо полицейскому, никакого вразумительного ответа Джулия не получила — похоже, в большом здании Центрального отделения не каждый знал инспекторов лично. На этом этаже тоже были какие-то кабинеты, и люди с бумагами и папками в руках проходили по коридору, оглядываясь на Джулию, а девушка бродила взад и вперёд по коридорам, спускаясь с этажа на этаж и понимала, что вот этот кабинет она проходила минут пять назад и что, кажется, сейчас она точно заблудилась.
Остановившись передохнуть у окна, выходящего во внутренний двор отделения, Джулия заметила, что во дворе стоят несколько грузовиков, в которых сейчас споро запрыгивали полицейские-китайцы и сикхи в чалмах. Одна за другой машины стали выезжать из ворот управления на Фучжоу-роад.
Решив возобновить свои поиски, Джулия, в очередной раз поплутав по каким-то коридорам, добралась до узкой запасной лестницы и — чем чёрт не шутит, хуже-то уже не будет! — решила спуститься на этаж. Пройдя мимо каких-то электрических шкафов и кладовок, девушка оказалась в коридоре, который она ещё не видела. Здесь было необычно для этого места тихо и безлюдно. Подойдя к ближайшей двери, покрытой чёрной кожей, Джулия прочитала надпись на блестящей серебряной табличке: "Старший инспектор Т.Дж. Ван. Заместитель начальника Особого отдела".
Особый отдел! Спецслужба Сеттльмента! Самые настоящие шпионы и контрразведчики сидели здесь, за этими дверьми, и уж, конечно, Джулия не смогла удержаться от того, чтобы не прильнуть ухом к двери мистера Вана. К разочарованию девушки, за дверью было тихо. Оглянувшись назад и вперёд по коридору и убедившись, что он всё ещё пуст, девушка, стараясь потише цокать каблучками, прошла к соседней двери и прислушалась, что происходит в этой комнате. Но и здесь было тихо. Но не таков человек была Джулия, чтобы сдаться на этом! Перейдя к противоположной двери, на табличке которой значилось "Старший инспектор П.М. Таунсенд", Джулия снова приложила ухо к кожаной обивке…
От увлекательного подслушивания Джулию оторвал звук открывающейся двери дальше по коридору. Из кабинета через пару дверей от кабинета мистера Таушенда выходил китаец средних лет в светлом костюме. Захлопнув дверь, китаец обернулся на Джулию.
Услышав этот звук, Джулия отошла от двери и с самым озабоченным видом стала изучать таблички, изображая некоторую растерянность и сомнение. Девушка неуверенно поглядывала то на одну дверь, то на другую, но к китайцу за помощью обращаться не торопилась - наврать что-нибудь она еще успеет, а, как она уже успела убедиться, в этом беспорядочном здании мало кто обращает внимание на гражданских. Зная надменность полицейских, в том, что он не проявит к ней интереса, можно было практически не сомневаться.
Господин в костюме быстрым шагом подошёл к девушке и поинтересовался:
— Сяоцзе? Вы к кому?
— Я по вызову к инспектору Ричи, — странно, этот полицейский оказался любопытен. Наверное, это из-за того, что он работает в особом отделе. — Его кабинет, наверное, дальше по коридору?
— К какому инспектору Ричи? — не понял китаец. — Что вы тут делали?
— А что, здесь несколько инспекторов Ричи? Меня к нему вызвали, к нему я и иду. Шестой этаж, правильно?
— Пятый этаж, — хмуро сказал китаец и обернулся, взглянув на дверь кабинета. — Здесь, кажется, написано "Таушенд", а не "Ричи"?
— Спасибо, вы очень добры, уважаемый господин, — в сочетании с явным недружелюбием полицейского вежливость Джулии была почти ироничной. — Я заметила надпись, потому и искала другой кабинет, с именем Ричи. Значит, это пятый? — строить из себя совершенную дурочку девушка не стала, хотя из слов китайца вполне можно было сделать вывод, что ЕЙ НУЖНО на пятый, а она на самом деле шестом. — Благодарю вас, господин, — она слегка поклонилась и направилась по коридору к лестнице.
— Я провожу вас, — настойчиво сказал господин и двинулся вместе с Джулией, молча шагая по коридору.
Господин и девушка вышли в зал со столами наподобие того, через который она уже проходила (здесь тоже были люди, хоть и немного), прошли ещё по одному коридору, а затем поднялись на этаж по лестнице и вышли в зал, через который Джулия проходила в самом начале своих безуспешных поисков: тот самый зал, где за столами сидели лаоваи! Ведь в самом начале проходила она через этот зал! Китаец на хорошем английском поинтересовался у какого-то детектива, где кабинет инспектора Ричи и, когда Джулия совсем уже собиралась было сказать, что дальше она сама, решительно двинулся в указанном направлении. Девушке ничего не оставалось, как последовать за господином, свернув за ним в узкий коридор, отходящий от общего зала. И тут Джулия увидела своего вчерашнего спасителя: инспектор Рейнольдс, видимо, только что пришедший с улицы, в плаще, шляпе и с тростью, стоял у двери одного из кабинетов и открывал её ключом. А китаец тем временем подошёл к соседней двери, постучался, открыл и спросил по-английски:
— Вы инспектор Ричи?
-
)))
Прекрасные блуждания))))
Это один или по асечке?
|
24.10.1935 16:29
Шанхай, Международный сеттльмент,
Фучжоу-роад, Центральное управление Муниципальной полицииРичи:Ничего нового от Беатрис Бельфлер Ричи не услышал и отпустил девушку, задав ей вопросы о произошедшем в «Амбассадоре», которые у него уже от зубов отскакивали. Отпустив девушку, которая сама, похоже, не могла отойти от пережитого и выглядела подавленно, восвояси, Ричи с отчаяньем обнаружил, что в коридоре стоят ещё три человека. Конечно, в соседнем кабинете в поте лица трудился Чжан, но, какой бы расистской сволочью инспектор Ричи ни был, а полностью перекладывать на коллегу тягостный груз неблагодарной и кропотливой работы со свидетелями не мог — и со вздохом пригласил следующего свидетеля. Следующим свидетелем был высоченный угольно-чёрный ниггер. С этим хотя бы было весело: хотя сразу было ясно, что этот уж ну вообще точно ничего не видел и не слышал (этот парень был из биг-бэнда Джона По и должен был выступать следом за Беатрис Бельфлер, и в момент нападения находился с коллегами в гримёрке, где и просидел всю заваруху), но отпускать Ричи его не спешил, хотя мог бы, конечно — но с ниггером было удобно: он и вопросов от Ричи никаких не дожидался, а сам пересказывал всё случившееся с южным американским акцентом, а своими постоянными глупыми похохатываниями, постукиваниями по колену, рожами и иными повадками примата был даже забавен. В этом плане беседа с ним, конечно, выглядела куда занимательней, чем с очередным уборщиком, который и по-китайски-то двух слов связать не мог, или очередной барышней в расстройствах чувств. Как раз в этот момент зазвонил телефон, и с проходной сообщили, что к инспектору Ричи просится для дачи показаний некая Джулия Лян. Ричи сказал, чтобы девушку пропустили и готовился уже было выгнать взашей отпустить восвояси ниггера, чтобы не задерживать бывшую заложницу стоянием в очереди, но девушка так и не появлялась, и Ричи, уперев подбородок в ладонь, продолжал внимать рассказам саксофониста, который от описания происшествия в «Амбассадоре» постепенно, с одного на другое перескакивая, перешёл к рассказам о своём нью-орлеанском детстве, не менее забавным. Наконец это стало выглядеть совсем глупо, и Ричи таки отправил негра донимать веселить своими историями кого-нибудь ещё, а сам со вздохом принялся расспрашивать последнего из имеющихся на настоящий момент (потом, может, ещё подойдут?) свидетелей, гардеробщика. О Джулии Лян, которая где-то пропала, Ричи уж как-то и позабылось. Ричи уже заканчивал опрашивать свидетеля, как в дверь раздался стук, а вслед за этим в дверном проёме показалась незнакомая ему фигура китайца средних лет с гладко зализанными волосами и в элегантном светлом костюме. — Вы инспектор Ричи? — на хорошем английском спросил китаец. Остин:Казалось бы — каких военных зрелищ шанхайцы сегодня ещё не видели? Крейсер, британский летающий цирк, всё лицезрели своими глазами. Не хватало на шанхайских улицах появиться ещё танкам. Ну, положим, танки в Шанхае были только у японцев (впрочем, дьявол их, японцев, знает, пригнали крейсер, ещё и танки подгонят), но вот броневики Остину довелось увидеть своими глазами. Возвращаясь в отделение, Остин вывернул на Бабблинг-велл-роад и увидел, как по той же улице в том же направлении, что и Остин (т.е. к центру) катит колонна из четырёх броневиков, а над башней первого из них развевается на встречном ветру бело-сине-красный флаг:   Кстати, вот ещё короткий клип – парад Добровольческого корпуса. Там как раз броневики едут, а за ними марширует Русский полк: ссылкаДвигающиеся вместе с броневиками и навстречу им автомобили то и дело оглашали улицу гудками. Русским в броневиках такие приветствия приходились по душе, и броневики сигналили в ответ, а над башней одного из них, как раз в то время, когда форд Остина обгонял колонну, появилась русая короткостриженная голова. Боец в британской форме высунулся из башни до пояса, обернулся назад и что-то весело заорал по-русски своим товарищам в следующей машине, а потом замахал рукой останавливающимся на тротуаре и показывающими на броневики пальцами пешехродам и рикшам, которые тоже что-то приветственно кричали, замедляя бег. Броневики на улицах города не были каким-то из ряда вон выходящим событием — они, например, использовались для инкассации, поэтому их часто можно было увидеть и на Бунде, и на Нанкин-роад, и на других оживлённых шанхайских улицах, но вот чтобы так — колонной и с флагом, и в такой-то день, когда там крейсер стоит! Разумеется, зрелище производило впечатление на шанхайцев, да и даже если бы знали шанхайцы о том, как мало эти машины стоят в современной войне, тоже бы приветствовали, конечно, и махали, и клаксоны жали — всё-таки какие бы ни были, а всё равно свои, шанхайские. Любоваться картиной народного единения Остину пришлось недолго: уже на следующем повороте колонна броневиков свернула на север, к Хункоу, а Остин продолжил свой путь к Центральному отделению. Добравшись до отделения без приключений и поставив форд в гараж, Остин поднялся на лифте в свой отдел и открывал ключом дверь кабинета, когда услышал шаги за спиной. Обернувшись, Остин увидел незнакомого китайца средних лет с гладко зализанными волосами и в элегантном светлом костюме, а за его спиной – вчерашнюю заложницу, Джулию Лян. Китаец, не обратив на Остина внимания, подошёл к двери Ричи, постучался и раскрыл её. — Вы инспектор Ричи? — спросил он по-английски.
-
но, какой бы расистской сволочью инспектор Ричи ни был
:[
|
-
- Что? - с вызовом обернулась Лиза к полисмену, который тут же подбежал к администратору со строгим намерением не пустить Мартина за ленту. - Что ты сюда бежишь? Инспектор Рейнольдс разрешил остаться мне и ещё двоим из моих людей! Это тоже мой человек. Как твоя фамилия? Матэ, быстро запиши-ка его фамилию.
Железная Лиза прекрасна).
|
"Началось!" — молотом стукнуло по вискам, тесно сжало грудь неведомым, неиспытанным до того никогда чувством: и страх, и возбуждение, и азарт охотничий — кого сейчас подстрелят, меня или его? А кого-то точно подстрелят — не уйдёт сегодня смерть из Эллинвуда без урожая, не обойдёт городок наш мирный стороной, но есть Бог в небесах, и есть высшая справедливость на земле, и не позволит Господь Бог того, чтобы победили мерзавцы, чтобы убивали и насиловали они мирных жителей Эллинвуда, благочестивых американцев, и если ему, рабу Божьему Майклу Фредерику Хамфри суждено быть оружием Его и погибнуть, защищая мирных жителей, — что ж, быть тому!
Заколотило гулко сердце под жилетом, зашумело в висках, а пыльные ботинки уже сами собой быстрее стукали по горячему металлу крыши, и летел Майки к краю её, туда, где отбивался отчаянно от врагов мистер О'Шилли, чтобы помочь ему, и разделён был мир на две части перед глазами Майки: на нижнюю, пёстро-цветастую, где с высоты крыши отеля были видны деревянные крыши и стены домов, телеги, ящики, дорога, а дальше яркими пятнами и полосами — канзасские поля, прорезанные ниточками изгородей и светлыми полосками дорог, а ещё дальше — воображаемая линия горизонта, а над ней бесконечное синее небо, глубиной и однотонностью своей контрастирующее с цветастой пестротой того, что снизу, а ещё выше — колыхающаяся размытая тёмная полоса, поля шляпы, и не понимал Майки, что такого в этой виданной многажды картине, но точно знал, что, какой бы ни сложилась его жизнь, суждено ли ей оборваться через минуту или через семьдесят лет, запомнит он эту картину навсегда, навсегда останется в его памяти этот момент, когда он, молодой, быстрый как отпущенная пружина, летел по железной крыше бывшего отеля в Эллинвуде с винчестером в руках.
Следующий ход:
ДЕЙСТВИЯ:
- глядим по сторонам, чо;
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ:
- спринт (1)
- спринт (1)
- спринт (1)
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ БРОСКИ:
1) Скорость
2) Реакция
3) Хладнокровие
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БРОСКИ:
4) Спринт-бег (Ловкость)
5) Спринт-бег (Ловкость)
6) Спринт-бег (Ловкость)
|
Эмили:
24.10.1935 15:03
Шанхай, Международный сеттльмент,
Бунд, Шанхайский клуб
Рабочий день продолжался, и никакие крейсеры не могли заставить состоятельных шанхайлэндеров отказаться от ланча в ресторане Шанхайского клуба, а потому у Эмили опять было полно работы, и где-то до часу работала она не покладая рук и не присев даже ни разу. А вот с часу дня поток клиентов резко сократился, перерывы в работе становились всё чаще, и в конце концов Эмили вообще осталась без дела, скучая на стульчике в углу кухни, лишь изредка поднимаясь, чтобы помочь с чем-нибудь мистеру Романьоли.
— Слышали, слышали? — говорили друг другу официанты и повара, — демонстрация началась! Народу на Бунде всё прибывает и прибывает!
А потом заговорили про какие-то самолёты:
— Японские, точно говорю, японские, — говорил один повар другому.
— Какие японские! — возражал им официант, — я своими глазами видел, английские это самолёты!
— Да откуда тут английским самолётам взяться?
— Слушай, ну что ты, хочешь, чтобы я своим глазам не верил? Круги на крыльях там - синий, белый и красный!
— Это ж французские цвета, — с сомнением сказал другой.
— Дурак! Британские!
— Британский, британский, — на ломаном китайском подтвердил мистер Романьоли, который внимательно прислушивался к разговору.
— И французские тоже, — упрямо возразил повар.
— Дур-рак!
Эмили взглянула на часы на стене. До окончания смены оставалось меньше часа: ещё пятьдесят семь минуток — и домой. Смена сегодня выдалась не тяжёлая, но какая-то сумасшедшая — крейсер этот, самолёты непонятно чьи, демонстрация ещё...
В этот момент в кухне появился официант Шао Яосин, которому сейчас, судя по всему, делать тоже было нечего. Официант облокотился на стойку, отделяющую одну половину кухни от другой, и обратился к Эмили:
— Сяопо, а, Сяопо. А ты в курсе, что на Бунде происходит? Народу — тьма-а-а! Весь город, похоже, собрался! Ну, это по поводу крейсера-то. Я чего сказать-то хочу. Мы тут, это, как смена кончится, тоже пойти хотим, клёво же. Весь же город! — воодушевлённо повторил официант. — Ты как? Может, с нами, а? — Шао улыбнулся.
-
Я чего сказать-то хочу. Мы тут, это, как смена кончится, тоже пойти хотим, клёво же. Весь же город!И вот с такими кадрами нам приходится работать! - Он псих?
- Нет, он идиот.
- А в чем разница?
- Психи сидят в больницах. А идиоты ходят по улицам толпами. (с)
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
— Слышал, что случилось? — без церемоний обратился он к Сергею и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Корейцы и какие-то китайцы вместе напали на бальный зал в центре города. До чёрта людей поубивали. Но это полбеды. С утра японцы пригнали по Хуанпу свой сраный крейсер. Стоит теперь в центре города, пушками целится по Бунду. Хрен знает, что теперь будет. Нас на казарменное положение переводят. Может, мобилизацию объявят. Может, будет война. — Иванкевич остановился собирать вещи и поднял взгляд на Шпагина. — Война может быть, понял? Дай двадцать копеек на трамвай, у меня мелочи нет.
ШЕДЕВР! Так вымогать мелочь, это шедевр!
-
Аххаха, или это моя эйфория в связи с возвращением на сайт, или это и правда ужасно крутой пост))
|
|
24.10.1935 9:58
Шанхай, Международный сеттльмент,
Чжецзян-роад, Шанхайский Муниципальный советВыйдя из Центрального управления через главный вход:  Нашёл фотку Центрального тридцатых годов с очаровательно заваленным горизонтом. Кстати, в подписи к ней говорилось, что оно было построено в 1933-м году, а не в 1935-м, как я ранее говорил, так что неизвестно, кому верить Остин с Фэрбенксом двинулись к главному входу в здание Муниципального совета. Массивное здание Совета занимало чуть ли не целый квартал между Фучжоу-роад и Чжецзян-роад, и одним своим крылом выходило прямо на Фучжоу-роад напротив Центрального управления, так что идти Остину и Ричи было недалеко – только метров сто мимо стены Центрального до главного подъезда, выходящего на Чжецзян-роад  Вот левое на фото крыло выходит как раз на Цзянси-роад, а правое – на Чжецзян-роад. Стало быть, Центральное находится напротив торца левого крыла (на фото его не видно, потому что, похоже, оно ещё не построено). И ещё одно:  Люблю я эти фотки, вот хоть убей! Ещё одна оттуда же, стена здания Муниципального совета слева (и ещё сикх-регулировщик и дорожный знак SMP!)  Сворачивая на Цзянси-роад у перекрёстка рядом с громадой отеля «Метрополь» Фэрбенкс не удержался и обернулся, взглянув по Фучжоу-роад на восток, где метрах в четырёхстах отсюда улица утыкалась в Бунд, и в узкий просвет между зданиями можно было увидеть оживлённое движение по главной магистрали города, трубы и мачты суден, пришвартованных к причалам, но не было заметно очертаний крейсера «Юбари», который сейчас стоял где-то там, возможно, и вправду уже наведя главный калибр на здание, ну, например, Шанхайской таможни (чем-то сейчас там занимаются бравые речные пираты Джеффри и Фред? Может быть, готовят брандеры из конфискованных джонок, чтобы спалить врага, как Френсис Дрейк?). У главного входа в Муниципальный совет рядом со стоявшими в карауле у дверей русскими солдатами Шанхайского добровольческого корпуса полицейских поджидал молодой полноватый китаец в хорошем костюме и с гладким и лощёным лицом, озабоченно поглядывавший на часы, как будто полицейские уже опаздывали (хотя на часах было всего-то 9:50). Завидев Остина и Фэрбенкса, китаец шустро подбежал к ним и коротко поклонился. – Скорей, господа, скорей! – указал он на вход. – Японцы приехали раньше срока, заседание уже началось. Фэрбенкс коротко выругался. – Позвольте представиться, - быстрым шагом двигаясь к входу и пропуская Остина с Фэрбенксом внутрь, заговорил китаец на хорошем, но видно, что не родном английском. – Ларри Сыма, помощник советника Цзяна. Давайте я вам коротко обрисую ситуацию, - Ларри взглянул на Остина, который, как он полагал, мог быть не в курсе шанхайских политических перипетий. – В Комитет по безопасности входят четверо советников – мистер Рэйвен от британской стороны, председатель, судья Франклин от американской, мистер Цзян от китайской и мистер Окамото от японцев. Вместе с Окамото на заседание сейчас приехали атташе Ямагути и Инокума. Последний – атташе по военным вопросам. Приглашён также советник Дюваль, он из французского муниципального совета, но его тоже пока нет. Чиновник и полицейские пересекли большой богато украшенный холл и зашли в лифт. «На третий», - сказал Ларри лифтёру по-китайски, и кабина поползла вверх. – Вы, господа, – Ларри обвёл взглядом Фэрбенкса и Остина, – должны будете подтвердить, что безопасности подданных Японии на территории Сеттльмента ничего не угрожает. Потому что под предлогом роста шовинистических настроений японцы всерьёз рассчитывают выгнать нас из Хункоу, на который они уже и так лапу наложили, с перспективой чуть ли не основать там свою концессию. Итак, погромы, антияпонские настроения, теракты, опять же – нужно подтвердить, что всё это у вас под контролем. Фэрбенкс кивнул, выслушав Ларри. Дверь лифта открылась, и китаец быстрым шагом припустил по коридору. – Может быть, стоило из отделения Хункоу кого-нибудь пригласить? – поинтересовался Фэрбенкс на ходу. – Им там ситуация на местах виднее. – Может быть, и стоило, – с одышкой ответил Ларри, изо всех сил поспешая по коридору. – Сейчас уже поздно. Вот ещё что. По поводу дела с контрабандой оружия. У японцев наверняка возникнут вопросы, как теракт связан с контрабандой. Здесь сложно сказать, как лучше ответить, будет зависеть от ситуации. У японцев к любому варианту ответа могут возникнуть претензии. Ну вот, пришли. Удачи вам, господа, а я пойду готовить японцам сюрприз. Китаец остановился перед высокой двухстворчатой дверью и поправил пиджак и галстук, после чего деликатно постучался и открыл дверь, пропуская Фэрбенкса с Остином внутрь, а сам закрыл дверь снаружи. В небольшом зале для совещаний, двумя большими окнами выходящим на Цзянси-роад, по которой полицейские шли сюда, стоял большой овальный стол, за которым сидело шестеро человек: сухощавый пожилой европеец с горбатым носом и старческими веснушками на облысевшем сверху черепе, пожилой китаец с обвислыми щеками, в круглых железных очках и наглухо застёгнутом чёрном френче, неприметной внешности брюнет средних лет, более всего похожий на учителя младших классов, низкорослый японец интеллигентного вида, средних лет и с гладко зализанными волосами, особенно комично смотревшийся по соседству с «учителем», которому до плеча не доставал, другой японец, тоже средних лет, с импозантными чёрными усиками и бородкой, и уже знакомый Остину атташе Ямагути. Ещё четыре стула между горбоносым господином и Ямагути пустовали. В углу зала был столик, за которым сидела стенографистка-китаянка с блокнотом и карандашом в руках. – Суперинтендент Фэрбенкс и старший инспектор Рейнольдс, господа, - с английским акцентом произнёс горбоносый господин, который, стало быть, и был тем самым мистером Рэйвеном. – Присаживайтесь, джентльмены. – Рэйвен указал полицейским на стулья по правую руку от себя. Продолжайте, мистер Франклин. – Таким образом, я могу выразить официальную – выделил это слово нажимом «учитель», - позицию консульства Соединённых Штатов, которая заключается в том, что наличие японских военных кораблей напротив Бунда никак не способствует снятию напряжённости, а напротив, служит её источником. Пушки японского крейсера, - голос судьи Франклина грозно повысился, - никак не могут служить безопасности японских подданных в Шанхае, зато ставят под опасность граждан и подданных других стран. И это, я повторю, официальная позиция консульства, согласованная с посольством в Нанкине. Франклин замолчал и сделал знак, что закончил говорить. – А с Вашингтоном? – вежливо поинтересовался низенький японец. – С Вашингтоном вы согласовали вашу позицию? – В Вашингтоне сейчас вечер, – поморщившись, ответил Франклин. – Но официальную реакцию мы рассчитываем получить до сегодняшнего вечера. – Может быть, не стоит тогда торопиться с заявлениями? – вкрадчиво спросил японец. – Может быть, это вам с вашими действиями не стоило торопиться? – обернулся к японцу Франклин. – Простите, вы предлагаете нам сидеть и ждать, пока обезумевшая толпа китайцев начнёт рвать наших соотечественников на части? – встрял в диалог Ямагути. – Где это вы видите толпы китайцев? – прошамкал советник Цзян. – На Бунде, – находчиво ответил Ямагути. – Десять минут назад своими глазами видел. Стоят, смотрят на наш крейсер. Понимают, что нарушение общественного порядка будет чревато. – Наличие крейсера – уже нарушение общественного порядка, – не терпящим возражений тоном сказал судья Франклин. – Отнюдь, он способствует его поддержанию, – сказал Ямагути. – Ведь и в ваших же интересах не допустить погромов мирного японского населения. – Мы их и не допустим, – сказал Рэйвен. – У нас для этого есть свои средства. – Мы видели ваши средства, – жёстким тоном, резко контрастировавшим с мягкостью его прежних слов, заговорил Ямагути и выразительно обвёл взглядом Фэрбенкса и Рейнольдса. – Я лично видел тела генерала Ёсидзуми и других офицеров, лежащие в этом кабаре. – Всюду-то вы поспеваете… – покачал головой Цзян. Ямагути проигнорировал реплику китайского советника. – Господа, я прошу вас взглянуть правде в лицо. Муниципальная полиция не способна контролировать происходящее в Сеттльменте. Это не ваша вина, господа, – обернулся Ямагути к Фэрбенксу и Рейнольдсу, – я понимаю, вы делаете всё, что можете, и мне рассказывали, что вчера вы замечательно сработали при освобождении заложников. Но, разве вот вы, мистер… - Ямагути замешкался и взглянул в блокнот, лежащий перед ним на столе, – мистер Фэрбенкс, не согласитесь с тем, что финансирования, а также материального и кадрового обеспечения SMP сейчас совершенно недостаточно? – Знаете что, мистер… – Фэрбенкс тоже несколько наигранно замешкался, как бы вспоминая фамилию японца. Судья Франклин незаметно усмехнулся, – мистер Ямагути. Наше финансирование – это не наши заботы. Хотите их увеличить – вот господа, здесь сидящие, пусть принимают постановления, повышают налоги, как хотите. Я не против, но если нет – нет, наше дело работать, как работали, – повторил Фэрбенкс фразу, сказанную им час назад полицейским в отделе. Что же касается безопасности, назовите мне один случай нападения на японца по причине национальной ненависти за последний год. Можете такой назвать? – Конечно, могу, – удивлённо сказал Ямагути. – Инцидент в «Амбассадоре». – Кроме него, – поморщился Фэрбенкс. – А его одного вам недостаточно? – иронично усмехнулся Ямагути. – Вы же говорите о нашей системной неспособности. – А она не системна? – А вы на основании одного случая уже такие выводы строите? – Знаете, мистер Фэрбенкс, – тяжело покачал головой низенький японец, имени которого Остин пока не знал. – Такой случай, как вчерашний, конечно, как простительную случайность, маленькую такую оплошность, рассматривать нельзя. Генерал и десятки офицеров вместе с ним убиты. Из-за такого войны начинались, мистер Фэрбенкс. – Вы на что намекаете, мистер Окамото? – строго поинтересовался Рэйвен. – На самые непредсказуемые последствия, – сказал Окамото, открыл было рот, чтобы продолжить, но был прерван стуком в дверь. Дверь отворилась, и в зале появился высокий и худощавый брюнет средних лет в очках, видимо, тот самый мсье Дюваль. – Проходи, Жан-Мари, – Рэйвен указал французу на место рядом с Остином. Господа, советник Дюваль. Мистер Окамото, продолжайте, – холодно обратился он к японцу. – Я говорил о том, что Япония не может допустить повторения подобных вчерашнему инцидентов и ради обеспечения безопасности своих подданных готова предпринять все те шаги, которые для обеспечения этой безопасности потребуются. – Включая вооружённое вторжение в Сеттльмент? – спросил Рэйвен. – Я этого не говорил, – сказал Окамото. – Никто не собирается претендовать на суверенные права других привилегированных на территории Китая наций. Но защита суверенных прав японских подданных не предполагает ущемления прав других наций. А обеспечение безопасности японцев и весь город сделает безопаснее. – Особенно в связи с этой тёмной историей о контрабанде оружия, - подал голос молчавший до того японец с усами и бородкой, надо полагать, военный атташе Инокума, указав на лежащую на столе газету, «Шанхай Таймс», заметил Остин. – И ещё в связи с тем, что ведущий это дело старший инспектор Рейнольдс по какому-то стечению обстоятельств участвовал и в освобождении заложников в «Амбассадоре», – добавил Ямагути. – Скажите, инспектор, то, что вы вынуждены вести два таких важных дела одновременно – что это, последствия кадрового голода в Муниципальной полиции, или это указывает на связь этих двух дел?
-
-
отличные образы, отличная напряженная атмосфера. Косоглазые кричат банзай и лезут в атаку, но мы встречаем их штыками и европейской выдержкой.
Боже, храни короля!
-
не последний. чёткий графоман, годный.
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Это не пост - это уже целый эксклюзивный рассказ! ;)
|
23.10.1935 22:04
Шанхай, китайская часть города,
район южных доковЧао Таю и Джейн очень повезло. Повезло не находиться в зале, когда всё началось, повезло, что встреченные ими в коридоре террористы решили не стрелять, повезло пересидеть все остальные события в кухне, повезло без приключений выбраться из неё, повезло и в том, что машина осталась целой, – припарковали бы рядом с входом, изрешетили бы всю, а так простояла в безопасности в отдалении. Поэтому никто не помешал им сесть в машину и уехать. И уехали. Ехали по ярко освещённой авеню Эдуарда VII прочь от «Амбассадора», потом свернули в Концессию, ехали по пустым засаженным платанами улицам с редкими фонарями и ещё более редкими встречными машинами, с особняками за высокими заборами и закрытыми витринами магазинов, выехали к Южному вокзалу (Джейн уж тут подумала – не в Нинбо же он увезти её собирается на ночь глядя?) Но и вокзала не остановились, двинулись дальше, через китайские кварталы, где было совсем уж темно и пусто, и тут уж Джейн совсем не могла придумать, куда это Тай её повёз, там ведь дальше на юг вообще ничего не было – только доки и Хуанпу. Туда и направились. Машина остановилась на разбитой и грязной тёмной улице перед ржавыми железными воротами, скупо освещаемыми единственным фонарём. Чао Тай посигналил, ещё раз, длиннее, из деревянной будки вышел китаец в драном пальто, открыл ворота, заехали внутрь, проехали мимо каких-то цистерн, остановились рядом с двухэтажным зданием с плохо различимыми в темноте иероглифами над входом: «Администрация». Окна здания были темны, двери заперты на висячий замок, и единственным знаком, что здесь был кто-то, кроме Чао Тая и Джейн, были две легковые машины, припаркованные рядом с входом, там же, где остановился и Чао Тай. Чао Тай вышел из машины, заглушил мотор, открыл Джейн дверцу. Вышли, огляделись по сторонам, Чао Тай запер двери. Впереди была пустая пристань, и тёмная джонка с шинами по бортам пришвартована рядом, а за джонкой – тоже пустая и тёмная широкая, метров с пятьсот здесь, Хуанпу, буй белесым пятном в отдалении и слабые огоньки пудунских пристаней на другой стороне. В тишине гулко отдавались шаги по асфальту, с реки дул холодный порывистый ветер. Над головой висело несколько звёзд, и быстро проплывали рваные белесые облака. Ни одного человека, кроме Чао Тая и Джейн, здесь не было. Чао Тай взял Джейн за руку и уверенно повёл дальше по пристани. Тёмная маслянистая вода тяжело плескалась за краем причала, метрах в пятидесяти горела единственная электрическая лампа, раскачиваясь на столбе под коническим жестяным абажуром. К ней Чао Тай и повёл Джейн. Подойдя ближе, Джейн могла заметить, что в этом месте пристань поворачивает налево, открывая вход в небольшую заводь в глубине берега. Сама заводь, однако, была скрыта за углом красной кирпичной стены какого-то здания и не видна Джейн. Дошли, повернули. И тут Джейн увидела, куда её вёл Чао Тай: в узкой заводи у причала стояла и сверкала иллюминацией небольшая грузопассажирская джонка: Борта джонки были празднично украшены разноцветными гирляндами цветов, а под реями мачт висели круглые бумажные фонарики, чей тёплый красный свет терялся в ярком белом электрическом свете из рубки кораблика и с фонарей на носу и корме. Были подняты два небольших бордовых перепончатых паруса, парус же грот-мачты был снят и свёрнут вокруг спущенной реи. На палубе и у сходен стояли несколько человек в китайских и европейских костюмах, среди них Чао Тай приметил и хозяина джонки Ма Юна – низенького и крепкого китайского мусульманина в белой тюбетейке.
-
Бесспорно, это та самая джонка!
|
23.10.1935 12:30
Шанхай, Международный сеттльмент,
Нанкин-роад, кафе "Бьянки"
- Я положу на столик рядом с собой газету и пачку сигарет "Золотой дракон" на неё, - ответил капитан, попрощался с Остином и положил трубку. Нанкин-роад - это то место, куда первым делом идут все, прибывающие в Шанхай: неважно, на океанском лайнере ли из Америки, Японии или Британии, на поезде из Нанкина или Ханчжоу или на утлом сампане по узким каналам и речушкам, в изобилии прорезающим равнинные земли дельты Янцзы. Нанкин-роад была растиражирована на миллионах открыток и фотокарточек «Привет из Шанхая», уступая по этому показателю разве что Бунду, и зачастую бывала единственным местом, о котором прибывающий в Шанхай турист хоть что-то знал. Но уж о ней знали: даже в бедных деревнях Цзянси, напутствуя молодого парня с котомкой за спиной, которому всей деревней собрали денег на билет в третьем классе до Шанхая, говорили – попадёшь в Шанхай, сходи на Наньцзин-лу. И он, сойдя с поезда, сразу шёл через весь город пешком (потому что так привык) на Наньцзин-лу и глазел на пёстрые вывески на английском и иероглифами (которых он тоже почти не понимал), и на автомобили и трамваи, и на невиданных доселе иностранцев в костюмах, как из кино, и задирал голову на шпиль здания фирменного магазина «Синьсинь» («новый-новый» по-китайски, а по-английски он почему-то назывался «Sun») И в витрины тоже заглядывал наивный провинциал, но, разобрав непривычные ему арабские цифры на ценнике, смущённо отворачивался и топал дальше, восхищаясь и пугаясь этого города, и в то же время с гордостью думал, что он теперь – тоже шанхаец, не совсем настоящий пока ещё, но, если будет хорошо работать, то года через два уж точно станет. Точно так же и приехавший в Шанхай 22-летний выпускник Стэнфорда, принявший должность в одном из крупных банков, шёл в свой первый день в Шанхае на Нанкин-роад и глазел на невиданные иероглифы, на рикш, в короткую минуту отдыха пьющих чай прямо из краника больших чайников на тележках уличных разносчиков еды, на статуэтки будд и медные курительницы в окнах антикварных магазинов и неумело пробовал цеплять палочками еду в китайском ресторане, и влюблялся в этот город, и восхищался им и вспоминал вычитанное в путеводителе, что по местному обычаю шанхайлэндером имеет право называться тот, кто прожил в Шанхае тринадцать месяцев, а точнее один год, один месяц, один день, один час, одну минуту и одну секунду. И думал – один день уже есть, осталось триста девяносто пять. Шанхай обманывал и того, и другого: один через два года обнаруживал себя в грязном общежитии рабочих фабрики «Ориентал коттон» в Янцзыпу и с грустью вспоминал свою деревню в окружении чайных плантаций на склонах холма, её чистый воздух, простые нравы и девушку Цзинь Жуй, сейчас уже, конечно, выданную замуж за кого-то другого, и понимал, что подняться в жизни всё-таки не получится, и вернуться тоже – не отработав денег, которые всей деревней собирали, и тогда он в первый раз шёл к барыге и покупал опиум. Второй через два года обнаруживал себя на съёмной квартире в центре города в постели с проституткой и ужасался жизни, которую ведёт: с десяти до семи банк, потом ресторан с коллегами (каждый день, да! каждый день вечером в ресторан с коллегами!), потом спать, потом выходные: скачки, казино, ресторан, бальный зал, проститутка, спать. И наш стэнфордец тоже вспоминал свою Калифорнию, и тоже хотел туда вернуться, и тоже не мог: через полгода ему обещали повышение, как же тут уедешь. И стэнфордец звонил знакомому и просил достать ему кокаина, потому что гашиш уже не спасал. Впрочем, был и третий вариант: такие люди, как Остин или капитан Чжао – привыкшие к Шанхаю, притерпевшиеся, не давшие себя сломать, не пускающиеся во все тяжкие – просто пытающиеся здесь как-то жить и заниматься своей работой. Капитан Чжао, тридцатипятилетний мужчина в тёмном френче, с гладко зализанными на пробор волосами и маленькими, то ли под Чаплина, то ли под Гитлера, усиками, дожидался Остина у столика в углу дорогого итальянского кафе «Бьянки» с чашкой зелёного чая, китайской газетой и пачкой сигарет на ней. В этот обеденный час в кафе было полно посетителей – в основном приезжих, конечно: какая-то шумная компания латиноамериканцев о чём-то спорила за большим столом, по соседству с Чжао расположилась немолодая скандинавская пара – то ли шведы, то ли норвежцы. Эти сосредоточенно рассматривали карту Шанхая, тыкая пальцами и обмениваясь комментариями. - Инспектор Рейнольдс? – без уверенности в голосе спросил капитан Чжао Остина, когда тот подошёл к столику. Похоже, что Остин был не первый, кто подходил к столику капитана в надежде занять свободное место.
-
-
Вот для меня пока что в игре самый лучший пост мастера - вот этот.
|
21:42
Джулия и Беатрис:
– Да нет, не очень, – хмыкнул Чен Гуйшэнь. – Я вижу, настроение у тебя снова рабочее. Ну и правильно, действительно, шанса упускать нельзя. Только давай не очень долго, Трис тоже несладко пришлось.
Джимми проследовал вместе с Джулией к Беатрис и на английском представил девушек друг другу:
– Трис, познакомься, это моя коллега Джулия Лян. Джулия, это Беатрис Бельфлер; Евангелина Вонг – это сценический псевдоним. Трис, Джулия хотела бы задать тебе пару вопросов, буквально на пару минут, а потом я провожу тебя домой, окей?
Оставив дам общаться друг с другом, Джимми поспешил к Мартину, стоящему за линией полицейских.
Мартин
Из-за цепи полисменов Мартину было неплохо видно, что происходит перед входом в «Амбассадор» - из главного входа вывели пятерых бандитов, одного из которых, низенького и худого с рассечённой окровавленной щекой, к которой он сейчас прикладывал платок, он уже тут видел. Двоих задержанных, один из которых имел вид весьма помятый, конвоировали японские офицеры – они усадили их на колени с руками за голову на тротуар неподалёку от стены здания. Других троих полисмены-китайцы отвели в полицейский фургон, который, проехав через оцепление, удалился по Эдуарда VII, свернув на Хэнань-роад.
Лиза, закончив разговаривать с детективом-лаоваем, обратилась к собравшимся музыкантам, что сейчас они все могут расходиться по домам, а завтра чтобы все подошли в Центральное управление Муниципальной полиции. После этого музыканты, стоявшие перед входом, стали понемногу расходиться, и был хороший шанс поймать кого-нибудь из них для интервью. В этот момент к Мартину подошёл Джимми.
– Здорово, Сяохэ. С Лизой всё в порядке, – Джимми кивнул на сестру Мартина, сейчас вместе с двумя охранниками стоявшую рядом с накрытыми скатертями трупами, сложенными у стены. – Что, не пропускают, да? Слушай, здорово, что ты тут: давай, может быть, сбегаешь в редакцию, поднимешь всех на ноги, нужно экстренный выпуск запускать. Чёрт его знает, кто там сейчас в редакции есть, но всех, в общем, надо из постели поднимать и на работу гнать. Такая удача! «Норт Чайна» когда ещё про это дело пронюхает, а у нас тут всё из первых рук.
Остин:
Остин направился в вестибюль «Амбассадора», откуда сразу же позвонил в Центральное и сделал распоряжения о том, чтобы предупредили французов и китайцев (с последними дело, правда, осложнялось тем, что им как-то нужно было передать рисунок Джимми Чена), а кроме того, чтобы узнали, кому принадлежит номер шестьдесят восемь-сорок два-ноль. Центральное перезвонило через несколько минут, сообщив Остину, что все распоряжения переданы, а номер принадлежит ресторану «Северо-западная кухня семьи Чжай», расположенному в китайской части района Хункоу.
Ричи:
Препроводив взятых бандитов в пэдди-вэн и оставив японских офицеров охранять корейских террористов, Ричи более не имел никаких особенных дел и занимался тем, что стоял с Хамфри неподалёку от входа, контролируя действия полисменов да раздавая всякие мелкие поручения.
– О, гляди! – указал вдруг Хамфри пальцем на Лизу Херингслэйк, сейчас с двумя славянского вида парнями в костюмах стоявшую рядом с трупами, сложенными у стены. – Это ж та самая сука, о которой я говорил. Живая, – с явным разочарованием протянул Эндрю. – Такие бабы, они как тараканы, их хоть газом трави, всё нипочём. О, а это ж мисс… как её там, Бельфлер! – указал Эндрю на Беатрис, беседовавшую с журналисткой, которая уже принялась брать интервью, даром, что десять минут назад была в заложницах. – Говорят, известная певица. Насчёт этого не знаю, а жопа ничё так, – Хамфри склонил голову набок, внимательно рассматривая упомянутую часть тела как раз стоявшей к ним спиной певицы.
-
Такие бабы, они как тараканы, их хоть газом трави, всё нипочём
Мой дядя говорит: "Лопатой не убьешь!")
|
|
21:23
Трис:
– Всё, я всем позвонила, кому надо. Можете теперь звонить сами, – глухо сказала Лиза, вышла из-за стола, подошла к окну, выходящему на Уху-роад, постояла какое-то время, вглядываясь в пейзаж тёмной улицы за окном, затем обернулась к Трис.
– Ну у тебя и вид, Трисси, - покачала головой Лиза. – Фотографам на глаза не попадайся в таком виде. А впрочем, реклама.
– Да уж, нам всем такую рекламу… - начала было секретарша Дженни, сидевшая на стуле у двери в «предбанник» кабинета.
– Замолчи, - резко оборвала её Лиза. – Замолчи, Сяоюнь, - повторила она спокойней по-китайски. – Извините, госпожа Хэ, - по-китайски же ответила Дженни-Сяоюнь.
Лиза снова отвернулась к стеклу, наблюдая за происходящим на улице. Тем временем к телефону подошла Наоми и принялась названивать какому-то Луису, уверяя, что с ней всё хорошо. Непонятно, зачем было сообщать о случившемся, ведь неведомый Луис всё равно никак не мог узнать о том, что только что произошло в «Амбассадоре», если только, конечно, не находился прямо сейчас перед зданием, – но тогда как бы он ответил на звонок? Судя по всему, он и не знал, и было даже забавно наблюдать за тем, как Наоми рассказывает своему новому папику о том, что тут случилось пять минут назад и почему за неё не стоит волноваться.
– О, полицейский, - без выражения сказала Лиза, указав пальцем куда-то на другую сторону улицы.
– Чёрный ход перекрыли, - заметил электрик Жуй Жуй, подошедший к стеклу и тоже принявшийся внимательно наблюдать за событиями.
– Пожалуй, - согласилась Лиза.
– Странно только, что не стреляют, - сказал Жуй Жуй.
– Да уж, - кивнула Лиза.
Тем временем из предбанника раздались смех и стоны Уоша, который пришёл вместе с Борисом.
– Живой? – коротко осведомилась Лиза, выглянув из кабинета.
– Ага, только, ногу, ногу прострелили! Ступню насквозь! Я-то думаю, какого чёрта так больно, а? – и Уош снова расхохотался, уже устало и больше по инерции, да и чтобы себя подбодрить, наверное.
– Разберётесь там сами? – устало спросила Лиза.
– Да разберёмся, конечно, - подтвердил Борис.
– Нет, ты иди вниз, ищи Джона По. Ищи Джона По! – приказала Лиза. – И веди его сюда. Весь биг-бэнд сюда веди! Понял? Позови Алекса сюда, он перебинтует!
– Так точно, мэм, - по-военному отрапортовал Борис.
– Выполняй, - в тон ему откликнулась Лиза и закрыла дверь, привалилась было к ней спиной, но тут же отошла к столу, около которого и встала, зачем-то взяв из аккуратной стопки бумаг на столе какую-то папку и перелистнув пару страниц.
Наоми тем временем закончила говорить и присела на край стола Лизы.
– Что, мисс Херингслэйк, конец «Амбассадору»? – с неясным выражением поинтересовалась Наоми у администратора. Лиза молча пожала плечами, положила папку на место и снова отошла к окну.
Чао Тай и Джейн:
Чао Тай о чём-то разговаривал с Гольдфарбом по-английски, Джейн и мистер Ли в разговор не вмешивались, а остальные обитатели кухни и вовсе не проявляли интереса к разговору на иностранном языке.
Так бы общались они и общались, но отворилась дверь кухни, и на пороге появился японский офицер.
- Простите за вмешательство, господа, - извинился он по-китайски. - Преступник здесь?
- Да, здесь! - поспешил ответить мистер Ли, указав на стол, под которым сидел кореец. Японец проследовал к столу, жестом скомандовал корейцу подниматься. Тот покорно вылез из-под стола, ухватился за край столешницы, японец рывком поднял его за руку.
- Простите меня, господа, за то, что не смогли в полной мере защитить вас от этого оборванца и его друзей, - сказал японец, следуя с корейцем из помещения.
Кореец обернулся и крикнул что-то Чао Таю по-корейски:
Японец сердито дёрнул его за рукав и вывел из помещения. Обитатели уютной кухни продолжили тем временем своё милое общение.
Дзиро:
В то время, пока Дзиро показывал капитану Ямаде путь в кухню, Джимми продолжил своё общение с музыкантами в гримёрке, подойдя к двери и заглянув туда.
– Да, господин По, всех уже, кажется, поймали, - заканчивал свою речь Джимми. – Но вы пока не вылезайте, сидите здесь, мало ли. Я её сам пойду поищу.
Распрощавшись тем самым с неизвестным господином По, Джимми обернулся к Дзиро.
– Господин Тяньчжун. Мне сейчас нужно будет кое-кого найти, вы меня извините, - и Джимми торопливо двинулся по коридору к засценному помещению.
В это время из кухни вышел капитан Ямада, крепко державший за плечо корейского террориста, – настолько японский офицер не опасался и, видимо, презирал этого корейца, что даже руки ему заломать не удосужился, просто вот так вот положил ладонь на плечо, крепко так, надёжно положил и повёл по коридору к своим товарищам-офицерам и полицейским.
– Как ты меня назвал?! – оживлённо общался с бандитами тем временем иностранец-полицейский. – А ну скажи ещё раз, я это слово на бумажке запишу!
Джулия:
- Ясно. Идею понял, - вполне серьезно, без всякой насмешки ответил полицейский. - Но скажи, тебе не кажется, что при таких целях держать в заложниках трех китайцев - как-то нелогично? Ты же вроде как их интересы защищаешь, а тут - пистолет к голове и прикрываться, как щитом. Самому-то нравится такой оборот?
Видимо, полицейский не до конца разобрался, кто был в заложниках – известно ведь, что для лаоваев все азиаты на одно лицо, ведь из четверых заложников японцев было как минимум двое, Джулия была китаянкой, а четвёртый заложник себя пока никак не проявил, и Джулия даже не знала, мужчиной он был или женщиной.
- Те, кого мы защищаем, на приёмы к японцам не ходят, - возразил Ли Сю.
- Ходят - не значит, что сотрудничают, а вы их подвергаете опасности. Впрочем, ладно, это-то дело твое - хотя мне на твоем месте было бы стыдно прикрываться своими соотечественниками. Но это дело твое. А теперь послушай меня. Вы нас сегодня заставили понервничать как следует... и ребят моих тоже. Не дай бог у кого из твоих заложников нервы сдадут или сознание потеряет - наши могут огонь открыть. Как насчет обменять двоих мужчин на меня? У меня нервы точно не сдадут, - усмешка, - не впервой, да и китайцы в меня точно стрелять не станут - если со мной что случится, за такое их уволят всех вместе. Спокойно доедем до перекрестка - и там меня высадишь. И тебе проще будет - не надо китайцами прикрываться. Для меня-то это работа, а они... просто не в то время не в том месте оказались.
- Не пойдёт, начальник, - усмехнулся Ли Сю в ответ. - Знаем мы такие номера.
- Не настаиваю. Но подумай хорошенько. Вам же нужно признание! Одно дело, если в газете напишут: "В заложники были взяты граждане Китая", и совсем другое "в плен народных мстителей, попал даже инспектор SMP, британский подданный, которому нападающие сохранили жизнь, так как он не был японцем". Улавливаешь разницу?
- Да что я, ваших газет не читал? – сардонически оскалился Ли Сю. - Всё равно наврут. Где машины?
-
Когда сцена в амбассадоре только началась, я, если честно, побоялся, что она приведет к банальному описанию массакра, посреди которого игроки банально пытаются спастись.
Но - промахнулся! Куча НПЦ оживили весь этот мрачный кровавый бедлам до невозможности! И психанутый Гольдфарб с наглым Джимми, и агрессивная японская военщина, и стальная леди, и пьяный канадец, и Ли Сю со своими гангстерами (который имхо, в НПЦ моде ничего не потерял) - словом, все как с картинки))).
Ну и, конечно, круто посмотреть на все это теперь еще и изнутри.
-
Даже не верится, что по аське так гармонично отыграли!
|
21:22
Джулия:
— Ли Сю! - крикнул лаовай-полицейский от двери, - Ты и так уже начал убивать невинных людей! Что тебе помешает убить еще двоих? Отпусти девушку, и я договорюсь насчет машины! Покажи мне, что тебе можно верить! Иначе как я могу вести переговоры? Ты делаешь шаг - я делаю шаг, и давай не будем заводить друг друга в тупик! И так уже... наломали дров... Решай! Я, кажется, не прошу невозможного. Но машину получишь только в обмен на нее.
— Сначала машины! Наши машины, они за углом стоят обе! Потом мы отпустим тех, кто не влезет, - крикнул Ли Сю.
— Правда отпустим? - тихо осведомился у Ли Сю бандит, держащий толстого японца.
— Да, - так же тихо ответил Ли Сю. - Но по моей команде.
Тем временем за спиной послышались шаги нескольких человек и резкий истеричный голос бандита с автоматом:
— Не подходи! Не подходи, блядь! Убью! Скажи! Скажи им!
Сразу же за этим совсем близко послышался женский голос, о чём-то взволнованно, громко и сбивчиво говоривший по-японски: похоже, что бандиты взяли себе новых заложников. Ей ответил мужской голос, с успокаивающей интонацией говоривший на том же языке. Судя по звуку, обладатель голоса стоял у двери в танцевальный зал.
— Шифу, мы взяли, взяли! - громко зашептал четвёртый бандит, которого Джулия ещё вообще не видела.
— Молодцы, - коротко ответил Ли Сю.
— Послушай, Ли Сю! - снова начал полицейский. - Так дела не делаются! Понимаю тебя, мне бы тоже хотелось "быстро с наваром и с понтом по шмарам" - лаовай блеснул знанием китайского блатного жаргона, - но ты тут заварил такую чертову кашу, сам понимаешь... Еще раз! Заложники в обмен на машину! Если ты их сейчас убьешь, меня, возможно, уволят, но это никак не поможет тебе выбраться отсюда, пойми! А в то, что ты их просто отпустишь, я верю слабо - вы и так перебили кучу народа. Что вам еще пара трупов!? Не упускай последний шанс. Я сейчас прикажу подготовить машину, но пока не увижу, что ты готов идти навстречу - извини, ничего не выйдет. И я бы на твоем месте соображал быстрее, приятель! Пока самураи не порезали вас всех на кусочки.
— Заложники в обмен на машины! - подтвердил Ли Сю. - Не машину, а машины, обе! Если я увижу наши машины перед входом, мы отпустим, - Ли Сю коротко оглянулся, - обеих женщин. Остальных отпустим, как отъедем на безопасное расстояние. Я клянусь, что не причиню им вреда без необходимости. И я клянусь, что убью их всех, если ты не дашь нам машины!
— Хорошо, обе машины, хорошо, - с успокаивающей интонацией заговорил полицейский. - Сейчас подгоним. Ключи в машинах?
— В машинах, - утвердительно ответил Ли Сю.
— Кстати, пока они там бегают... Слушай, я конечно, прочитаю потом в газетах, но... ты не объяснишь мне... зачем вы все это устроили? - видно, что полицейский пытался говорить как можно дружелюбнее. - Тут не банк, не ювелирный магазин... Зачем все это?
- Мы пришли убивать японцев! - ответил Ли Сю, по-ораторски повысив голос. - Коротышки не будут топтать нашу землю безнаказанно! Они убивали китайцев - теперь мы убиваем их! Зуб за зуб!
Толстый японский господин, стоявший рядом с Джулией, что-то взволнованно зашептал по-японски, и дама-японка, которую Джулия не видела, тут же снова громко заговорила на своём языке.
— Заткнись! Заткнись, я сказал! - прикрикнул на неё бандит.
|
Я уже всё обдумал.
Скорее всего, я умер, и это значит, что после смерти что-то есть. Похоже на мытарства преподобной Феодоры, описанные в житии святого Василия (XI век). Воздушные мытарства. Безвоздушные мытарства. Интересно, как человек XI века мог описать увиденную поверхность астероида? Вопрос вроде тех, которыми задавались французы из школы анналов.
Человек шёл по ломким камням, заложив руки в карманы.
Какой-то чёртов Сент-Экзюпери: у меня теперь есть свой собственный маленький астероид, а я, стало быть, маленький принц; пожарил бы яичницу на вулкане, но нет ни вулканов, ни сковороды, ни яиц, кроме, хм, гусары молчать. Впрочем, всё это не отменяет того, что за мной рано или поздно прилетит лётчик в голубом самолёте и бесплатно покажет кино. Нет, это уже какая-то чушь пошла.
Человек шёл дальше, глядя себе под ноги.
Итак, мытарства? Но позвольте, мытарства предполагают тщательный анализ всей предшествующей жизни на предмет того, что перевешивает: грехи или добрые дела. По сути говоря, сейчас должны были бы появиться весы или что там было у неё, сейчас уже не помню, и ангел с чёртом должны были бы складывать на них все мои дела. А какие там дела, когда я, и как зовут-то меня, не помню? Должны были ведь как-то звать?
Человек остановился на какое-то время, повернулся от ветра, приложил руку к подбородку.
Миша, Коля, Лёша, Петя, Федя, Володя, Ганс-Мария-Фридрих, Исаак, Абдулхазрат? Ни одно из этих имён не отзывается ничем, все они одинаково мне чужды или близки, если уж на то пошло. Впрочем, нет, Абдулхазратом мне как-то быть не хочется. Не буду Абдулхазратом. И Гансом-Мария-Фридрихом тоже, наверное, не был, скорее всего, был русским, потому и деньги русские в кармане. Интересно, тут есть какое-нибудь кафе поблизости? Я бы взял себе чашку латте.
Человек пошёл дальше, зябко замотав шею шарфом и заложив руки в карманы.
Итак, если это не какая-то глупая галлюцинация (хотя и этой вероятности исключать нельзя), и я действительно мёртв, значит, сознание продолжает существовать и после смерти. Это само по себе не может считаться доказательством существования Бога, но существование Бога было бы самым логичным объяснением этому факту. Если мы примем существование Бога как данность, стало быть, моё пребывание здесь имеет цель. «Производит впечатление имеющего цель», лол. Отставить Фому. Или не имеет? Это уже другой Фома получается.
Человек выставил два пальца перед собой, как бы прикладывая их к чему-то.
Ещё и третий был, который писал про то, что царство Божие подобно человеку, задумавшему убить вельможу. Нет, это уже совсем мимо кассы. Итак, цель. Цель в развитии. Цель в самосовершенствовании. Доказательств этому нет, но доказательств тут нет ничему. Нужно принять как ориентир, как наиболее предпочтительную гипотезу. Итак, цель в развитии. А как развиваться? Я не знаю. А раньше знал? Нет. Как звали меня, не знаю, а вот что не знал, как развиваться, – в этом уверен. Значит, нужно узнать. А для этого нужно идти вперёд.
Человек идёт вперёд, глядя по сторонам.
|
-
Конечно, какая это медитация, сказали бы мудрые буддийские монахи
Медитация по-славянски!)))
|
21:17
Джулия
Не успела Джулия договорить, как сверху, прямо над головой, громыхнул выстрел и ещё один, и ещё, и ещё несколько почти одновременно один за другим, не посчитаешь. Джулия, седовласый господин и врач как по команде подняли головы вверх, откуда донёсся вопль, прокатившийся по второму этажу и подхваченный сидевшими, стоящими, лежавшими и пытающимися выйти из зала. С лестницы, ведущей на второй этаж, что-то упало, звонко грохнувшись о паркет пола, по другой лестнице на первый этаж начали сбегать люди. Толпа, собравшаяся у выхода в бар, успокоившаяся было, с новой силой налегла на спины стоящих впереди, пытаясь втиснуться в узкий проход.
- Держите так, мисс, держите так! – повторил Джулии японский доктор и, поднявшись с колен, побежал, спотыкаясь о сидящих у стены, к левой лестнице на балкон. Лейтенант Цзиньшан слабо посмотрел на Джулию и снова закашлялся кровью.
Трис:
Уош продолжал сидеть на полу, судорожно стягивая с ноги чёрный лакированный ботинок и заливаясь хохотом:
- Он же… он как возьмёт и как выстрелит! – хохотал контрабасист, откидывая ботинок в сторону. – Я уж думал – всё, капец! Уууууй, ааа! – взвыл Уош, схватившись за ступню в пропитанном кровью белом носке, завалился набок, всё ещё держась за ногу, и снова заржал, перемежая хохот стонами и ругательствами на обоих известных ему языках.
Трис не видела, как в зале снова началась стрельба, услышала только выстрелы, несколько, один за другим, метнулась за кулисы, влетела в засценное помещение: тут было пусто, светло, и только на полу ничком лежало тело – ещё один охранник, со спины и не скажешь, кто именно из этой бригады русских парней, работавших здесь, может быть, Юрий или Борис, которые несколько дней назад спасли её от озверелого Шона. Длинная красная рана на белой шее, лужа крови на тёмном паркете.
И только сейчас Трис услышала, что в коридоре, отходящем от сцены направо, где была её гримёрка, слышен какой-то шум. Подняв голову, Трис увидела в конце коридора нескольких людей, которые кого-то били ногами, окружив. Серо-зелёные спины, чёрные сапоги на поднимающихся и опускающихся ногах.
- Трисси! Трисси, сюда! – послышался взволнованный громкий шёпот из-за спины. Обернувшись, Трис увидела, что в коридоре налево, который вёл к гримёркам Наоми, бэк-вокалисток и на второй этаж, к кабинету Лизы, стоят двое: барабанщик Чарли и охранник Борис – значит, на полу всё-таки Юрий. Чарли, опасливо пригнувшись, махал Трис рукой, подзывая к себе, Борис стоял с пистолетом в руке и настороженно озирался по сторонам. В этот момент из коридора направо от сцены донеслись выстрелы, один, другой.
Чао Тай и Дзиро
Чао Тай в рабочем комбинезоне и Дзиро с закрытой бутылкой пива, которую держал за горлышко (какие всё-таки разные у них были планы действия в трудной ситуации), выглянули из своих укрытий почти одновременно и оба стали свидетелями того, как по коридору от засценного помещения со всех ног улепётывают два молодых азиата, один в свитере, другой в костюме, а за ними гонятся японские офицеры, много, человек десять. У самого поворота коридора один из офицеров настиг парня в костюме, ухватил того за шиворот, вырвал из руки пистолет, свалил с ног ударом в затылок, принялся лупить ногами. Тут же и кое-кто из остальных преследователей остановился, присоединившись к избиению, собравшись вокруг поваленного бандита, другие же продолжили бежать за вторым парнем, который удирал по коридору в ту сторону, где по словам рабочих хода не было.
Парень, не оборачиваясь, выставил руку с пистолетом назад и выпалил на ходу один раз, другой – оба раза в белый свет как в копеечку, куда-то в стены, в потолок, пули звонко срикошетили, но никого не задели. Офицеры пригнулись, но продолжили преследовать бандита.
На шум из двери кухни показалось знакомое лицо: Джимми Чен с любопытством выглядывал наружу.
Джейн:
- Что вы, что вы тут устраиваете? – взвился вдруг толстый шанхайлэндер, заметив уже заканчивающего переодеваться Чао Тая. – Вам совсем жить надоело?! Вы всех нас сейчас подставите!
- Замолчите, Гольдфарб! – неожиданно резко сказал китаец в костюме, обернувшись к шанхайлэндеру. По-английски сказал, почти без акцента. – Вы сейчас орёте громче всех, – тише добавил он.
- Я ору?! Да, я ору! – энергично закивал головой Гольдфарб. – Я, блядь, жить потому что хочу!
- Кто ж вам не даёт, - флегматично заметил Джимми.
- Лаовай, - с непонятным выражением протянул Хао Тайчжун, сидящий на краю раковины в своей майке и брюках Чао Тая (остальную одежду он примерять не стал), кивнув на Гольдфарба. Дэ Цю понимающе покачал головой. Китаец в костюме бросил взгляд на рабочих и тоже незаметно кивнул, усмехнувшись.
- Мисс Морган, вы только не волнуйтесь. Там уже, наверное, полиция всех перестреляла, - обернулся к Джейн Джимми и немедленно, будто бы в опровержение его слов, из коридора, совсем близко, раздались два выстрела.
- Или не всех, - поспешил признать свою неправоту Джимми, подошёл к двери и беспечно выглянул в коридор. Гольдфарб и остальные полностью опешили от подобной неосмотрительности, и помешать Джимми открыть дверь никто не догадался.
-
Все-таки чарджующие японцы хороши)
|
12:39
Лейтенант Хун увёл полсотни конных бойцов через реку, чтобы обойти деревню по другой стороне долины и ударить с тыла. Глупо было бы предполагать, что этот маневр, произведённый при свете дня, окажется незамеченным коммунистами, впрочем, как не остались незамеченными и действия самого Фэй Чжана с оставшейся полусотней.
На деревню удобнее всего было наступать по берегу речки: здесь были несколько рощиц, где можно было укрыться от пуль, да и берег сам всём на своём протяжении изобиловал невысокими, в человеческий рост-полтора песчаными обрывами, за которыми можно было укрыться, да на подступах к деревне здесь стояла пара каких-то сарайчиков: какое-никакое, а укрытие.
Выждав время, достаточное лейтенанту Хуну для того чтобы обогнуть Дахэ, Фэй Чжан повёл бойцов по берегу реки в атаку. Остановившись на минуту за песчаным откосом и достав верный цейссовский бинокль, Фэй Чжан ещё раз осмотрел позиции красных и выругался: пулемёта не было – видимо, заметив манёвры лейтенанта Хуна, чёртовы коммунисты предпочли перетащить «Льюис» на другую сторону деревни, откуда пойдёт конница.
И всё же шансы были: несмотря на то, что коммунистов было больше раза в два, несмотря на пулемёт и оборонительную позицию, Фэй Чжан прекрасно знал, что у коммунистов большие проблемы с боеприпасами, да и с оружием в целом, – коммунистов-то, может быть, там и двести человек, а винтовок – хорошо если сотня или полторы. Лучше бы сотня, конечно. Выучка у красных тоже была никакая, ни окапываться толком они не умели, ни маскировать позиции. В рукопашном же бою измученные тысячекилометровым переходом оборванцы, наверное, смогли бы одолеть капитана Фэя разве что навалившись кучей. И всё же одного у них было не отнять: боевой дух у красных был высок, дрались они пусть и неумело, но с ожесточением, а уж теперь, когда Фэй Чжан запер их в деревне, не оставив выхода… нет, простым дело не будет.
Фэй Чжан с бойцами подходил всё ближе, а красные всё не стреляли, хотя уж конечно видели передвижения капитана – верный признак, что с патронами у них беда, берегут, ближе подпускают. Так, без единого выстрела, Фэй Чжан добрался до примеченной им рощицы метрах в ста от деревенских домов и в пятидесяти – от сараев, мимо которых проходила пыльная грунтовая дорога к деревне. Не один капитан отметил стратегическую значимость сараев – коммунисты с винтовками засели и за ними.
Капитан лежал в траве под кустом с браунингом в руке. Солнце сегодня палило немилосердно, а то ли ещё в июне будет. Здесь же, в тени деревьев, было хорошо, и трава была мягкой, и ветерок приятно шелестел листвой над головой, и речка чистая, холодная, была в паре десятков метров – лежать бы так и лежать, а потом взять да искупаться в ледяной воде, чтоб зуб на зуб не попадал, – и на песок, под солнышко. А потом ещё и, скажем...
- Вперёд! – крикнул Фэй Чжан, поднимаясь в полный рост и взмахнув браунингом. Солдаты Народно-Революционной Армии повскакивали из травы и, паля на ходу, не жалея патронов, которых было вдосталь, бросились из рощи к сараям. Коммунисты ответили разрозненным одиночным огнём из деревни, пару раз стрельнули из своих винтовок и засевшие за сараями, попали даже в кого-то, кто-то упал, даже, кажется, двое – из пятидесяти-то! стрельнули пару раз, а потом сами дали дёру к своим товарищам в деревню – добежали двое из шестерых или семерых, остальных подстрелили бойцы Фэй Чжана на бегу, как зайцев, попадали коммунисты в выжженную траву, замерли.
Фэй Чжан добежал до сарая и встал к его дощатой стене, осторожно выглянув за угол. После короткой перестрелки коммунисты снова затихли, перестали стрелять. Солдаты Фэй Чжана тем временем заняли позиции за сараями и залегли под невысокой, в пол-человеческого роста, каменной стенкой вокруг чьего-то огорода с чучелом.
- Эй, гоминьдан! – раздался вдруг пронзительный голос со стороны деревни. – Гляди сюда!
Фэй Чжан снова выглянул из-за угла. На пыльной деревенской улочке появились с пару десятков человек: местные, ло-ло, в кучу согнанные стояли между домами, озирались по сторонам испуганно, а рядом с ними – красные оборванцы, кто с пистолетом, кто с винтовкой, подгоняют, тычут стволами. Женщины, дети в куче, кажется, бабу ту молодую с ребёнком Фэй Чжан и в бинокль видел. А вот гляди-ка, коммунист какой-то – ребёнка на руки взял, прямо хоть на картинку, а в руке пистолет – в висок малышке не наставляет, конечно, держит стволом вниз пока, но у этого-то рука не дрогнет, по роже видно. Вот вам и интернационализм, вот и права малых народов.
-
Загнанная в угол дворняга из последних сил бросается на обидчика.
Вестимо, без боя - никак.
|
23.10.1935 21:15
Шанхай, Французская концессия,
авеню Жоффр, ресторан «Медведь»Сергей:Сергей нечасто ужинал в этом ресторане – не очень-то по средствам ему было обедать в таких местах, где за тарелку борща просили доллар, а маленький запотевший графинчик с водкой стоил и все два доллара. Но сейчас деньги были и сегодня вечером, проведя весь день в бессмысленном безделье и выйдя под вечер пройтись подышать воздухом, Сергей и сам не заметил, как сначала вывернул на авеню де руа Альбер, прошёл мимо сверкающего огнями Канидрома и вывернул на авеню Жоффр, считавшейся самой русской улицей Шанхая.  (улица, по которой едут трамваи – авеню Жоффр, поперёк – авеню де руа Альбер, Сергей шёл по ней справа налево, свернул на перекрёстке направо) Проходил мимо закрытых по вечернему времени лавок и ещё открытых едален, по привычке думал, где бы поужинать, так же машинально считал, где выйдет дешевле, и вдруг ловил себя на мысли – денег-то много! Почти целая тыща долларов заныкана по разным местам, с ума сойти! И в кармане целых пятьдесят, это ж ужраться и упиться. И такая вот чисто русская удаль накатила вдруг на Сергея, был бы снег – и шапку бы, наверное, в него бросил, и захотелось потратить денег – ну, может, не все, но так, хорошо поесть, выпить, наконец, по-человечески, и рож этих опостылевших не видеть, ни Иванкевича красномордого, ни Митеньку-дебила, ни Троицкого настырного, ни Волкову, ни скрипача этого, - хоть на вечер, а? И тут как раз «Медведь» рядом, а мимо русский человек с деньгами проходит – ну и как не зайти? И зашёл, конечно. И место занял за столиком свободным – мало свободных мест в зале сейчас было, не один Сергей из русских был с деньгами – сидели и господа какие-то прилично одетые, и дамы, молодые и не очень, да и нерусские тоже были, хоть и смотрелись инородно в этом отделанном деревом зале с росписями на стенах под Билибина и обязательным (ну как же!) чучелом медведя в старорежимной фуражке с красным околышем. Вот и привычный уже соглядатай Сергея, китаец в долгополом чаншане, поколебавшись, зашёл вслед за Сергеем в ресторан и занял столик на другой стороне зала. Не без садистского удовольствия наблюдал Сергей за тем, как задумчиво и неуверенно изучает китаец меню (ещё и по причине стеснённости в средствах, надо думать) и как снисходительно глядит на него русский официант в переднике. То-то, наверное, мучается бедолага китаец, что заказать. А и поделом, нечего хвостом ходить. Пока Сергей с интересом наблюдал за душевными терзаниями своего соглядатая, в ресторане появился ещё один китаец: военный, офицер, с саблей на боку. К офицеру сразу же подбежал официант, оглянулся по сторонам – нет свободных столиков в зале. И направился с ним прямо к столику Сергея. Ну привет, и поесть спокойно не дадут. Фэй ЧжанФэй Чжан в Шанхай вернулся только сегодня, первый раз за полтора года – полтора года по нищим провинциям, безлюдным горам, разорённым гражданской войной деревенькам, по слякоти, снегу и разбитым дорогам, и вот неделю назад капитану дали отпуск. Гражданская война не заканчивалась, отнюдь – но затихала: Мао и прочие мерзавцы сумели-таки вырваться из всех тех – не очень цепких, надо признать, - тисков, в которых их зажимал генерал Чан, закрепились в своих «Освобождённых районах», как они это называли, сами наружу не совались, но и все попытки наступления отбивали – как вот последнюю, которой Фэй Чжан был свидетелем. Свидетелем, но не участником – последние несколько месяцев его держали на бессмысленной и бесполезной должности заместителя начальника штаба полка одного из союзных сейчас нанкинскому правительству милитаристов. За этим и прикомандировали – следить за состоянием дел в полку, докладывать, если что, ну и постараться из парней каких-никаких солдат сделать. Солдат сделать из разношёрстого сброда не вышло, времени было мало, да и никто из командиров инициатив Фэй Чжана не разделял, опасаясь чрезмерного влияния чанкайшиста на своих бойцов. Итог был предсказуем: во время очередной «кампании окружения», как это гордо называлось, в провинции Ганьсу полк позорно разбежался после первой же контратаки коммунистов, побросав половину оружия. Винтовки, за которые нанкинским правительством было серебром уплачено, достались Мао, орудия достались Мао, даже полевая кухня – и та Мао досталась, сидят сейчас, наверное, пируют фэйчжановыми цзяоцзы. После позорного поражения Фэй Чжана отозвали из полка и отправили в отпуск, и вот он приехал в Шанхай. Весь день Фэй Чжан ходил по городу, не зная, куда идти, чем себя занять и что делать: этот вавилон и так-то неестественно выглядел, а если ещё вспомнить, что – пускай далеко, но всё-таки в этой же стране сейчас идёт гражданская война, сотни тысяч вшивых, озябших, озлобленных людей сидят в окопах, заполненных осенней грязью, а ещё сотни миллионов живут в нищете, в покосившихся прогнивших фанзах с соломенной крышей на пару плошек риса в день и ни разу в жизни электрической лампочки не видали – а тут свет, музыка, люди в красивых костюмах и пальто, шлюхи с бижутерией, гладкие все такие, лощёные, и не верится, что вот так вообще бывает, чтобы одновременно здесь и там так. И ведь, страшно подумать, заботы-то у них тут какие, хоть уши затыкай, чтобы не слышать, – девочка плачет, что мама ей куклу не купила: а две недели назад Фэй Чжан сам приказал расстрелять солдата, изнасиловавшего и убившего такую же девочку. Какие-то молодые китайцы идут по улице, что обсуждают? собачьи бега, чёрт побери, собачьи бега! а их свестники сейчас в окопах в Ганьсу сами всех собак сожрали. И вот о чём с этими людьми говорить. Фэй Чжан ходил по городу: прошёлся по Хункоу, посмотрел, стоит ли скотобойня, так ведь много всего за полтора года построили, могли её и снести, – нет, оказалось, стоит! Даже подкрасили её, отштукатурили заново, так и не заметишь, что вся была исщерблена пулями и осколками снарядов, если приглядеться только. Ну хорошо, скотобойню посмотрел, а дальше – куда? Пошёл на Наньцзин-лу: там ещё хуже, ещё больше света, ещё больше музыки, песен. Свернул, пошёл по какой-то улице темнее – вроде как спокойней тут, и как назло шутиху кто-то грохнул рядом: пригнулся рефлекторно, голову закрыл. Прохожие внимание обратили. Шёл дальше, бродил по улицам, не узнавая их и не вспоминая их имён, глядел на новые модели автомобилей, которых не видывал, на фасоны одежды, на военных – американских, британских, японских, местных каких-то из добровольческого корпуса, а вот китайцев-то и нет почти: в Китае ли мы вообще или где? Ещё дальше шёл, пока ноги не заболели уже, понял, что проголодался, завернул в первый попавшийся ресторан – тоже иностранный, как назло: вокруг одни лаоваи, музыка на непонятном языке, росписи по стенам какие-то. А к чёрту, есть-то не всё ли равно где. Официант-лаовай встретил у входа, извинился по-китайски, свободных столиков нет, говорит, если не против, сядете вон туда? Фэй Чжан против не был, прошёл, куда провели, сел за столик, смотрит – лаовай напротив. Сидит такой себе лаовай светловолосый в свитере, суп какой-то ест: красный, густой, белый соус какой-то плавает и жир капельками по поверхности, и пахнет резко так, пряно – фу. Риса нет, конечно, корзиночка с хлебом стоит, но и хлеб-то странный - чёрный какой-то, с зёрнами в мякоти. Лаовай, однако, вроде за обе щёки навёртывает. Нет, говорит лаовай, не против я, садитесь, пожалуйста. Меню приносят, красивое, в красной бархатной книжечке, с узорчатой каёмкой вокруг каждой страницы. Китайских названий нет, есть по-английски и ещё какими-то непонятными буквами, это русский, что ли? Картинок в меню нет, и английские слова тоже непонятны: borscht, shchi, pelmeni, beef Stroganoff, белиберда какая-то. Что заказывать – неясно.
-
Не без садистского удовольствия наблюдал Сергей за тем, как задумчиво и неуверенно изучает китаец меню
По-нашему, да)))
|
21:14
Джулия:
Плевать на опасность – быстро, быстро к выходу, ведь всё самое важное происходит там, и на приличия тоже плевать: бабушка Лян Чуньгэ пришла бы, наверное, в ужас, увидев внучку, которая вместо того, чтобы мелко-мелко семенить приличествующими девушке из хорошей семьи шажками, со всех ног мчится через весь зал, как какая-нибудь простолюдинка по деревне за курицей. Впрочем, бабушка Лян Чуньгэ не смогла бы совершить подобного спринта по причинам чисто физиологическим – изуродованные десятилетиями бинтования ступни не позволили бы и широкого шага сделать, не то что бежать. Всё-таки не зря отец и прочие реформаторы начала века боролись за эмансипацию, не зря!
Не одной Джулии пришло в голову посмотреть, что происходит в вестибюле: пока сидящие за столиками и о чём-то беседовавшие между собой господа и дамы удивлённо и непонимающе оглядывались, несколько человек так же, как и журналистка, бросились к выходу из зала, откуда как раз донеслось ещё два выстрела.
Джулия бы, конечно, влетела в вестибюль первой, если бы её почти у самого выхода не опередил какой-то японский офицер, молодой, стройный, с тонкими усиками, проскользнул сапогами по паркету, ворвался в дверной проём
Трис:
Евангелина не обращает внимания на происходящее: надо продолжать петь, что бы ни случилось, нельзя прерывать номер, а что там происходит – не её дело, само образуется. И певица прикрывает глаза и продолжает:
Then you’ll spread your wings
и на какую-то долю мгновения кажется, что сейчас всё снова будет хорошо, что всё войдёт в норму и успокоится, потому что и Чарли снова начинает вести ритм, как ему и полагается, и контрабас вступает в нужном месте, и Евангелина поёт дальше, не обращая внимания на то, что откуда-то спереди, из вестибюля, доносятся ещё два хлопка, а Евангелина всё равно поёт
And you’ll take to the sky
Но не играет Дэйв, совсем не играет, и Чарли опять останавливается вслед за Дэйвом, и мелодия рассыпается, умирает. Евангелина оборачивается к музыкантам, и контрабасист Уош понимает голову и вопросительно смотрит на Трис и Дэйва.
- Трис, - обеспокоенно говорит Дэйв и поднимает указательный палец. С противоположного конца зала, из-за прохода в вестибюль доносятся ещё два хлопка, раздаётся пронзительный женский визг, ещё один, один за другим поднимаются со своих мест мужчины, сам генерал Ёсидзуми встаёт из-за стола и громко что-то говорит по-японски.
Чарли оглядывается назад, за кулисы, откуда
Чао Тай и Джейн:
Совсем молодые парни и девушка тоже молодая, всем троим лет по двадцать, не больше. Невысокие, не выше Чао Тая все, девушка-то и вовсе Джейн по плечо. Взгляды недружелюбные, но не тупо-озлобленные, не пролетарии, на студентов каких-то похожи. Одинаковые дешёвые чёрные однобортные пиджаки на трёх пуговицах, сразу видно, что из магазина готовой одежды, белые рубашки с тёмными галстуками, тоже, кажется, одинаковыми. Скромное тёмное платье длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротом, с левой стороны приколота серебряная брошь с цветочным узором. Короткое каре, густая чёлка, симпатичное по-азиатски круглое лицо, маленький нос, плотно сжатые губы. Гладко выбритые безусые лица, у одного волосы на пробор зачёсаны, у другого, с гранатой, – стрижены под короткий ёжик. Глаза у него чуть косят.
Парень перекладывает гранату в левую руку, лезет за пазуху. Девушка выглядит более всего взволнованной, перехватывает маленький чёрный тупоносый револьвер двумя руками, исподлобья глядит на Чао Тая с Джейн, бросает короткий взгляд на парня с пистолетом. Этот тоже озадаченно смотрит на Чао Тая с Джейн, переводит взгляд с одного на другую, видимо, размышляет, как поступить.
А потом
Джулия:
и тут же рухнул на пол, опрокинутый выстрелом в грудь, и ещё выстрел прогремел сразу же за первым, и пуля звонко чиркнула о блестящий металл колонны, и вот уже пронзительный женский визг раздаётся совсем рядом: какая-то дама в серебристом коктейльном платье оседает на пол, зажимая рукой правое плечо, и в зале поднимаются из-за столиков, и к крику раненой женщины присоединяется один, другой, третий, и какой-то мужчина уже бросается к выходу в вестибюль, но его останавливает другой японский офицер, хватая за плечо и оттаскивая к стенке у прохода, у которой уже стоят Джулия и ещё несколько человек.
- Что происходит?! – требовательный китайский голос над ухом, начальнический такой, как у Леманна: какой-то седеющий мужчина в очках стоит рядом с Лян Чуньгэ у стены возле выхода в вестибюль, оглядывается на неё, будто ждёт, что девушка сейчас ему всё объяснит. Джулия смотрит по сторонам: музыка остановилась, певица на сцене с озадаченным видом оборачивается к пианисту. Из вестибюля раздаётся длинная автоматная очередь: стреляют не сюда, похоже, на улице.
В этот момент с другой стороны зала
Чао Тай и Джейн:
делает движение стволом в сторону лестницы – идите, мол, идите.
- Go! Go! – громким шёпотом говорит девушка и повторяет жест парня, указывая на дверной проём за лестницей. Сложно разобрать акцент в этих двух коротких словах, но английский ей явно не родной.
Чао Тай и Джейн не дожидаются повторного приглашения и боком обходят молодых людей, поднимаются по лестнице в пустой коридор: налево должна быть сцена, направо – чёрт его знает, что направо, гримёрки, что ли? Двери какие-то, может, и гримёрки. Чао Тай оглядывается по сторонам, куда идти? Джейн дёргает его за руку и указывает налево, где в коридоре за углом
Трис:
широким шагом на сцену выходят двое: молодые парни, азиаты, один в тёмном свитере с брюками, второй в костюме, у обоих пистолеты в руках, направляют поочерёдно на Трис, на Дэйва, на Чарли (поднял руки вместе с барабанными щёточками), снова на Трис, подходят к краю сцены и – бах! бах! палят куда-то в толпу, один раз, другой, третий, что-то грохает снизу и слева, многоголосый вопль проносится по толпе, ещё пистолетный выстрел, ещё один, не только здесь, под сценой тоже.
Трис видит, как на сцену карабкается охранник, стоявший у одной из дверей в засценное помещение, как к нему оборачивается молодой человек в свитере и стреляет. Охранник (кажется, его Владимир зовут) взмахивает руками и падает со сцены назад в зал. Второй молодой человек стоит в двух шагах от Трис, куда-то стреляет, не целясь, похоже, оборачивается к девушке, кричит радостно:
- Чук-ым ильбон-о!
Чао Тай и Джейн:
ничком лежит тело: верхняя часть туловища скрыта стеной, из-за угла торчат ноги в кожаных ботинках, видны размётанные в стороны полы пиджака, неестественно завёрнутая рука. Бах! бах! – в этот момент оттуда же, слева по коридору, доносятся выстрелы – один, другой, третий. Бабах! – грохот взрыва из-за спины, из-за двери, в которую вошли они с Джейн. Снова выстрелы, один за другим, приглушённый стенами крик – паника в зале, должно быть, начинается паника. Справа раскрывается одна из дверей, молодой азиат в смокинге выглядывает из комнаты.
- Что такое?
Джулия:
один за другим раздаются несколько выстрелов и сразу же за выстрелами – взрыв, справа от сцены, видимо там, где стол генерала Ёсидзуми, какое-то движение там, отсюда плохо видно. Видно зато, что на сцене появились два человека с пистолетами, проходят к краю сцены прямо мимо певицы, охранник лезет на сцену, один из нападающих направляет на него пистолет, стреляет, охранник валится назад, нападающий поворачивается, стреляет в толпу.
Крики, вопли, визг, ругань заполняют зал, рядом – японский офицер с мечом в руке, оглядывается по сторонам, кого рубить? некого! люди бегут через танцевальный пол, куда бегут? кто к лестнице на балкон бального зала, кто к выходу в бар, выстрел! валится бегущий через зал человек в костюме, падает на пол, об него запинается бегущий следом, падает на четвереньки, ползёт.
- Что происходит, сяоцзе?! – истерично кричит девушке в ухо седовласый господин.
-
Благодарю за потрясающее ведение модуля и, в частности, за этот пост.
-
Задумался над корнями слова "безподобно"...
-
Мне нравиться как ты ведешь модуль. Хоть за все подряд ставь плюсы.
Но тут выше всяких похвал. Учел что каждый видит по своему. В одном посте ряд действий и реакция многих. Да еще и столько динамики.
-
Тысячеглазый. Не смог бы так увидеть
-
впечатляет О__О
хорошая весчь
|
-
ну интересно же, блин ^_^
|
23.10.1935 21.05
Шанхай, Международный сеттльмент,
Цзянси-роад, квартира Остина РейнольдсаДень прошёл спокойно, так, наверное, дням бы и проходить – нетяжёлая работа, никакой тебе беготни по крышам и гонок на катерах, никаких нагромождений одновременно висящих дел: дело одно, и вот оно-то всю благость картины и портит – зависло дело, зависло, ни туда, ни сюда, штиль, не крутится мельница, как сам ни налегай на лопасти. Ну вот чего такого произошло такого за день, давайте-ка вспомним. Итак, сначала – встреча с капитаном Чжао, разговор, полный недомолвок. Затем обед, там же, в «Бьянки». Пришёл в управление, встретил Ричи, говорит – Мак пропал. Куда пропал, что с ним стряслось – неясно. Ладно. Позвонил в Нанкин, сразу не вспомнили, пришлось объяснять, кто с ними говорит. Да-да, говорят, проверка в отношении господина Чао Ао будет осуществлена в ближайшее время. Все они так говорят. Потом на рикшу, в больницу к раненому Фаньфаню: на этот раз пустили: парень всё ещё плох, всё-таки лёгкое прострелено, говорит тяжело и, самое главное, ничего нового. Ничего нового – точно такой же исполнитель, такой же шанхайский уличный парнишка, которого наняли за сто долларов охранять непонятные ящики. Слово в слово повторил всё, что говорили Ван Юй с Лю Шаохуа – бесполезно, всё бесполезно. Французы не звонят, у них тоже штиль. Китайцы не звонят, Нанкин вообще обнаглел. Лю Шаохуа не звонит. Никто не звонит, ничего не происходит. Значит, что было дальше. Вернулся в офис из больницы к четырём, посидел без дела, пришёл Чжан: хоть какие-то новости. Новости, правда, тоже так себе – Лю Гуан дома то ли не появлялся, а то ли появился, но как-то проскочил мимо Чжана, который его в лицо-то не знает, и соседей: их Чжан перед тем, как идти домой, тоже порасспрашивал ненавязчиво, нет, говорят, не видели Лю Гуана. Один, правда, старик сказал, что Лю Гуан деньги зарабатывает на собачьих бегах – не на легальных, что в Канидроме, а на нелегальных, где-то в Сеттльменте. Места самого сосед, конечно, не знал, но выяснить-то это дело можно – если там народ собирается, то шила в мешке не утаишь, кто-то из информаторов должен знать. Значит, можно налететь и Лю Гуана взять – теперь-то Шаохуа обманывать полицию не захочет. А подлец Лю не звонит: то ли нечего ему пока сообщить господину инспектору, то ли пропал он с концами, уехал на свой юг, в родной Гуанчжоу, и ищи его теперь – но нет, как же так, дурочку Линьлинь-то он бросит, здесь сомнений нет, а брата как же? Китаец же, у них семья – святое. Или и брата как-то с собой прихватил, поэтому его дома и нет? А может, вернулся в Шанхай, вышел-таки на Ли Дуна, а тот ему не поверил и приказал придушить да выкинуть в Хуанпу. Тоже ведь возможно. Ну и вот. Выслушал доклад Чжана – и домой, в кои-то веки в семь вечера. Тут уже Ши Сю и ужин приготовила, поужинал, дальше – свободное время, хоть что делай, хочешь газеты и книжки читай, хочешь радио слушай, хочешь в шахматы сам с собой играй, сходи с ума от скуки и понимания, что время-то - уходит, что вот сейчас, в этот самый момент Тао Чжуси где-то что-то проворачивает, может быть, ужинает с Ли Дуном и Ду Юэшеном в отдельном кабинете над казино «Фушэн» или отправляет лодку за новой партией оружия, или медленно проводит надрез за надрезом по туловищу закреплённого на столе Лю Шаохуа – чёрт его пойми, чем там Тао Чжуси и прочие мрази занимаются, а вот Остин мается вынужденным бездельем. Глубокое кресло, свет торшера, табачный дым, пиалка улуна на деревянном решётчатом подносе с поддоном, ещё маленький глиняный чайничек и большой стальной с горячей водой, не кипятком, кипятком нельзя. Ши Сю перед уходом заварила, принесла Остину. Надо налить из большого чайника горячей воды в маленький, настоять минуту (уже третья заварка, первую слить к чертям, вторую держать полминуты), затем в чашку и пить. Душистый сладковатый аромат, вкус как у зелёного чая, только менее резкий и сладкое послевкусие, так и остаётся на языке. Рядом с подносом на столе две газеты – «Шанхай Таймс» и «Синьминь ваньбао», на них пепельница. Напротив на стене часы, можно глядеть на минутную стрелку и видеть, как она ползёт, а если сидеть совсем долго, то и движение часовой можно заметить. Часы тикают, единственный звук в полутёмной и пустой квартире – ну, если прислушаться, то из-за закрытого окна можно ещё услышать, как проезжают автомобили. Ещё ребёнок соседей сверху веселился, прыгал, тоже было слышно, сейчас перестал, спать, наверное, уложили. Ещё шум дыхания, вдох-выход, затяжка, выдох, вдох, до чёрта звуков, на самом деле, только тихие все и мерные такие, как шум воды, так что можно сказать, что их почти и нет, что почти тишина. Тишину разрывает телефонный звонок. --- 23.10.1935 21.05
Шанхай, Международный сеттльмент,
Музеум-роад, здание «Кэпитол», квартира Артура Ричи Квартира Артура в доме слева Артур Ричи живёт в хорошем доме, не каждый полицейский снимает себе квартиру в таком доме, даже у Остина квартира поскромней, в частности, нет отопления. А у Артура есть отопление, есть лифты, широкие окна, высокие потолки и даже театр «Кэпитол» снизу, не надо никуда ходить, если хочется в театр. Но в театр как-то последнее время не хочется. И в кино как-то не ходится, а уж в музеи и подавно, даром что живёшь на Музеум-роад. Ходится зато в бары, рестораны и злачные места, вот как сегодня, например: закончили работать в семь, ушёл из управления, поужинал в ресторане, а дальше-то – что? Неужели домой идти – или в театр под домом, или, может быть, в музей какой? Нет, дальше – в бар, немного выпить, оттуда – в Кровавый переулок, в «Палэ», там кабаре, танцовщицы в перьях и разноцветных нарядах, машут ногами, сесть за столик, сунуть официанту пять мексов в ладонь, взять хитрую сигарету, закурить, смотреть на танцовщиц в перьях, смеяться. Отвратительно, да? Да конечно, отвратительно, конечно, тошнит, а кого через шесть лет в этом месте тошнить не начнёт? Остин вот ещё держится, но так у него только четыре года стажа, всё впереди ещё. Ричи недавно прочитал в газете: по последним статистическим данным, в Лондоне одна проститутка приходится на 900 человек, в Париже – на 500, а в Шанхае – на 50! Первое место в мире, блядь! Золотая медаль по блядству! Оскар, нахуй! Три с половиной миллиона человек населения и от шестидесяти до ста тысяч шлюх! Одна на двадцать женщин, и это считая грудных девочек и столетних старух – впрочем, и таких можно достать, если мсье знает толк. Да в этом сраном городе вообще всё можно! Нахуя вообще тут полиция нужна, кого мы обманываем, один хрен одну джонку поймали – десять приплыло, один схрон взяли – десять устроили, пиздец! Артур хохочет до упаду, хлопает ладонью по столику, согнувшись крючком, держится за бок. Соседи понимающе смотрят на Артура. Отпускает. Становится не смешно, а тошно. Ещё рано, но всё-таки уже хочется домой. Взять-не взять шлюху, одну из ста тысяч? Да ну его к чёрту, вчера брал, если каждый день – это и накладно выходит, с хорошей-то, да и просто как-то не по-людски – каждый день со шлюхой. Ричи выходит из кабаре, берёт рикшу, едет по залитым светом улицам домой. На набережной Сучжоу-крик рядом с домом разгружают баржу, стройматериалы какие-то, что-то будут строить. Шанхай растёт, Шанхай раздаётся ввысь и вширь год от года, в двадцать девятом вот и половины нынешних зданий в центре не было, к сорок пятому вообще Нью-Йорк будет, только с казино и шлюхами. Ричи поднимается на лифте на четвёртый этаж (на четвёртом меньше всего китайцев, они цифру 4 не любят, потому что произносится как "смерть"), открывает ключом дверь, снимает верхнюю одежду, включает радио, достаёт початую бутылку виски, наливает, пьёт. Ложится на кровать. Делать нечего, спать не хочется. Из радио завывает какой-то ниггер: See, see, rider,
See what you done done,
See, see, rider,
See what you done done,( ссылка) заунывно так завывает, и скрипочка так ещё протяжно пищит, и тут раздаётся телефонный звонок.
-
первое место, блядь.
мне нравится.
-
Так и есть, первое место.
-
Первое место в мире, блядь! Золотая медаль по блядству! Оскар, нахуй! Три с половиной миллиона человек населения и от шестидесяти до ста тысяч шлюх! Одна на двадцать женщин, и это считая грудных девочек и столетних старух – впрочем, и таких можно достать, если мсье знает толк. Да в этом сраном городе вообще всё можно! Нахуя вообще тут полиция нужна, кого мы обманываем, один хрен одну джонку поймали – десять приплыло, один схрон взяли – десять устроили, пиздец! Артур хохочет до упаду, хлопает ладонью по столику, согнувшись крючком, держится за бок. Я плюсую, потому что, читая этот пассаж я сам начал хохотать к середине!!!
|
Шон никак не отреагировал на слова Беатрис, а только загадочно улыбнулся, наклонился над столиком, втянул носом одну дорожку и откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза, приложил пальцы к носу, запрокинул голову и сидел в таком положении некоторое время.
- А вы попробуйте, мисс Вонг... вам понравится... - Шон, наконец, поднял голову и упёрся затуманенным взглядом в Беатрис.
От злости зрачки ее расширились, дыхание стало тяжелей. Вжав ногти в нежную кожу ладони, девушка вскочила со своего места и, сметя со стола остатки порошка, дала звонкую пощечину Шону.
- Пошел вон!
Но одной пощёчиной не остановить было светского льва Шона Истон-Эллиса: стоически стерпев удар, он перехватил руку Беатрис и порывисто потянул к себе, воскликнув:
- Поедем в номера!
Такого Трис не ожидала, но рефлекторно второй рукой отвесила еще одну пощечину самодовольному хаму. Почему-то позвать на помощь она и не подумала. И вторая пощёчина пришлась точно в цель: голова Шона мотнулась теперь вправо, из носа потекла тонкая струйка крови: с кокаинистами такое часто бывает, а особенно после пары хороших пощёчин.
- Я всю жизнь искал такую как вы! - Шон осоловелыми глазами глядел в лицо Беатрис, глупо улыбаясь и продолжая тянуть её руку на себя обеими руками. Беатрис почувствовала, что сейчас потеряет равновесие и рухнет на наглого хама. Недолго думая и не тратя сил на разговоры, девушка резким движением ножки воткнула тонкий каблук туфельки в стопу Шона и, не прерывая движения, быстро дернула коленку вверх, прямо в его пах. С победной улыбкой девушка отдернула свой локоток из его хватки.
- Аааа!... - сдавленно крикнул Шон и отпустил руку Беатрис.
- Если вы сейчас же не покините комнату, мне придется вызвать охрану, нужна вам огласка?!
- Ах ты... - Шон, упёршись ладонью и чуть не продавив стеклянную поверхность туалетного столика, поднялся с дивана и, покачнувшись, угрожающе двинулся в сторону Беатрис. - Т-ты сука!
Мутные глаза с расширенными зрачками смотрели на нее с ненавистью, на губу стекала струйка тёмной крови. Не на шутку испугавшись, Трис стала пятиться к двери, озираясь в поиске тяжелых предметов - хрупкая девушка не привыкла сражаться, тем более сейчас, в схватке с остервенелым мужчиной, выше и сильнее ее, она была не в лучшей позиции. Самое неприятное, что девушка даже сейчас отдавала себе отчет в том, что колюще-режущее оружие может сослужить плохую службу в неумелых руках, поэтому единственное, что схватила, были маникюрные ножнички (а не нож для фруктов, блюдо с которыми украшало угловой столик в нескольких метрах от нее).
Шон сорвал с шеи галстук-бабочку и двинулся к вжавшейся в дверь Беатрис. Светский лев уже протянул было ладонь, чтобы зажать девушке рот и навалиться на неё, как Трис изо всей силы ударила его ножничками, зажатыми в кулаке, в правый бок, под полу смокинга. Маленькое изогнутое лезвие, конечно, не могло причинить большого вреда Шону, но всё же пропороло сорочку и чувствительно оцарапало бок, и секундного замешательства Шона было достаточно для девушки, чтобы оттолкнуть насильника и выскользнуть в дверь, бросившись по коридору к засценному помещению, где постоянно дежурили двое охранников.
Даже на помощь звать не пришлось: вид бегущей по коридору певицы и растрёпанного, взбешённого шанхайлэндера, который, запинаясь на ровном месте и падая, гнался за ней, говорил сам за себя: два крепких короткостриженных русских парня сразу же бросились к Шону, скрутили его и отвели в подсобное помещение, где усадили подумать над своим поведением и подождать приезда Шанхайской муниципальной полиции. Полиция приехала через пятнадцать минут и забрала Шона в изолятор Центрального отделения, где дальнейшая его судьба была так ужасна, что у меня не поднимается рука её описать.
Беатрис, в общем, тоже досталось: Лиза хорошо распекла певицу за то, что она пускает каких-то проходимцев в свою гримёрку: «Ну и как ты хотела, чтобы он это понял? – строго внушала администратор девушке. – Ты пускаешь его в свою гримёрку, конечно, он так и подумал, что ты от него сейчас ждёшь денег, а потом отправишься вместе с ним, куда бы он там тебя повёз. Ты хочешь, чтобы о тебе ТАК думали? Чтобы никаких больше гостей, которых я не знаю, в гримёрке, поняла? Ещё раз такое повторится – штраф пятьдесят долларов».
История, впрочем, в целом бизнесу «Амбассадор баллрум» пошла даже на пользу: через свои связи в журналистских кругах Лиза договорилась об освещении этой истории, и уже в утренней «Морнинг пост» и вечерней «Шанхай Таймс» на следующий день появились короткие заметки о происшествии в «Амбассадор баллрум», где взбешённый поклонник пытался убить известную певицу Евангелину Вонг: неплохая реклама и заведению, и самой певице – и главное, совсем бесплатная.
-
- Поедем в номера!
Разве эту фразу можно сказать по-английски???))))))
|
-
Помимо того, что пост хорош, он еще и познавателен. А это вдвойне приятно.
|
- Да, девочки, у вас проблемы, - серьёзно сказала Лиза, внимательно выслушав рассказ Беатрис и Эмили. – Но вы не беспокойтесь, главное, что вы сами ничего страшного не натворили, а то я уж было испугалась. Вот тогда были бы по-настоящему серьёзные проблемы, а с этим мы как-нибудь разберёмся. И Джимми тоже вытащим как-нибудь. Что-нибудь придумаем.
Разумеется, Лизе было в целом наплевать на Джимми, и беспокоилась она за него только потому, что за него беспокоилась Беатрис, и об Эмили Лиза беспокоилась ровно в той степени, в которой за подругу беспокоилась Беатрис, да и о самой Беатрис Лиза беспокоилась и готова была помогать только потому, что Беатрис приносила бальному залу хорошие деньги, и, надо думать, уволься певица завтра или сегодня, и все дружеские чувства уйдут, как ни было, и спички потом у неё бесплатно не выпросишь. Но пока Беатрис была нужна Лизе, Лиза была готова в любой момент прийти к ней на выручку, и в практическом смысле такая помощь стоила куда больше, чем бескорыстное, искреннее, но бесполезное сочувствие Эмили. Конечно, можно было задуматься над тем, не ценно ли сострадание само собой, безотносительно того, приносит ли оно пользу, но сейчас девушкам требовалась именно практическая помощь.
Лиза отвела Эмили в спальню, приказала допить уже остывший баньланьгень, уложила в кровать, прошла вместе с Трис на кухню, открыла холодильник, сосредоточенно пошвырялась, достала маленький кусок мягкого сыра (сыр в Шанхае был очень дорогой, даже местный, а уж привозной бри или камамбер стоил и вовсе запредельных денег) пару яблок, яйцо и молоко, распорядилась Трис очистить яблоки и порезать их на тонкие, только тонкие, слышишь! ломтики, сама зажгла духовку, взбила яйцо с молоком, отрезала несколько кусков вчерашней и уже подчерствевшей булки, обмазала каждый кусок с обеих сторон молочно-яичной смесью, затем аккуратно уложила на булку яблоки, накрыла их сыром и поставила в духовку на несколько минут – получились подрумяненные золотистые горячие бутерброды с не успевшим запечься подтекающим с краёв расплавленным сыром.
- Спасибо большое, я не… - начала было Эмили, увидев Лизу с тарелкой.
- Не волнует. Если через пять минут хоть крошка останется – уши оторву, - строго пообещала Лиза Эмили, вручила ей тарелку и вышла с Трис из спальни.
- Ладно, Трис, - сказала Лиза, взяв со стола оставленные там сумочку с папкой. – Если сегодня совсем плохо себя чувствуешь, на репетицию можешь не приходить. Но советую всё-таки прийти: ты в курсе, сегодня у нас по плану новый Гершвин, а подготовили плохо, можем слажать, получится очень неприятно для нас всех. Ну и в девять часов чтобы без опозданий, это не обсуждается – выспавшейся, отдохнувшей и свежей. Если какие-то проблемы, сразу звони в Амбассадор, я сегодня до вечера там. С полицией я сейчас поговорю, но они всё-таки сегодня ещё раз зайдут, я думаю. Не упирайся, ничего не скрывай, говори всё, как было. Вы ничего плохого не сделали, тебе бояться нечего. Скажи им, что Джимми в заложниках, скажи им, что это они тебе сказали в полицию не звонить, скажи, что наврала им сейчас тоже поэтому, покажи бумажку эту, которую ты мне показывала. Обязательно скажи, что Джимми гражданин США, и про вас с Эм тоже скажи, это очень важно, ради американца они землю носом рыть будут. А, впрочем, это всё я сама сейчас им скажу, но ты подтверди. Доела? – через дверь обратилась Лиза к Эмили.
- Доела! – донеслось из-за двери.
- Ладно, верю! Теперь спи! Так, что ещё, - обернулась Лиза к Трис. – Ах да, Чао Тай. Внесём, надо не забыть. За тобой, кстати, постоянно пять мест в гостевом списке числятся, почему ты так редко кого-то приглашаешь? Завела бы уже себе молодого человека, Эмили вон, уж на что тихоня. Ну всё, я пошла.
И, напутствовав Беатрис таким образом, Лиза удалилась.
-
Спасибо большое, во-первых, за успокоение моих нервов, нервов Беатрис, во-вторых, за рецепт бутербродов )))) Обязательно попробую!
|
- Куда ты спешишь так! - Джо кинул взгляд на часы над дверью. - Двадцать минут десятого! В пол-одиннадцатого давай я в отдел зайду, и поедем. А Джимми исчез. Испарился. Не знаю, может, загулял. На Джимми это было не похоже: чтобы вот так вот взять и загулять без предупреждения, не сдав карикатуры, которые обещал на сегодня. Может, в больницу угодил? Впрочем, сейчас у Джулии были другие заботы, нежели волноваться по поводу пропускающего работу коллеги: неожиданно образовался час свободного времени, и можно было, наконец, нормально, не в спешке позавтракать. Девушка вышла из редакции, перешла дорогу (на этот раз дождавшись сигнала регулировщика) и направилась по Сычуань-роад обратно в Китайский город. Зайдя в знакомую едальню «Тайху» (по имени озера близ Сучжоу) с жёлтыми флагами над входом, деревянными решётками на окнах и лакированными столами и скамейками, сейчас почти пустую (все уже отзавтракали), Джулия заказала простой и сытный китайский завтрак: миску горячей рисовой каши "чжоу" с кусочками тыквы: маленькую тарелочку жареных взбитых яиц с помидорами и сахаром: пару полосок "ютяо" - теста, сваренного в масле: с большой чашкой горячего сладкого соевого молока: в отличие от кофе, не вредит ни желудку, ни коже, ни волосам, зато очень сытно и питательно, протеина-то в нём сколько, одной чашкой можно на пол-дня голод заморить. Ну, то есть, если по демонстрациям всяким не бегать. А бегать придётся, работа такая. Оставив на столе несколько мао*, журналистка вышла из едальни и направилась назад в редакцию. Джо уже поджидал её в отделе, раскачиваясь на своём стуле, закинув ноги на стол и надвинув шляпу на глаза. - Не тор опитесь, мисс Лян, не тор опитесь, - изображая немецкий акцент, проворчал Джо, поднялся со стула, повесил на шею «кодак» в кожаном футляре и сунул в карман экспонометр. – Зиг хайль, Джул. Пошли. Журналисты вышли из здания, Джо поднял руку, останавливая велорикшу. Разумеется, лаоваю с фотоаппаратом на шее поймать рикшу труда не составляло – иностранец в сознании любого рикши уже по умолчанию дурак, а этот ещё наверняка и турист, что значит трижды дурак, и цену ему можно выставить втрое выше обычной. Единственное, что вот девушка-китаянка с ним, наверное, переводчица и гид – она слишком высокую цену, конечно, задрать не позволит, но и торговаться за каждую копеечку не станет – платит-то не она. Рикша обрадовано заулыбался, приветствуя пассажиров, и откинул полог коляски, приглашая садиться. Бедолага не знал, что имеет дело с человеком, живущим в Шанхае с шести лет, а к тому же ещё и евреем. Рикша мерно и привычно крутил педали, коляска вывернула на Сычуань-роад и двинулась по левой обочине дороги, обгоняя пешеходов с зонтиками от солнца (плохо, что журналисту неудобно ходить с зонтиком, можно ведь и загореть), обгоняемая автомобилями и звенящими трамваями, через центр Шанхая на север, мимо многоэтажных зданий с лепниной на фасаде и высокими блестящими на тёплом осеннем солнце окнами, за которыми были дорогие фирменные магазины, рестораны, гостиницы и банки. Рикша миновал фешенебельную Нанкин-роад, проехал по мосту через Сучжоу-крик  третьему от нас и двинулся дальше уже по Норт-Сычуань-роад, где здания были пониже, магазины и рестораны подешевле, а вывески куда пестрей: - Путешествует? – на ходу, не оборачиваясь, поинтересовался рикша у Джулии. - Ага, путешествую, - по-китайски откликнулся Джо. - Ооо, вы говорите по-китайски! – в голосе рикши сквозило искреннее изумление. - Не-а, ни слова по-китайски не знаю, - с ухмылкой сказал Джо. Рикша понял, что над ним издеваются, и замолчал, но через минуту снова заговорил, скучно же молча весь день педали крутить. - А вы из какой страны? - А угадай, - предложил Джо. - Америка? - Ну да, вроде того. - Ооо, Америка. Ди-сы-ни! Хм, странно, Диснея почему-то вспомнил. Мог бы помянуть Нью-Йорк или машины Форда, а вспомнил Диснея. Мультики, наверное, любит – или сын любит, а тот тратит те гроши, которые зарабатывает извозом, и водит его (или их) в китайский кинотеатр с заштопанным экраном, где показывают Микки Мауса и Пароходика Вилли. Что ж, тоже приобщаются к мировой культуре, не всем же сразу с Шопенгауэра начинать. Путь до Хункоу занял немногим менее получаса, и к зданию суда на Норт-Сычуань-роад Джо с Джулией приехали как раз к одиннадцати (хоть здесь не опоздала!). Впрочем, как выяснилось, можно было и не спешить: демонстранты собирались где-то дальше, и у здания суда их ещё не было, стояло только многочисленное полицейское оцепление, да располагающийся рядом японский ресторан охраняли три сотрудника японской консульской полиции. Вслед за рикшей у дверей суда остановилась машина, из которой вышли и, не задерживаясь, поднялись по ступенькам два представительно одетых китайца с портфелями: адвокаты, наверное. - О, гляди! – галантно помогая Джулии сойти из коляски, Джо указал на вывеску над аптекой, располагающейся напротив здания суда, из окна на втором этаже которой за происходящим наблюдал китаец в белом френче. – И здесь Леманн! Интересно, родственник?  кстати, фотка действительно из Хункоу, хоть никакого здания суда напротив, скорее всего, и не было. А Леманн на фотографии чисто случайно обнаружился, честное слово! Чуть в сторонке от входа в суд стояла легковая машина, рядом с которой демонстрантов поджидали коллеги Джулии с Джо – Билл Ляо и Стив Тан из «Норт Чайна». И здесь конкурент обскакал «Эс-Ти»: у них служебных машин на всех хватает, а в «Эс-Ти» поди-ка выпроси, да попробуй только ещё крыло поцарапать. Коллеги поприветствовали Джулию с Джо, не без некоторой снисходительности, надо думать, наблюдая, как Джо спорит с рикшей по поводу оплаты. Других журналистов видно пока не было, хотя надо было думать, что «Синьминь ваньбао», выступавшую последнюю неделю как главный агитатор за демонстрацию, происходящее тоже должно заинтересовать. В этот момент из-за угла метрах в двухстах от журналистов на Норт-Сычуань-роад показалась плотная колонна демонстрантов. Над головами протестующие поднимали продолговатые таблички с ещё неразличимыми отсюда иероглифами, перед строем был развёрнут длинный транспарант: «Требуем справедливого суда».
-
Вот это я понимаю - "лучший пост в игре" )
-
|
Заботы, хлопоты. Сколько нужно всего сделать, чёрт, ведь весь день кверху дном: а вот не приди вчера вечером в голову Джимми дурацкая идея позвать соседа играть в карты или Беатрис - спускаться за ним вниз, всё было бы совсем по-другому, как обычно: долгий сон до одиннадцати, завтрак в кафе в одиночестве (Эмили бы уже ушла на работу), потом на репетицию, потом отдохнуть перед выступлением, и к девяти на сцену. А сейчас: Джимми, полиция, работа, Эмили, Чао Тай ещё этот.
Но сейчас - чаю Эмили, остальное потом.
Чая у Эмили было много, и заваривала она его так же, как готовила еду: аккуратно, красиво и умело - "гунфу ча", "чайное мастерство", самое подходящее искусство для скромной домашней китайской девушки, пусть и выросшей в Нью-Йорке. На новую квартиру Эмили принесла с собой кучу круглых картонных коробочек с разными чаями, в основном улунами, и сейчас Беатрис открывала коробочки одну за одной, принюхиваясь и пытаясь разобраться, какой лучше заварить, "Большой красный халат", "Железную Гуаньинь" или "Одинокий куст с горы Феникса" (названия Эмили прилежно продублировала на ярлычках по-английски, красивым ученическим почерком – непонятно, правда, зачем, может, специально для Трис) и, чем больше перебирала, тем меньше хоть что-то понимала во всей этой чайной китайщине.
Да нет, не чаю ей надо! - осенило вдруг девушку. Ну конечно - заварить ей баньланьгень, корни красильной вайды, самое распространённое лекарство традиционной китайской медицины, тут его все вместо аспирина пьют. Ну конечно! Беатрис достала с полки с лекарствами жестянку, положила столовую ложку маленьких гранул в стакан, заварила кипятком, размешала - получился жёлтый пахучий приторно-сладкий отвар, отнесла Эмили в комнату: ну вот отлично, как раз это и нервы успокоит, и пропотеть заставит. Эмили, сидевшая в пижаме на кровати, завернувшись в одеяло, с благодарностью приняла стакан двумя руками и принялась тихонько потягивать отвар.
В этот момент раздался звонок в дверь. Трис жестом показала Эмили, что сама откроет и вышла в прихожую.
- Доброе утро, Шанхайская муниципальная полиция, - раздался голос по-китайски с тяжёлым английским акцентом. Трис заглянула в глазок: за дверью стоял небритый медвежьего телосложения русоволосый мужчина в бежевом плаще и с мятой шляпой в руках. Округлив глаза от удивления, Трис все таки постаралась быстренько взять себя в руки и открыла дверь.
- Здравствуйте, чем могу быть полезна? – сказала она по-английски.
- О, очень рад видеть, эмм… – замялся полицейский, "европейкой" мулатку не назовёшь, - иностранное лицо. Если вы не против, хотел бы задать пару вопросов.
- Да, конечно - девушка очень нервничала, но старалась не подавать виду. Распахнув перед детективом дверь, жестом пригласила его войти. Детектив прошёл в гостиную, окинув взглядом помещение. Бритвы на столике под зеркалом он, похоже, не заметил, а если и заметил, то не обратил внимания.
- Доброе утро, - повторил он. – Инспектор Эндрю Хамфри, Шанхайская муниципальная полиция.
- Да-да, - кивнула Беатрис.
- Я задам несколько вопросов, ладно?
- Да-да, - повторила девушка.
- Скажите, вы вчера вечером были дома?
- Да, была, - Беатрис решила быть как можно более правдивой, путаться в показаниях ей не хотелось, кроме того, она намеренно не понижала голос, чтобы Эмили могла услышать ее слова.
- О, отлично! - обрадовано воскликнул Эндрю. – Простите, а зовут-то вас… - инспектор неловко поскрёб пятернёй затылок. Манеры у него были истинно деревенские.
- Ох, ну что вы, не извиняйтесь, - девушка включила в улыбку все обаяние, на которое была способна, возможно, им еще удастся расположить к себе мистера Хамфри, а тогда проще будет воспользоваться моментом, - Я Беатрис Бельфлер… также известная как Евангелина Вонг - смущенно опустив ресницы, добавила Трис.
Не на того напала Беатрис Бельфлер, также известная как Евангелина Вонг - Хамфри, похоже, если какую-то музыку и слушал, то разве что кантри-мотивы или что-то подобное.
- Так Беатрис Бельфлер или Евангелина Вонг? - непонимающе переспросил он.
Девушка обиженно надула губки, впрочем, явно наигранно, не пытаясь скрыть от инспектора своего веселья, - Беатрис, а Евангелина… мой сценический псевдоним в Амбассадоре - скрывать место работы, имя от полиции было бы просто смешно, а она все еще надеялась на снисхождение.
- Хорошо, мисс… - некоторое время Эндрю потребовалось, чтобы всё-таки разобраться со всеми псевдонимами и именами, - мисс Бельфлер. Скажите, вы одна тут живёте?
- Нет, я тоже тут живу, - из спальни вышла Эмили с котёнком на руках. - Меня зовут Эмили По, по-китайски По Юйлань.
- Очень приятно, мисс По, - кивнул Эндрю. - О, у вас котёнок есть. Здорово. Я вот не завожу, подохнет у меня. - Так чего я пришёл-то. Эмм. Скажите, вчера вечером вы ничего странного или необычного не видели, не слышали? Меня, кстати, Эндрю Хамфри зовут, я инспектор Шанхайской муниципальной полиции, - запоздало представился он Эмили.
- Очень приятно, мистер Хамфри, - тихо сказала Эмили.
Беатрис подошла к Эм и взяла её за руку, - Присядь, милая, тебе нельзя долго стоять, - повернувшись к инспектору, - Странного… да нет, ничего такого.
- О, да вы нездоровы, - только сейчас заметил Эндрю. - Вы тогда ступайте лучше назад в спальню, мы поговорим с мисс… Бельфлер.
- Нет, я лучше тут посижу, - упорно ответила Эмили и присела на диван.
- То есть весь вечер вы никуда не выходили?
- Ну почему же, мы выходили, - ответила Беатрис.
- В котором часу примерно и на какое время вы отлучались?
- Около 9, точно не помню, мы приятно проводили вечер, играли в карты…
Эндрю внимательно слушал, не перебивая.
- Ну, мы - я, Эмили, - указав рукой на подругу, - и Джимми, наш друг, играли в карты. Потом я проспорила фант – пригласить соседей в гости - Трис понимала, что, скорей всего, они втроем неплохо наследили в квартире Марио, лучше уж сразу признаться, что были там, - вот и спустились в 10 квартиру.
- Вы спускались в 10 квартиру? - встрепенулся Эндрю.
- Да, спускались - сцепив кулачок, ответила девушка.
- Погодите минуточку, - сказал детектив, прошёл к входной двери, вышел на площадку и крикнул вниз: - Марк, скотина! Давай сюда! Быстро, быстро!
Эмили посмотрела на Трис и уверенно кивнула, мол, правильно. По лестнице поднялся другой детектив, высоченный, не ниже двух метров, как и Эндрю, в плаще.
- Что такое?
- Говорят, что спускались к жмурикам нашим вечером, – Эндрю внимательно окинул взглядом девушек.
- Что, правда?
- Ага.
- Позвольте представиться, леди, - оглядел скотина Марк хозяек квартиры. - Марк Мундт, инспектор Шанхайской муниципальной полиции, - Марк задержался взглядом на Беатрис, будто вспоминая, где мог её видеть.
- Добрый день, инспектор Мундт - скромно улыбнувшись, ответила Трис,
- Здравствуйте, - вслед за подругой сказала Эмили.
- Это... эмм, Беатрис... Бельфлер, это Эмили По, - не дожидаясь, пока девушки представятся, представил их Эндрю.
- Хорошо, хорошо, - нетерпеливо помотал головой Марк. - Рассказывайте, леди. Что видели?
- Ну, как я уже говорила вашему напарнику – Беатрис указала кивком на Эндрю, - мы с друзьями спустились в 10 квартиру, приглашая... Марка, ах нет, Марио - вопросительно глянула на Эм.
- Марио, да, - кивнула Эмили.
- …присоединиться к нам в игре. Он впустил нас, пока собирался, и мы вчетвером поднялись обратно к нам.
- Но он сразу же ушёл вниз, мы тут не сидели, - добавила Эмили.
- К какой игре? - непонимающе переспросил Марк.
- В карты, в карты они тут играли, - Эндрю кивнул на колоду на столе, так и не убранную со вчерашнего дня.
- Хорошо, играли в карты, дальше что?
- Ну, он зашел буквально на минутку, потом сказал, что умеет варить отличный кофе, предложил угостить нас и ушел к себе, чтобы сварить его...но так и не вернулся.
- И мы пошли вниз, - сказала Эмили. - Это была моя идея, - зачем-то добавила она.
- Зачем вниз? - нетерпеливо переспросил Марк.
- Ну, он долго не возвращался... - ответила вместо Эм Трис, - мы заволновались, но когда постучали, Марио нам не открыл.
- У него дверь была открыта, - добавила Эмили - и мы туда пошли, посмотреть, что с ним.
У Беатрис чуть челюсть не отвисла от глупости, совершенной Эмили, ведь они уже почти выкрутились, оставалось сказать-то, что молодые люди устали и решили разойтись по домам, и все. А тут такое. Девушка молчала, не зная, что сказать на такое. Эмили посмотрела на подругу, не понимая, чего такого она сейчас сказала. Детективы внимательно наблюдали.
- И что дальше? - нетерпеливо переспросил Марк.
Обе девушки молчали, не зная, что сказать.
- Ну, что случилось после того, как вы вошли в дверь? - теряя терпение, переспросил Марк.
- Он лежал на полу, - сказала Эмили.
- Кто лежал?
- Марио.
- Мёртвый?
- Нет, - вмешалась Трис, пытаясь спасти положение
- Нет, - одновременно с Трис сказала Эмили.
- Он просто что-то бормотал себе под нос, держась за голову, - сказала Трис.
- Погодите-погодите, - сказал Эндрю. - Марио лежал перед дверью и держался за голову и что-то бормотал?
- На кухне, - сказала Эмили.
- Мы подошли к нему, пытаясь поднять, но...но он был как будто пьяный. Неприятный такой, странный... ну, мы решили уйти...
- Погодите-погодите, - сказал вдруг Марк. - Вы говорили, что вчетвером поднялись. А кто четвёртый?
- Джимми Чен, - сказала Эмили.
- Это кто такой?
- Да говорила она, это друг их! - перебил Марка Эндрю.
- Так, и что дальше случилось?
- Дальше...да ничего. Мы вышли из квартиры. Было уже поздно, понимаете, такой распорядок, у меня сегодня выступление, слишком задерживаться не могу, нужно отдохнуть. Вот Джимми и ушел сразу, не поднимаясь, а мы с Эм пошли отдыхать - тараторила Трис, чувствуя уже вкус победы. Лишь бы Эмили не ляпнула больше ничего. Эмили странно посмотрела на Трис. Марк перехватил её взгляд.
- Да, так и было, - неуверенно произнесла Эмили.
- Что, и всё? - недоверчиво спросил Эндрю.
- Да, все,- пожала плечами Трис.
- А вы где работаете? - поинтересовался Марк.
- В Амбассадоре, я певица - в голосе уже не было и доли кокетства, лишь усталость, но доброжелательной улыбки она все же не теряла
- Что, правда? А я-то думаю, где я вас мог видеть! Точно, там и видел! Скажите, вы сейчас никуда не уходите?
- Я никуда не ухожу, - глухо сказала Эмили
- В данный момент нет, но очень скоро буду собираться на работу, сами понимаете, репетиции, состыковки… - ей хотелось как можно скорей избавиться от "посетителей".
В этот момент незакрытая входная дверь хлопнула, и в гостиной появилась администратор «Амбассадор баллрум» Лиза Херингслейк, в строгом деловом костюме, с сумочкой и папкой в руках – видимо, писала или считала что-то на дому, а теперь шла с бумагами на работу.
- Трис! Это ещё кто такие? – бесцеремонно пальцем указав на детективов, обратилась Лиза к Беатрис и бросила папку и сумочку на стол.
- Марк Мундт, - представился детектив.
- Эндрю Хамфри, Шанхайская муниципальная полиция, - представился другой.
- Лиза... здравствуй, что ты тут делаешь? – устало поприветствовала начальницу Трис. Эмили сидела на диване, зябко прижимая котёнка к груди: девушку знобило.
- Иду по улице, вижу полицию, решила проверить, вижу, что у вас проблемы. Вы что тут забыли? - командным тоном обратилась администратор к детективам.
- Опрашиваем свидетелей, - растерянно сказал Марк.
- Вы что, дурак? – агрессивно двинулась к детективу Лиза. – Вы не видите, в каком они состоянии?
- Простите, - деловито сказал Марк. – Нам всё-таки нужно…
- Да плевать я хотела, что вам нужно! Вы что, ждёте, пока они обе в обморок грохнутся!? – голос Лизы угрожающе повысился, зазвенел. – Вам этого нужно?
- А вы, собственно… - попытался было пойти в контрнаступление Эндрю.
- А я, собственно, сюда пришла, чтобы выгнать вас отсюда взашей, господин детектив, - Лиза указала пальцем на дверь и повела носом. – Фу, от вас воняет, кстати! У вас что, денег на горячую воду нет? Я дам вам десять центов на общественную баню.
- Не надо, - смущённо сказал Эндрю.
- Вы вообще… - начал Марк.
- Как вас зовут, ещё раз? – обернулась к детективу Лиза.
- Марк Мундт, инспектор…
- Вот что я вам скажу, герр Мундт: убирайтесь zurück nach dem Vaterland со своими нацистскими методами! Это ж надо додуматься, девочка больная, - Лиза кивнула на Эмили, - а они её допрашивают!
- Я из Пенсильвании вообще-то…- обескуражено заявил Марк.
- Я счастлива, что вы не мой соотечественник, - ядовито сказала Лиза. – Я вас предупреждаю, господа детективы, - Лиза обвела полицейских взглядом, - если вы немедленно не уберётесь отсюда и не дадите девочкам отдохнуть, сегодня вечером во всех газетах – а у меня хорошие друзья в газетах – будет рассказ о том, как детективы Мундт и… - Лиза щёлкнула пальцами.
- Хамфри, - с тихим торжеством подсказала ей Эмили.
- Как детективы Мундт и Хамфри довели известную певицу до обморока! А если она после этого не сможет выступать, я подам на вас двоих в суд, и пеняйте на себя!
- А она что, известная певица? – Эндрю указал пальцем на Беатрис.
- Ну-ка пальцем не показывай, - грозно распорядилась Лиза. Эндрю смущённо убрал палец.
- Хорошо, мы зайдём попозже, - примирительно сказал Марк и попятился к выходу.
- Не «зайдём», а «позвоним, поинтересуемся, когда девушкам удобно, и тогда зайдём», ясно?! – на компромиссы Лиза идти была не намерена.
- Хорошо, хорошо… - оба детектива двинулись к выходу. – Отдыхайте, леди, мы зайдём попозже.
Лиза проводила полицейских до выхода, заперла дверь и вернулась в гостиную.
- Что у вас случилось, Трис? – спросила администратор, присаживаясь к столу и доставая из сумочки мундштук, сигареты и зажигалку – почему-то зажигалка у Лизы была солдатская, из гильзы: из общего облика это как-то выбивалось, но настоящему моменту соответствовало как нельзя лучше.
-
Не на того напала Беатрис Бельфлер, также известная как Евангелина Вонг - Хамфри, похоже, если какую-то музыку и слушал, то разве что кантри-мотивы или что-то подобное. И вот в каком обществе приходится работать истинным британским джентельменам!
Вот вам, бля, ваша овсянка, сэр! (с)
|
22.10.1935, вторник, 21:00
Шанхай, Международный сеттльмент,
Центральное управление Шанхайской муниципальной полицииПришвартовавшись к пристани в Янцзыпу, Джеффри высадил Остина и Ричи на берег, откуда те по телефону из будки охранника вызвали полицейскую машину, которая развезла их по домам. Чжан взял катер и поплыл в Пудун разговаривать с командой буксира, но ему машина до дома и не требовалась: жил инспектор тут совсем рядом, в Янцзыпу. Кстати, можно было и задуматься над тем, как Чжан собирается объяснять своей невесте то обстоятельство, что, уйдя утром в приличном костюме и плаще со шляпой, он вернулся в час ночи в грязных и изодранных обносках, и удовлетворит ли её такое объяснение, как «я весь день работал грузчиком в Пудуне, а потом ночью гонялся на катере за контрабандистами». Придя на работу позднее обычного, Остин с Ричи обнаружили на столах всех троих детективов подарки от таможни: с десяток упаковок красного женьшеневого корня (дорогого, между прочим), а также по три 35 cl бутылки соджу: не виски, конечно, двадцать градусов, курам на смех, но пьётся легко, этого не отнять, похоже на разбавленную русскую водку, только со сладковатым привкусом; в любом случае, в хозяйстве пригодится. Чжан в отделении появился ещё позднее, часам к одиннадцати (сейчас не в обносках, а повседневной полицейской форме) и сразу же засел за пишущую машинку, а потом прошёл в кабинет к Остину и передал ему заявление в двух экземплярах: на машинке по-английски и тонкой кистью аккуратными столбиками иероглифов. Английский текст гласил:
Старшему Инспектору
Остину Рейнольдсу ,
младшего инспектора
Чжан Дуна ,
ЗАЯВЛЕНИЕ
В следствии вчера пребывания под прикрытие личиной черный рабочий кули в Порту Пудун в следствии не обходимость Следственно-Розыскное Мероприятия , младший Инспектор Чжан Дун ,лично лишился без возвратно следующих Артикулов :
- костюм кордовый (пиджак одно бортный, брюки, новый, из ателье «Хэ Кан»): 50 долларов;
- плащ тренчкот поплиновый (новый, из магазина готовой одежды «Перси»): 30 долларов;
- жилет шерстяной (не новый): 10 долларов;
- шляпа фетровая (не новый): 5 долларов;
- сорочка белая сатиновая (новый, из ателье «Хэ Кан»): 10 долларов;
- галстук шёлковый: 5 долларов;
- ботинки кожаные (не новые): 10 долларов;
- ремень кожаный (не новый): 2 доллара;
- карандаш, носовые платки и иные личные при надлежности: 3 доллара общая сложенность.
Итого: 125 долларов.
В следствие без возвратной общей утеренности выше означенных Артикулов , будучи на службе и выполняя Должностное Обязательство , прошу выместить младшему Инспектору Чжан Дуну сумму на покрытие в общей итого: 125 Китайских долларов.
Младший инспектор Чжан Дун (Юджин Чжан)
1935.10.22Китайский текст, разумеется, написан был строгим и грамотным официальным бюрократическим стилем, с «сей человек» вместо «я» и прочими китайскими формальными оборотами. С оценкой своих «Артикулов» в сто двадцать пять долларов общей итого Чжан, наверное, всё-таки переборщил, но с другой стороны, денег он просил не из кармана Остина, а из бухгалтерии, и от Остина требовалось только подтвердить или отказать в просьбе подчинённого. Разобравшись с Чжаном, Остин собрался уж было идти к подлецу Лю, который уже предвкушал выход на свободу, как тут его потребовал к себе Фэрбенкс: - Привет, пират, - хмуро поприветствовал Остина начальник. – Йо-хо-хо и бутылка соджу. Остин, скажи мне, на кой чёрт ты полез за контрабандистами гоняться? У тебя своего дела нет? Тебе заняться нечем? Я специально не нагружаю тебя другими делами, чтобы вы с Арти от самого сейчас важного не отвлекались, и что я сегодня с утра слышу? Рейнольдс с Ричи и китайцем играют в речных пиратов, гоняются на катерах за джонкой с контрабандным женьшенем! Женьшенем, чёрт побери! Не опиум, не оружие, не запрещённая литература даже, а сраный корейский женьшень! Ну и какое отношение эти контрабандисты имеют к делу, которое ты сейчас ведёшь, объясни мне? Выслушав объяснения Остина, Фэрбенкс только поморщился. - А кому-то другому ты это дело поручить не мог? Той же таможне, кстати, это же как раз по их части. Вызвали бы парней из добровольческого корпуса, посадили бы их на лодки и взяли бы этих контрабандистов. Тут ведь вот ещё какая история, Ости. Ты ведь уже второй раз крупно подставился. Первый раз с Маком, теперь вот с буксиром этим. А теперь представь, что Синьминь ваньбао или какая иная купленная китайская газетёнка всё-таки пронюхает, что это был ты! Понимаешь, чем дело пахнет? Сначала инспектор SMP позволяет подчинённым расстреливать безоружных бандитов, затем он же! он же! нагло нарушает правила, установленные международными договорами – ты представляешь, какой жупел из тебя могут сделать? А самое страшное тут знаешь что? Что китайцам даже врать не придётся: ты ведь границу нарушил? Нарушил. И плевать, что правила установлены идиотские, и никто их не соблюдает – ведь нарушение-то есть? Есть. И ведь главное, ладно бы по делу нарушил – действительно, взял бы кого-нибудь полезного, а то ведь на пустом месте! С чёртовым женьшенем! Фэрбенкс некоторое время помолчал, давая Остину шанс подумать над его словами. - Ладно, Ости, теперь слушай внимательно. Сейчас мы все будем надеяться, чтобы китайские газетчики ничего про твоё участие в этом деле не пронюхали. Синьминь ваньбао выходит вечером, так что вот вечером и узнаем, как у них с этим дело обстоит. Но вот на будущее – ходи теперь вот…вот… - Фэрбенкс провёл толстым пальцем прямую черту поперёк стола, - вот так вот теперь ходи! Ничего не нарушай! А то ведь, если про это пронюхают, да опять повод дашь, да из тебя жупел сделают, я ведь, Ости, тебя защитить не смогу… Меня ведь вынудят тебя уволить. Имей в виду. Да, и дело по контрабандистам мы передаём в китайский отдел, ты занимайся своим делом. Вот прямо сейчас и начинай заниматься. Иди, Ости, и в пиратов больше не играй. В то время, пока Остина распекал шеф, Ричи спустился в изолятор и, сообщив Лю о взятии контрабандистов и передав ему все инструкции, отвёл бандита в гараж, где его усадили в машину и по его просьбе отвезли на южный шанхайский вокзал, где он взял билет до шанхайского пригорода Цзиньшань (завтра вернусь, пообещал Лю, нужно будет показать билет как доказательство, что действительно скрывался в деревне). Отправив Чжана в дом семейства Яо и передав дело с контрабандистами китайским полицейским (инспекторам Вану и Ляо), Остин с Ричи принялись ждать вестей из Нанкина и китайской и французской полиции. Звонка из столицы всё так же не поступало, зато после обеда позвонил майор Чжао и сообщил, что китайской полиции удалось выяснить некоторые подробности о Ли Дуне. По слова майора Чжао, живёт Ли Дун очень небедно и имеет несколько домов в китайской части города, а также две квартиры в Сеттльменте и один особняк в Французской концессии. Ли Дун является учредителем и директором строительной фирмы «Тяньфан», то есть «Небесный дом», в основном занимающейся строительством и восстановлением домов в районах, пострадавших от японской агрессии в 1932-м году, а также в пригородах Шанхая и городе Сучжоу. Ли Дун является выходцем из Ланьчжоу, центра провинции Ганьсу, и поэтому должен иметь, - уверенно заявил майор, - хорошие связи с хуэйцзу, этническими китайцами-мусульманами, которых в тех краях немало. Непонятно, чем подобная информация могла помочь: хуэйцзу были, конечно, и в Шанхае, но какой-то силы не представляли и в основной своей массе работали в популярных среди местного населения ресторанчиках северо-западной китайской кухни, подающих шашлык, лапшу с бараниной и лаваш с пряным бульоном. Есть у Ли Дуна и брат, Ли Фэн, этот тоже большая шишка, коммерческий директор филиала банка Нинбо в Шанхае – именно там Ли Дун брал кредиты на строительство, под выгодные проценты, надо полагать. Распрощавшись с майором Чжао, Остин решил сам позвонить французам и поинтересоваться насчёт отпечатков пальцев, которые он вчера послал им с курьером. Марсель ответил, что среди отпечатков на ящиках в Янцзыпу, не принадлежащих взятым бандитам, было два отпечатка, встречающихся и на ящиках в апартаментах «Вашингтон», но кому они принадлежали, сказать было нельзя. Дело у французов продвигалось, судя по всему, ни шатко, ни валко, что объяснимо в силу меньшего количества зацепок. Грузовик объявили в розыск, что было мерой достаточно бессмысленной, так как чёрных фордов АА по городу ездило несколько сотен, если не тысяч. Проверили риэлтерскую фирму, через которую была снята квартира в апартаментах: тут съёмщика помнили, китаец средних лет, снял квартиру пару недель назад. Проверили и работников бойлерной – один, по имени Мао Ю, ушёл как ни было, двоих других нашли и сейчас допрашивают, но они, судя по всему, отношение к грузу имели лишь в том смысле, что (небезвоздмезно, надо полагать) закрывали глаза на то, что их коллега использует служебное помещение как склад. Впрочем, эти люди представляли интерес хотя бы тем, что знали Мао Ю лично и могли что-то о нём рассказать. Чжан вернулся только к четырём часам, уже переодетым в штатское (видимо, заехал домой) и доложил, что господин Яо наотрез отказался пускать его к своей внучке, поэтому девчонку пришлось караулить чуть ли не в подворотне, рискуя поднять шум и быть обвинённым в попытке изнасилования (то-то был бы номер). Представившись другом Шаохуа, Чжану удалось выяснить, что дурочка влюблена в бандита по уши и очень за него волнуется и переживает. На расспросы, что же сейчас с Шаохуа, Чжан ответил, что у парня проблемы и поэтому ему пришлось на время уехать из Шанхая, но ответы Линьлинь могут помочь его успешному возвращению. Линьлинь сообщила, что знает Шаохуа три месяца и восемь дней, что он очень добрый и хороший человек, хотя временами и вспыльчивый. Занимается он, по её словам, Большими Делами, конечно, опасными, поэтому она за него так и переживает. Познакомились они, по её словам, через общего знакомого, троюрдного брата Линьлинь, Жуй Шаня, который работает поваром в едальне в Чжабее. Кроме этого, она знает его младшего брата, Лю Гуана, который тоже достаточно милый человек, только разве что слишком любит драться, и ещё одного его знакомого по фамилии Ван, но того она видела только пару раз и ничего о нём не знает. Слежка за домом Лю Гуана также была установлена, но судя по всему, пока дома он не появлялся, так как света в его окнах не загоралось - впрочем, стопроцентно гарантировать тут было нельзя, так как в лицо Лю Гуана констебли, посланные следить за домом не знали. Номер вечерней «Синьминь ваньбао» обнадёжил: против ожиданий, передовица была посвящена не страшному нарушению международного договора кровавым инспектором Рейнольдсом, а всего лишь завтрашней демонстрации под стенами суда, рассматривающего дело о каких-то домах в Хункоу, которое Гонконгско-Шанхайский банк вёл против жильцов этих домов. Впрочем, совсем утаить от китайских журналистов происшествие с буксиром всё-таки не удалось: полоса второй страницы была посвящена этому происшествию и нарушению границы шанхайской таможней. При этом фамилий Рейнольдс (Ле-ни-те-сы иероглифами) и Ричи (Ли-цзи) нигде не было, равно как и не было вообще упоминаний о том, что в операции принимала участие муниципальная полиция – похоже, что на этот раз китайские щелкопёры дали маху.
-
- Офигенное заявление
- Суровый, но понимающий начальник
- Водяра с женьшнем
- Очень правдоподобная девчонка
- Удача с газетчиками
- Куча мелких подробностей, вроде тех же хуэйцзу
И все это - внимание! - в одном посте!
|
- Нас четверо на джонке! - ответил Остину контрабандист, коренастый лысый китаец средних лет, судя по выговору - уроженец южных провинций. - Один раненый! Весь груз в трюме!
На вопрос Остина Чжан только молча кивнул, конечно, мол, справлюсь, хотя в том, был ли у него хоть какой-то опыт судовождения, можно было сомневаться.
- Да нет, я сам её отведу, - сказал Джеффри и по-хозяйски полез на борт джонки. - Ну-ка, парень, кинь мне канат, - на хорошем китайском обратился он к Чжану, - сейчас нашу лодочку привяжем и вместе поедем.
Остин с Чжаном и констеблем последовали за Джеффри, забрались на палубу, где встретились с Ричи, двумя другими констеблями и таможенником Фредом (всё ещё с револьвером в руке), забравшимися с левого борта.
- Ты какого хрена здесь делаешь? - обратился Джеффри к Фреду, закончив привязывать свой катер к джонке. - Слезай назад в лодку, вон, сгоняй к буксиру, посмотри, что там у них.
Буксир пыхтел, медленно отходя к пудунскому берегу. Можно было надеяться, что до берега-то он точно дотянет, да и сигнала бедствия с "Шэнь Янмина" слышно не было. Фред горестно вздохнул и полез было назад в катер, но остановился на полпути.
- Я ж по-китайски не говорю! - обратился он к Джеффри, выглядывая по плечи из-за борта джонки. - Что я им скажу?
- Придумай что-нибудь, - ухмыльнулся в усы таможенник. - Иди-иди, как раз сейчас много новых слов выучишь.
Фред неразборчиво выругался, спустился в лодку, завёл мотор и поплыл на помощь китайцам.
На троих здоровых контрабандистов одели наручники, свели их на корму и оставили констебля, сменившего вящей грозности ради винтовку на автомат Чжана, караулить их. Раненого в плечо китайца, молодого парня, похоже, тоже южанина, уложили на палубу и перевязали найденными в судовой аптечке бинтами.
- Хорошая лодочка, - заметил Джеффри, становясь к штурвалу в рубке. - И не помялась почти. Жалко китайцам-то будет отдавать, потом всё равно продадут каким-нибудь таким же, опять будет дрянь всякую к нам возить.
Таможенник завёл дизель, и "Хун Цзю" с катером на буксире неторопливо двинулась к левому берегу.
Остин, Ричи, Чжан и два констебля спустились в трюм, в котором стояло с несколько дюжин больших холщовых тюков вроде того, что выбросили в воду контрабандисты, и деревянные ящики с бутылками. В ящиках оказалась корейская двадцатиградусная водка соджу, а, разрезав один из тюков, полицейские обнаружили утяжелённые кирпичами коробки с женьшенем - основным предметом экспорта из Кореи в Китай. Ни опиума, ни оружия, к сожалению, обнаружить не удалось, что в некотором смысле объясняло, почему контрабандисты так быстро сдались: за неуплату пошлины на подобные товары им светило несколько лет тюрьмы, но всё же не виселица, а если учитывать их дружбу с китайской полицией, они могли надеяться и на ещё более великодушное решение китайского суда.
-
вот так вот рискуешь жизнью, палишь в китайцев, волнуешься, а на борту - пшик.
обидно. но ведь всё всегда чуточку сложнее, чем хотелось бы, верно? :)
|
-
экшон, динамика, детективные страсти, хорошие посты.
ты вкусен, Мафсе нрайца ^___^
|
-
Сегодня я прочитал лучший "научно-образовательный" пост(а такие были) за всю историю ДМа.
-
|
- Осторожнее, девочки, там у него труп, - всё так же напряжённо, сквозь зубы, вполголоса сообщил Джимми Беатрис и полуживой от страха Эмили. - Не запнитесь. Джимми подхватил обеих дам за локоть и провёл мимо стоящего в дверях похотливо скалящегося гангстера, через прихожую, внутрь, в гостиную, такую же, как у Эмили с Беатрис, только мебель тут была, хоть на вид и проще, но явно дороже, в уже выходящем из моды, но всё ещё актуальном конструктивистском стиле "de stijl": было видно, что здесь живёт (или лучше уже сказать - жил?) именно итальянец, а не какой-нибудь датчанин или грек. Поперёк большого однотонного красного ковра на полу ничком лежало тело мужчины средних лет в рубашке и чёрных брюках, судя по таким же, как у Марио, чёрным волосам и густой средиземноморской щетине, тоже итальянца. Щетина у человека растёт ещё и после смерти, интересно, этот перед смертью был брит или нет? - могла бы пронестись мысль в голове кого-нибудь из друзей. Волосы на затылке мужчины запеклись от крови, на спине также краснело пятно. Джимми переступил через труп, аккуратно помог Эмили, которая, казалось, вот-вот упадёт в обморок, обойти тело, обнял, прикрыл ей глаза ладонью, сказал по-китайски: "Тихо, не смотри", затем обернулся к сопровождавшему их гангстеру: - Может быть, нам можно в другую комнату пройти, а? - и кивком указал на дверь в соседнюю комнату, наверное, кабинет. В этот момент на кухне худой гангстер включал радио. Радио было настроено на Нью-Йорк, и Нью-Йорк в это предполуденное там время транслировал известную мелодию "Putting on the Ritz" в исполнении оркестра Билли Коттона ( ссылка), как раз то, что было нужно. Ли Сю с нехорошей ухмылкой на лице двинулся к Марио. Прижав голову несчастного Марио коленом к полу, откинув пинком попавшую под ноги моку и жестом приказав громиле держать итальянца, чтобы не дёргался, Ли Сю принялся сосредоточенно и деловито отрезать Марио ухо, а вокруг весело завывали тромбоны, и Билли Коттон жизнерадостно пел:
"Если ты грустишь и не знаешь,
куда податься, почему бы тебе не пойти
туда, где собираются все модники,
одетые, как из отеля Ритц!"Отбросив отрезанное ухо в сторону, Ли Сю развернул Марио на другой бок и, перекрывая музыку, принялся орать ему в лицо. Марио ничего не отвечал, а только зажимал правую сторону головы обеими руками, из-под которых струилась кровь, отчаянно водил глазами вверх и вниз, взад и вперёд, мелко и часто дышал, стонал и дрожал всем телом. Когда Ли Сю приставил нож к левому уху итальянца, тот инстинктивно перехватил его руку окровавленными ладонями, стремясь оттолкнуть от себя.
|
20.10.1935, воскресенье, 19:00
Шанхай, Международный сеттльмент,
Центральное управление Шанхайской муниципальной полицииВстретившись с Чжаном в 8 утра у паромной пристани на французской части Бунда, Остин с напарником сели на полупустой по воскресному дню плоскодонный паром и, устроившись под закрывавшим палубу железным навесом, поплыли в Пудун через мутную и грязную Хуанпу, по которой туда-сюда сновали баржи, джонки и сампаны. Глядя на весь застроенный пристанями и доками восточный берег реки, Остин понимал, что лёгкими поиски не будут. Район Пудун был, пожалуй, самым грязным местом Шанхая, ещё грязнее Китайского города: близ берега район был застроен одно-двухэтажными деревянными, редко - кирпичными зданиями, в основном складами и портовыми конторами и грязными кабаками, такими непрезентабельными, что даже не отличающиеся разборчивостью моряки сюда не заходили, а пили и ели в основном только матросы речных барж и владельцы сампанов, дно дна. На белого презентабельно одетого человека с тростью здесь глядели во все глаза - в центре Шанхая тоже, конечно, глазели, и за четыре года Остин успел к этому привыкнуть, но здесь глазели совсем откровенно: оборачиваясь, вполголоса комментируя, и наверняка ещё и пальцем за спиной показывали. Поиск занял почти весь день: от ланча в таком неприятном месте было решено отказаться, но, когда к четырём часам джонку всё так и не нашли, было решено найти, наконец, какую-нибудь более-менее приличную едальню и пообедать там. Пообедав в, против ожиданий, достаточно приличном месте (тут они были, просто надо было отойти вглубь берега, где начинались заводы, фабрики и жилые кварталы - хорошо, что с Остином был Чжан, он-то эти места здорово знал), полицейские снова принялись за поиски. "Хун Цзю" удалось обнаружить только к шести вечера: указанная джонка, действительно двухмачтовая и, судя по короткой трубе в середине корпуса, действительно дизельная, стояла на приколе у одной из пристаней в глубине берега, связанной с рекой узким каналом. Огней на джонке не было, людей ни на ней, ни караулящих рядом, видно тоже не было. Обрадованные тем, что изнурительные поиски наконец-то увенчались успехом, Остин с Чжаном поспешили вернуться в пустое управление, где их встретил взволнованный Ричи, сообщивший, что вот только что, минуту назад, звонил Марсель Жерарден и сообщил, что французская полиция провела свою операцию по захвату схрона с оружием. Остин, не медля, перезвонил Марселю, который снял трубку тут же: - Да, да, Остин, - подтвердил слова Ричи Марсель. - Действительно, Воробушек нам сегодня позвонил и сообщил, что на этот раз бандиты оборудовали свой схрон у нас. У нас, к сожалению, так гладко, как у вас, не вышло: все ушли, кроме одного, которого наши аннамцы пристрелили. Но оружия и взрывчатки мы тоже взяли - будь здоров. Ещё и денег нашли: тридцать тысяч долларов, местных конечно, но всё равно, представь себе - тридцать тысяч долларов у этих голодранцев откуда-то! Ты завтра с утра заезжай, сам посмотришь на всё, мыслями поделишься.
-
Вот прямо радуюсь, что не торопил!
Шикарно же!
И лодочка-красавца, и сюжет опять виток делает!
Тока жаль для Ричи в посте нету ничего почти.
|
|
Как только Беатрис встала из кресла и двинулась к выходу, Эмили немедленно оставила котёнка сидеть на диване и пошла за ней, неотрывно, тенью следуя за подругой. И вот так всегда, между прочим - так она всегда по жизни и ходит, никогда сама, всё время за кем-то, то за отцом, то за тобой, теперь вот ещё за Джимми.
Джимми скептически посмотрел девушкам вслед. Ему вся эта затея с Марио не нравилась, и Марио сам тоже не нравился, но что уж делать, если женщины всегда всех жалеют, это природа у них такая, инь, тьма в противовес свету, неподвижность в противовес движению, мягкость в противовес жёсткости, ну и вот жалость в противовес агрессии тоже. Что уж тут поделать, не отпускать же их одних к этому маньяку. Джимми вздохнул и пошёл за девушками, не вынимая трубки изо рта.
Беатрис спустилась по лестнице на пятый этаж к квартире №10. Дверь была открыта, и из комнаты доносился странный звук, напоминающий более не плач, а тоскливый волчий вой или заунывную буддийскую мантру, или, может быть, монгольское горловое пение - жутким и странным было это негромкое, отчаянное и монотонное "ыыыыыыыы", доносящееся откуда-то из глубины квартиры.
Делать было нечего, и Беатрис с Эмили и Джимми позади вошли внутрь. В прихожей было темно, но даже в свете из входной двери было видно, какой хлам царит у Марио в квартире: несколько пар ботинок лежали вперемешку под вешалкой, а рядом с ними - упавшее с крючка летнее пальто, на трюмо под большим зеркалом - куча разных флаконов и баночек медицинского вида, из некоторых лекарство было разлито (так вот почему так пахнет больницей). Двинувшись внутрь, Беатрис запнулась о разбитый будильник.
На кухне горел свет, и вой доносился именно оттуда.
Марио лежал ничком на полу, обхватив голову руками, и протяжно и монотонно выл. Мока, устройство для приготовления кофе на пару, лежала рядом, тут же лежала и жестянка, из которой по всему полу рассыпались зёрна. Рядом лежал кухонный нож.
-
Блин!!! А я думал, в этой аетке экшена не будет!!!
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
За искреннюю любовь к деталям)
Ну и за игру.
|
Джимми лишь флегматично перемешивал карты, с ироничной полуусмешкой поглядывая то на Беатрис, а то на Марио. Похоже, вся ситуация его немало забавляла. Эмили тихо присела на диван, всё так же держа на руках котёнка, а гость нелепо стоял в середине комнаты, видимо, ожидая, что ему кто-то предложит присесть.
- Я-то? - переспросил Марио. - В этом доме или в Шанхае? А вообще-то одинаково, и здесь, и в Шанхае три года уже.
На несколько мгновений установилось тягостное молчание и казалось, что сейчас гость повернётся и уйдёт, и всем от этого будет только лучше.
- А вы присаживайтесь, присаживайтесь, - подала голос Эмили, указывая гостю на место за столом. Марио как-то виновато улыбнулся и боком уселся на стул, положив локоть на спинку. И снова установилось молчание, гость недвижно смотрел куда-то в стену, мимо всех присутствующих, медленно водя пальцами по деревянной спинке стула.
- Может, кофе сварить? - предложил Джимми.
- А давайте я сварю. - встрепенулся гость. - Я неплохой кофе умею делать. У вас мока есть?
- Что есть? - не поняла Эмили.
- Нет, моки у нас нет, - ответил Джимми. - Есть турка. Кофе тоже есть, моки нет.
- Плохо, - протянул Марио. - А давайте я вам из дома моку принесу!
- Ну принесите, - пожал плечами Джимми. - Кофе тогда уж тоже захватите свой.
Марио как-то странно посмотрел на Джимми, не в силах разобраться, серьёзно он говорит или издевается.
- Я скоро приду, - и вышел из квартиры, оставив дверь открытой.
- Вот что ты какой вредный, Джимми! - обернулась к художнику Эмили, как только шаги Марио застучали по лестнице. - Зачем ты его так? Он, по-моему, очень несчастный человек, а ты над ним ещё больше издеваешься.
- Я не издеваюсь, - сказал Джимми и принялся набивать трубку. - Он сейчас эспрессо-машину ещё принесёт, вот увидишь.
Трубку Джимми раскуривал долго, какие-то спички плохие попались: одна сломалась, другая вспыхнула и погасла, третья вовсе отказалась загораться, и только с четвёртой попытки Джимми таки удалось закурить, и теперь он, стоя у окна, открыв одну створку, попыхивал трубкой в прохладный шанхайский вечер, глядя на освещённую Тибет-роад под окном, заполненную автомобилями, рикшами и людьми, а ещё гудками, криками и шумом, и тёмную громаду Публичного парка дальше - на полях для крикета и гольфа не было ни огонька, и только в стороне, где, собственно, и был сам парк, горели фонари, а ещё дальше снова начинался город, бесконечное море пяти-шестиэтажных зданий со множеством горящих окон, а под ними фонари, свет от окон ресторанов и витрин магазинов, фары автомобилей, а выше серп Луны, почти горизонтально, и несколько тусклых звёздочек, город всё-таки, тут не до звездочётства.
В комнате было тихо, только доносился приглушённый шум города из-за окна, тикали часы на стене, да котёнок со своей неуёмной детской энергией игрался с рукавом платья Эмили, и та с улыбкой подводила руку ближе, и, когда котёнок протягивал лапки, чтобы схватить спадающий край рукава, уводила назад, и котёнок смешно падал Эмили на колени, но тут же поднимался, чтобы снова приняться за игру. Джимми с трубкой в зубах безразлично обозревал улицу под окном, прислонившись плечом к раме и заложив руку в карман брюк, Беатрис сидела в кресле, наблюдая за Эмили и котёнком.
Трудно было не поймать себя на мысли, что последнее желание, загаданное Джимми, оказалось совсем не к месту, и появление странного Марио разрушило всю весёлую атмосферу дружеской компании, и даже если сейчас снова сесть втроём за стол - не получится уже снова так играть.
Время шло и шло, а Марио так и не возвращался.
-
У меня нет слов чтобы описать, как нравится твой подход к игре...зачитываюсь каждым постом....вот )
|
Приоткрыв дверь кладовки, Стэн с Максом вышли в светлый и просторный коридор университетского общежития - только чтобы наткнуться на проживающую в соседней от Стэна комнате первокурсницу Джесси, возвращающуюся, видимо, из Вол-мартса с пакетами, набитыми всякой снедью и пивом, в руках. Видимо, Джесси готовилась к вечеринке, на которой и сам Стэн не отказался бы поприсутствовать, если бы не события последнего дня.
- А вы что там делали? - с удивлением воскликнула Джесси, увидев двух парней, выходящих из кладовки.
- Сексом занимались, конечно, - не моргнув глазом, ответил Стэн. - Ты опоздала, милая. В следующий раз быстрее беги, может, успеешь поучаствовать.
Оставив девушку наедине с собственными мыслями по поводу странного поведения её соседа (который, по правде сказать, нормальностью никогда не отличался), Стэн с Максом направились к двери комнаты 512, где проживал Стэн.
Как и в большинстве американских общежитий, повышенным комфортом комната Стэна не отличалась: здесь был общий туалет с душем и небольшая комната, в которой стояли две поднятые на уровень головы кровати с лестницами, а под ними - письменные столы, полки для книг, шкаф для одежды (один на двоих) и небольшой холодильник, также общий.
Гарри, разумеется, был дома, сосредоточенно пялясь в монитор, на который был выведен какой-то вордовский файл с кучей формул и графиков.
- Привет, Гарри! - Стэн весело помахал рукой, заходя в комнату.
- Привет, - бесцветно откликнулся азиат, лишь на секунду оторвавшись от экрана.
Стэн проследовал к своему столу, заваленному учебниками, книгами, пластиковыми ёмкостями от готовых салатиков из Seven-Eleven и коробками от печенья, выгреб из-под груды хлама ноутбук, взял из-под стола рюкзак и сунул ноут в него.
Немного подумав, Стэн стащил футболку и, щеголяя не очень мускулистым торсом, направился в ванную, где тщательно вымыл грязную морду лица, а затем надел новую футболку.
- Пока, Гарри! Удачно отдохнуть! - Стэн подхватил рюкзак и направился к выходу из комнаты. В этот раз Гарри не удостоил его никаким ответом, даже чисто формальным.
- Ты знаешь, я, по правде сказать, его боюсь, - поделился Стэн с Максом по пути к двери кладовки. - Это ж, блин, тип маньяка. Он сидит-сидит всё время вот так за компом, а потом, бац! вытащит какую-нибудь пушку и убьёт меня! Как тот кореец. Или изнасилует. Или сначала изнасилует, а потом убьёт. Или...
Неизвестно, до каких логических умозаключений мог дойти пытливый ум философа, если бы как раз в этот момент Стэн с Максом не добрались до двери кладовки.
-
Шикарно) не только за этот пост, но и за прошлые. За особый стиль письма, в котором с легкостью угадывается интонация персонажа. Есть немного голливудщины, но она здесь к месту, все таки по сериалу играем)
|
-
Еще в самом начале хотел плюсануть за все русское трио!)))
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Если это не шедевр, то я не знаю что такое шедевр.
-
да, мастер и вправду талантлив, усидчив и вообще весьма хорош.
мне нрайца ^^
|
-
Эту ветку я не хочу заканчивать, уж до того всё хорошо и интересно идёт. А потом, надо бы тебе и разобраться, что ты там такое нарыл на Ист-Юйхан-Роад, и с Маком тоже разобраться.
Да не вопрос!!!
Реально очень круто играть!) Правда, с кубами прет непомерно, но, думаю, если бы не это, было бы не менее здорово (тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить :)))).
За ветку плюс адназначна!
Так сказать неприкрытый и разнузданный экшон получился на славу, да еще и с такой мастерски поданной атмосферой! Красота!
|
- Ну как знаешь, - хмыкнул Иванкевич.
С тех пор в простую солдатскую душу капитана запали зёрна подозрения: как же так, безработный эмигрант, бывший солдат, здоровый и крепкий на вид, отказывается от такого выгодного места - только для того, чтобы сидеть на одном месте и ничего не делать?
Своих подозрений Иванкевич старался не показывать, но, несмотря на свою любовь к театру (который он действительно посещал каждую неделю), с актёрскими данными у него было туговато, и его подозрительный вид был очевиден всем и каждому.
В остальном капитан старался вести себя с Сергеем как прежде и продолжал выуживать у того деньги с искусством, достойным цыгана: всякий раз, когда Иванкевич куда-то направлялся, у него в кармане чудесным образом не оказывалось мелочи на рикшу или трамвай - и капитан поднимался к Сергею спросить десять или двадцать центов. В такой мелочи отказывать было совсем неудобно, и к октябрю долг капитана перед Сергеем достиг уже тридцати долларов. Иванкевич, видимо, всерьёз рассчитывал, что Сергей не будет помнить о каждой выданной капитану копеечке, но в денежных вопросах Сергей был необыкновенно щепетилен и регулярно выставлял капитану счёт, который тот, скрепя сердце, частично погашал - только чтобы на следующий день приказным тоном потребовать у "сержанта Шпагина", как он его звал, ещё копеечку на трамвай.
Мадемуазель Волкова, которую никто уже и не чаял увидеть в доме мадам Поповицкой, неожиданно вернулась в августе после своей размолвки с женихом - дистрофичным длинноволосым евреем в очках, студентом университета Фудань Гришевским, который теперь постоянно прибегал к ней, умоляя вернуться, чем вызывал искреннее любопытство и даже жалость жильцов. Снова заняв первый нумер, мадемуазель Волкова немедленно принялась строить глазки скрипачу Олегу и самому Сергею, но, видимо, только для того, чтобы позлить своего ухажёра, который действительно злился, искренне и пламенно, и, пунктуально простаивая на коленях перед дверью первого нумера ровно час в день, умолял "Машеньку, рыбку" вернуться к нему в мансарду под крышей рядом с университетом. Женское сердце рыбки Машеньки не устояло, и в сентябре мадемуазель Волкова таки снова съехала к жениху с твёрдым намерением в скором будущем стать мадам Гришевской.
К этому времени частная жизнь мадемуазель Волковой уже стала излюбленной темой для обсуждения постояльцев Поповицкого дома, и Игнатий Петрович даже заключил пари с Иванкевичем, как долго протянется этот её отъезд: Иванкевич говорил, что к тому времени, как она снова порвёт с женихом, её комната уже будет занята новым постояльцем, Игнатий Петрович же утверждал, что нет. Выиграл Игнатий Петрович: в октябре мадемуазель Волкова вернулась в свою комнату со своими чемоданами и шляпными коробками, которые за ней понуро тащил студент Гришевский. Иванкевич попытался было записать проигранные десять долларов себе в долг, но Игнатий Петрович вцепился в капитана мёртвой хваткой и потребовал отдавать долг немедленно, что капитан нехотя сделал, выдав Игнатию Петровичу самую мятую и жёваную десятку из сложенных у него в жестяной коробке от конфет (Иванкевич на что-то копил деньги).
В сентябре Сергей стал жертвой квартирного взлома: в то время, когда он обедал в китайской едальне, взломщик открыл отмычкой дверь и основательно порылся в его вещах, забрав небрежно оставленные на столе двадцать долларов, но не тронув пистолета. Услышав о краже, Иванкевич поспешил обвинить в ней Митеньку и этим же вечером его избил, как тот ни божился, что это не он, и вообще ему воровать запрещает религия.
Музыкант Олег в общественной жизни дома участия принимал мало, днями и ночами пропадая где-то на стороне, где, как говорили, он собрал свой собственный оркестр (оркестр! - с уважением поднимал палец Игнатий Петрович, - такой молодой, а уже дирижёр!) и выступал по кабакам и кабаре.
Самого Игнатия Петровича в сентябре постигла тяжкая утрата: после долгой и мучительной болезни скончалась его старая кошка Муська, которую он называл "последним кусочком России": по его словам, он подобрал её в 22-м году, совсем котёнком, во Владивостокском морском порту, уплывая из России навсегда. Похоже, что кошка была единственным существом, которое этот сухой, желчный и очень одинокий старичок любил, и которое любило его в ответ. После этого Игнатий Петрович стал ещё желчней и язвительней, в открытую оскорбляя Митеньку (который, как выяснилось, был его двоюрдным племянником) и его религию, будто бы нарочно нарываясь на конфликт со всем мировым исламизмом.
Мировой исламизм в лице Митеньки-Магометушки на оскорбления реагировал тем, что грозил Троицкому страшными муками в аду, а также воздаянием ещё на земле. При этом Митенька был настолько жалок, беспомощен и в глубине души интеллигентен, что его не хватало даже на то, чтобы насрать Троицкому под дверью, и он только ругался на него, а потом бывал бит Иванкевичем.
Так наступил октябрь, жара спала, закончились и дожди, и установилась чудесная южнокитайская осень, похожая на среднерусский август, только с постоянной солнечной погодой.
-
хорошо. красиво. впечатляет. всё соответствует "классике". ну, конечно, кроме "насрать под дверью", да ^^
|
-
Классный флэшбэк получился
Коварные японцы, все такое)
Жалко, до пальбы не дошло)))
|
15.10.1935, 01:15
Шанхай, Французская концессия, рю Лагран, дом По Сицина.Маленькую тёмную гостиную заволакивал тяжёлый табачный дым, обе пепельницы были переполнены, и многие гости уже и не утруждали себя положить окурок туда, а кидали на паркет - всё равно завтра нужно будет убираться, и не им. - Откройте кто-нибудь уже окно, - хрипло по-английски попросил По Сицин, грузно развалившись в кресле. Здесь всегда так: шумная компания друзей По Сицина (или Джона По, как его больше знали), друзей и непонятных знакомых, всегда неизвестно как притирающихся к компании, и не выгонишь потом. Нет, надо уезжать отсюда, слишком шумно, слишком весело, слишком грязно. Алкоголь уже закончился, и пустые бутылки из-под виски и пива в беспорядке стояли и лежали на полу рядом с патефоном, около которого кучей были свалены пластинки, в конвертах и без, которые как-то бестолково и быстро меняли, не дослушав ни одну до конца, пока всем не надоело. На низком столике в середине гостиной стояли толстостенные стаканы с тающим льдом, а некоторые - и с окурками внутри. Потолочную лампу погасили, и теперь комнату освещал один лишь торшер в углу, да мягкий жёлтый свет шкалы массивного "Телефункена", из которого лился волшебный Малер, бесконечно грустная и красивая фортепианная партия из "Песен об умерших детях" ( ссылка). Гости, и в первую очередь - незваные, почуяли, что вечеринке конец и халявного виски больше не будет, и один по одному тихо улизнули, может, прожигать жизнь в других местах, а может, к себе домой, спать. В гостиной осталось лишь пятеро человек. Юный русский музыкант Олег, ещё моложе Беатрис, недавно переехавший в Шанхай из Харбина, совсем умаялся и уснул, запрокинув голову на спинку дивана и смешно раскрыв рот. Эмили По сидела рядом, склонив голову на плечо художника-карикатуриста Джимми Чена (Чена Гуйшэня, если по-китайски) и медленно водила пальчиками по его раскрытой ладони. Джимми, похоже, тоже уже задрёмывал с недопитым бокалом тёплого пива в руке и трубкой в зубах. Беатрис сидела в кресле в углу у торшера и тихо перелистывала новую оперную партитуру, которую Джон выписал из Америки авиапочтой и которую привезли на днях, и сам Джон ещё не ознакомился с новинкой. Джордж Гершвин, "Порги и Бесс" - говорило заглавие книжки. - Да, дети мои... - прокряхтел Джон По. - Это, - гитарист медленно повёл пальцами с зажатой в них папиросой в сторону приёмника. - Это музыка, а у нас говно. Таким Джон По был в последнее время - постаревшим и разочаровавшимся во всём, и выглядел он теперь лет на шестьдесят вместо своих сорока пяти, и отпустил тонкие вислые усы и бородку клинышком по старинной китайской манере, как бы признавая и подчёркивая свою старость. Играл Джон По теперь без огонька, как бы машинально и без интереса, и партитура Гершвина лежала на столике под торшером уже три дня, и он к ней даже не притронулся, а только день за днём прикладывался к виски или пиву или тому и другому вместе, и только весёлая компания сегодня вечером немного развеяла его тоску, и он снова шутил и по просьбам пристуствующих наиграл на рояле соло из старинного стандарта "The World is Waiting for the Sunrise" ( ссылка) , но потом снова впал в меланхолию, и Малер, похоже, только укреплял старого китайского джазмена в его настроении.
-
Необыкновенно красиво, так и чувствую себя гостем вечеринки, просто диву даюсь как ты умеешь так грамотно и досконально описывать обстановку и людей в ней. Браво!
|
|
|
От уныния воинов Шэнь Янмин решил спасать самым надёжным армейским способом: заставить всех вкалывать от забора и до обеда, чтобы на уныние времени не оставалось.
Для начала чиновник снарядил несколько групп солдат на телегах в экспедиции в близлежащие деревни, откуда по его приказу были реквизированы все железные чаны, котелки и кастрюли. Крестьянам было приказано оставить по одному котлу на три семьи, а остальную утварь установили на Стене, наполнив водой (дождь тут случился как нельзя кстати) и разместив под ними готовые к розжигу и укрытые от дождя дрова. В дополнение к утвари каждому солдату было приказано принести на стену по пять булыжников размером от двух кулаков и больше.
Кроме того, Шэнь Янмин отправил тяжелораненых из лазарета на подводах в ближайший город, а заодно написал тамошнему цзе ду-ши* письмо, запросив подкреплений: скорее всего, не даст, но попытка не пытка. Ещё чиновник попросил ду-ши загрузить порожние подводы, отправляющиеся назад, оставшимися с Праздника весны фейерверками: на то, что здесь цзе ду-ши поможет, надежды было больше.
После этого чиновник решил вспомнить опыт своего благородного отца и заняться земельными работами: солдатам было приказано разобрать дорогу непосредственно перед воротами с внешней стороны Стены (камни пошли на Стену) и вырыть яму глубиной в жень** - теперь варварам будет неудобно таранить ворота, если они додумаются до этого нехитрого тактического приёма.
Оставшееся свободным время солдат Шэнь Янмин приказал занять тренировками, за которыми наблюдал лично, следя за усердием и прилежностью солдат и офицеров. Чиновник прекрасно понимал, что солдаты то и дело поносили его самого и всех его родственников в самых цветастых выражениях, но расхолаживаться армии он твёрдо решил не позволять, ведь во всех трактатах сказано, что обленившийся и не знающий, чем себя занять, солдат хуже врага.
Пока армия ковыряла землю и занималась утварь-развёрсткой в деревнях, Шэнь Янмин приказал найти добровольцев-смельчаков для разведки: разведчикам было приказано, не приближаясь к лагерю врага, наблюдать за ним, оценить примерную численность и докладывать при любом его перемещении.
И всё-таки, несмотря на все приготовления, Шэнь Янмин не терял надежды, что Большой варвар всё же пойдёт на переговоры. Дурак, и почему он не появляется? Уж у него, цзиньши Шэнь Янмина, нашлось бы, что ему предложить. Вечером, лёжа в генеральской палатке, Шэнь Янмин неожиданно для себя, первый раз за несколько лет, начал молиться духу основателя рода Шэнь, Шэнь Яо, поднявшемуся из низов ремесленнику, закончившему свою жизнь преуспевающим купцом в тогдашней столице Срединного государства. "Пра-пра-пра-прадед Шэнь Яо, помоги", неслышно шептал чиновник, "надели меня хоть малой толикой своего умения находить подход к людям и договариваться с ними, ведь на кону больше, чем моя жизнь - успех всего нашего рода и чем он останется в истории Поднебесной."
На третий день Шэнь Янмин снова зашёл проведать рыцаря и был приятно удивлён, увидев того прохаживающимся по шатру.
- Молодец, Сяо По, молодец!*** - Шэнь Янмин взял из стопки рисовой бумаги листок, не садясь за стол, обмакнул кисть в тушечницу, быстро начертал на листке несколько иероглифов, взял со стола личную нефритовую печать с ручкой в форме дельфина, макнул её в тушь и приложил к бумаге. - Прими от меня десять лянов**** серебра и искреннюю благодарность! Тао Чжуси! Беги в полковую казну, возьми серебро! - Шэнь Янмин передал листок слуге.
- С добрым утром, могучий воин Во-Фа! - улыбнулся чиновник. - Меня ты, может, ещё и не видел, так что я представлюсь: третий среди лучших цзиньши Шэнь Янмин, в отсутствие генерала Хай Цао временно командующий этой армией.
-
утварь-развёрстка улыбнула)
|
|
Вы не можете просматривать этот пост!
-
Очень реалистично. В духе эпохи
|